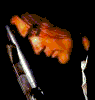Что же фиксируют переписчики, задавая вопрос о национальности? Не то, чего хотелось бы академическим исследователям. Это не сведения о принадлежности к "группе" или "народу", хотя, конечно, в анкетах есть информация и об этом. На бланках переписи значатся ответы о том, как респонденты причисляют себя к неким категориям (или наименованиям), которые в общественном дискурсе принято называть "национальностями", "нациями", "народами" и проч. При этом важно учитывать, что респондент может ассоциировать себя не с группой, а с наименованием, со "словом".
Что стоит за такой категорией? Очень разные явления и не обязательно - этнические. Когда человек указывает в переписной анкете, что он русский, то, возможно, он отвечает на вопрос о лояльности: ты чей? - русский. Такая ситуация характерна для многих городов, особенно столиц республик. Например, житель Сыктывкара, оба родителя которого - коми, говорит, что он русский, и это нельзя рассматривать как ложную информацию или как свидетельство полной ассимиляции. Просто в обстоятельствах переписного опроса и в условиях большого города (формирующего мотивацию на то, что следует считать престижным, выгодным и т.п.) респондент оказывается перед выбором и делает его (хотя такой выбор, возможно, не является окончательным). В Сибири, отвечая переписчику, опрашиваемые причисляют себя к татарам, поскольку их восприятие подготовлено: в школах - учебники из Татарстана, литературный язык - язык казанских татар, известны и другие пропагандистские усилия властей Татарстана. Но, указывая в переписи принадлежность к татарам, сибиряки проявляют не лояльность именно к этой республике, а, прежде всего, лояльность к идее татарской нации, демонстрируют приверженность к самому слову "татары". Если бы люди указывали в переписи свою причастность к "группам", то среди сибиряков было бы больше не татар, а эуштинцев, барабинцев, калмаков и т.д. Многие российские белорусы ассоциируют себя с государством Белоруссией, а не с "группой" белорусов. Отчасти то же характерно для украинцев. А если учесть, что многочисленные иностранцы в переписи заявили, что они - нигерийцы, алжирцы, индийцы и т.д., то тем более не стоит думать, что во всех случаях речь идет об этнической принадлежности или принадлежности к группе.
Все это я пишу для того, чтобы показать: перепись коренным образом отличается от сугубо научного исследования или социологического опроса. Я бы даже сказал, что перепись - это ненаучное исследование. Кто проводит перепись на низовом уровне? Полмиллиона слегка (а частью и вообще не) обученных людей, которые никакого научного или исследовательского интереса не имеют, да и результаты переписи для них остаются недостижимыми.
Поскольку перепись по своим методам, количеству и качеству исполнителей не вписывается в исследовательские каноны, нельзя и ожидать того, что результаты переписи представляют собой прямые ответы на научные вопросы. Если на один единственный пункт анкеты можно получить не два, как в случае с принадлежностью к полу, а свыше тысячи разных ответов (столько было получено во время переписи 2002 г. на вопрос о национальной принадлежности), то о какой же определенности может идти речь? Но, если так, почему же этнологи и прочие специалисты - потребители данных переписи, должны воспринимать цифры буквально?
Адресованный каждому жителю страны вопрос о национальной принадлежности оказывается отнюдь не универсальным и понимается в разных культурных, политических и семейных обстоятельствах по-разному. В итоге мы получаем некие обобщающие цифры, которые требуют колоссальных интерпретаций. Следует ли такие цифры рассматривать как непосредственные данные о народах, сообществах, группах? Очевидно, нет.
Сотрудникам Российской академии наук и специалистам Росстата необходимо окончательно преодолеть заблуждение по поводу того, что цифры переписи напрямую отражают количество и численный состав народов России. Если бы это было так, можно было бы говорить о практическом исчезновении в одном только Дагестане кайтагцев, кубачинцев, арчинцев и других. Арчинцев переписчики насчитали только 100 человек, а по наблюдениям этнографов, их не менее тысячи. Кубачинцев должно быть порядка 6 тысяч, а учтено менее сотни. Огромное несоответствие в отношении кайтагцев: ожидалось, таковыми назовут себя чуть ли не 30 тысяч, а получилось всего 5 человек - двое мужчин и три женщины...
Не нужно (и даже вредно) требовать от Росстата интерпретации переписных данных по вопросу о национальности. Это дело ученых, политиков, общественности, но никак не государственного статистического ведомства. Не только студент-переписчик не компетентен выявлять, какова принадлежность человека к какому-либо народу, но не обладает такой компетенцией и сама перепись. Задача более точного учета переписных категорий населения вроде бы является очевидной для статистики. Осталось только признать, что точность учета и единичность учета - это не одно и то же. Если национальная принадлежность человека не является однозначной, то, следовательно, фиксирование единичного ответа вместо множественного является ошибочным. Следовательно, и итоги переписи будут менее достоверными. Относительно некоторых дагестанских национальностей, итоги вообще оказались некорректными.
Если бы перепись была способна учитывать двойную национальную принадлежность, можно было бы избежать многих конфликтных ситуаций. Например, менее острыми были бы политические отношения в Башкирии, где накопилась масса жалоб на нарушения конституционных прав башкирских татар, не учтенных государственной переписью. После переписи 2002 г. татары в Башкирии даже сделали попытку провести самоперепись. Широко известны скандальные примеры с кряшенами в Татарстане.
Если бы перепись была способна учитывать двойную национальную принадлежность, не было бы такого большого количества лиц, не указавших свою национальность - почти 1,5 млн. человек.
Нужно учесть, что в нашей стране, как и в других бывших советских республиках, люди привыкли указывать национальность не по самоопределению, а просто одну национальность. Это - результат пропаганды советского времени, мол, все граждане СССР подразделяются на нации и народности и человек не может "находиться" сразу в двух нациях. Подтверждением тому служили паспортные данные, где указывалась только одна национальность.
Исследования показывают, что российское общество более восприимчиво к идее учета множественной национальной принадлежности, чем это может показаться.
Весной и в начале лета 2008 г. Институт этнологии и антропологии РАН и Сеть этнологического мониторинга опросили столичных жителей в 14 субъектах федерации - по два в каждом федеральном округе. Был задан вопрос: Может ли человек иметь две или более национальности? Почти половина респондентов дали отрицательный ответ: "нет" - 36%, ответ "такого не должно быть" - 12%. Но другая половина дала утвердительный ответ: однозначно "да" - 21%, "в некоторых случаях, да" - 21%. Десятая часть опрошенных не дала никакого ответа. Это намного больше, чем ожидалось.
Примерно равное соотношение тех, кто приемлет, и тех, кто не приемлет множественную национальную принадлежность, естественно, проявляется не повсеместно. В одних регионах резко преобладают те, кто считает, что такая принадлежность у человека может быть только одна. Особенно много таких высказываний в Грозном (78%), Якутске (64%), в Горно-Алтайске (53%).
В иных регионах, наоборот, больше тех, кто считает, что национальная принадлежность у человека может быть неоднозначной. Особенно заметна доля таких ответов в Сыктывкаре (49%), в Омске (48%). А в таких городах, как Москва, Оренбург, Пятигорск, Екатеринбург, Хабаровск, распределение мнений примерно равное и соответствует общероссийской картине. В целом же по российским регионам доля тех, кто настаивает на однозначной национальной принадлежности (48%), оказалась намного ниже, чем представлялось специалистам.
В ходе того же исследования респондентам был задан вопрос: возможно ли, что в течение жизни человек меняет свою национальность? Твердое "нет" дали 46%, затруднились ответить 19%, но треть опрошенных ответили на вопрос утвердительно. Все это свидетельствует о том, что понимание национальной принадлежности как единичной и неизменной категории отнюдь не является в России абсолютно доминирующей идеей. Следует еще учесть, что во время переписи 2002 г. некоторая часть населения указывала национальность "россияне". Такие ответы не были подсчитаны Росстатом, однако материалы переданы в Институт этнологии и антропологии РАН (в 2008 г.) для анализа, благодаря которому выяснилось, что категории "россиянин" и "россиянка" не являются эпизодическими и могут быть учтены наряду с другими вариантами ответов. Имеется много признаков того, что количество людей с такой идентичностью в дальнейшем будет увеличиваться, но это отнюдь не означает, что этот процесс связан с вытеснением прочих вариантов самоопределения. Вот данные нашего исследования. В ходе упомянутого опроса, один из пунктов социологической анкеты звучал так: Не отрицая своей национальной принадлежности, могли бы Вы также сказать о себе: "Моя национальность - россиянин"? Ответы были следующими: "да" - 58%, "да, если нахожусь в другой стране" - 17%, "нет" - 17%, "затрудняюсь ответить" - 8%. Это, что касается данных по стране в целом. А вот, например, итоги опроса в г. Грозном, где практически все опрошенные указали, что их национальность - чеченцы. Полностью согласны, что они также по национальности россияне 24% опрошенных и еще 36% ощущают себя россиянами, если находятся за рубежом. Не ощущают параллельной идентичности 29%.
Специалисты Росстата, и не только они, пока что придерживаются такого мнения: если человеку хочется указать в переписи "россиянин", он это может беспрепятственно сделать не в графе "национальность", а отвечая на вопрос о гражданстве. Но как быть с теми, кто, не имеет российского гражданства и свою принадлежность ощущает именно так, а не иначе? Документально оформленное гражданство и самоопределение "россиянин" - не во всех случаях одно и то же.
Конечно, специалисты могут спорить между собой о том, действительно ли принадлежность к россиянам является "правильным" ответом на вопрос о национальности (хотя у большинства из них не возникает сомнений, если в российской переписи есть "испанцы", "французы", "голландцы"). Но население склонно давать такие ответы во время переписи, и с этим нельзя не считаться.
Таким образом, общественные представления о том, что такое национальность, очень различны. В то же время существует явное противоречие между массовым стереотипным представлением об "официально разрешенной" ("паспортной национальности") и о том, что является "настоящей национальностью". Мне известен пример того, как один из российских ученых высокого академического ранга, занимающийся (подчеркну это) проблемами "межнациональных отношений", заявил в частной беседе: "Я лично принадлежу трем национальностям, но в переписи укажу только одну, это будет правильно". Но почему это "правильно", ученый не смог объяснить.
ссылка
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться




 Наверх
Наверх