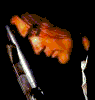про-? вы это, поаккуратнее с приставками!
Войти Создать учётную запись

Начало славянского этногенеза
#1202

 Опубликовано 18 Июль 2015 - 19:36
Опубликовано 18 Июль 2015 - 19:36

извините, опечатка. Разумеется прагерманский.
#1203

 Опубликовано 18 Июль 2015 - 19:40
Опубликовано 18 Июль 2015 - 19:40

В вопросе о прародине славян я согласен с точкой зрения автора "Происхождение славян. Прогрессологическая реконструкция". Не вижу смысла пересказывать. Если Вас эта точка зрения интересует, прочтите книгу, ссылка на нее выше приводилась.
#1204

 Опубликовано 18 Июль 2015 - 19:44
Опубликовано 18 Июль 2015 - 19:44

балтский
Если "в том смысле", то зачем тада спрашивать "германский или балтийский", ведь "они все индоевропейские"
Если они одинаково "разошлись", непонятно, почему славянский и балтский так близки, а германский где-то в сторонке? Одинаково же перестали общаться?
#1205

 Опубликовано 18 Июль 2015 - 19:46
Опубликовано 18 Июль 2015 - 19:46

Да, в теме славянского этногенеза мало что ясно, и ни один человек, если он не угорел, и не лакал валерьянку, а серьёзно участвовал в дискуссии, не обвинит меня в том, что я высказывался императивно, с категорических позиций, что я не признавал гипотетичности своих построений и недостаточности моих знаний для того, чтобы судить о проблеме однозначно. Я сделал десятки оговорок показывающих, что я полностью понимаю шаткость собственных тех или иных мнений.
Я использовал резкие выражение беседуя с Тренятой и Котом, которые допускали личные и неспровоцированные как мне кажется выпады в мой адрес. Разговор в таком стиле мне не по вкусу, но здесь не от одного меня дело зависит.
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#1206

 Опубликовано 18 Июль 2015 - 21:33
Опубликовано 18 Июль 2015 - 21:33

Так что можешь отправлять все это ХОТЯ БЫ к гуннам, но никак не позже. Все эти попытки подогнать под теорию нелепым отвержением Прокопия - смешны. Тем более при попытке более близко познакомиться со славянами возникают всякие там езериты и подобные... не говоря уже о том, что и Иордану это было известно (по местам и родам), пусть и про венетов он сконструировал и заврался. И чтобы ты не говорил о КПК, её облик подходит под Прокопия - раз, формировался до него - два, и те самые "склавины" называются хоть по какой там версии от своей славянской этимологии! И пусть у них есть мини-элиты обеспечивающие езеритов, дулебов и прочих (как раз тебе под вождества, или там недовождества), и пусть должна быть крупная элита.. Но хронологически эта крупная должна быть ДО описываемых событий + есть "анты", есть "склавины", а авары - одни.
И еще раз, что касается "критики" гуры, не надо её объявлять какой-то недокритикой. Курта чотко формулирует свою позицию.. даже в предисловии!! И на эту позицию можно смело нападать. Что и делается его критиками (я конечно в данном случае не про себя!)... И они нападают на самую суть (формулируемую Флорином!!!!), и их аргументы совершенно нормальные. Подгонов не должны быть нигде.
Сообщение изменено: Кот, 18 Июль 2015 - 21:50.
#1207

 Опубликовано 19 Июль 2015 - 08:15
Опубликовано 19 Июль 2015 - 08:15



Сообщение изменено: альбинос в черном, 19 Июль 2015 - 09:29.
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#1208

 Опубликовано 19 Июль 2015 - 09:29
Опубликовано 19 Июль 2015 - 09:29

История Словении / Л. А. Кирилина, H. С. Пилько, И. В. Чуркина; отв. ред. И. В. Чуркина. — СПб.: Алетейя, 2011.
С. 5, 100, 132, 138, 142, 158.
Профессор Люблянского университета Петер Штих в своей статье «Государственные образования в средние века на территории Словении» утверждает, что «карантанцы не были словенцами», потому что они сами себя и их соседи называли карантанцами, а не словенцами. И далее Штих делает вывод, что словенскую историю можно начинать только
с конца XVIII в., когда словенцы начали формироваться как нация (народ), а стремление связать историю карантанцев с историей словенцев является попыткой создать «мнимую картину национальной истории прежде, чем та вообще началась»...
В Крайне в городах господствовал словенский язык в качестве разговорного, только Кочевье являлось по преимуществу немецким городом, а Любляна многоязычным. В 1631 г. Люблянский епископ писал, что в Любляне «простой народ говорит на краинском языке, родственном славянскому, власти пользуются немецким, а образованные люди
большею частью итальянским». Что касается Нижней Штирии, то там Марибор и Птуй имели немецкое население (в них словенские проповеди читались только в предместьях), Целье, Словенска Бистрица, Словень Градец были двуязычными, а маленькие городки Брежице и Ормож — чисто словенскими. Исследование образцов присяг, произносившихся городскими судьями при вступлении их в должность, показывает, что низшее чиновничество пользовалось словенским языком, а высшее — немецким, горожане — словенским, немецким, итальянским, феодалы — по преимуществу немецким, хотя многие представители их низших слоев нередко немецкий не понимали...
В течение многих веков словенцы жили в разных провинциях с их особыми административно-политическими учреждениями, провинциальными рынками, их особыми диалектами, которых еще в XX в. насчитывалось 46, Все это способствовало росту провинциального самосознания и провинциального патриотизма, Словенцы населяли провинции Крайну, Горицу, Градишку,
Приморье, Штирию и Каринтию. В Крайне, Горице, Градишке, Приморье они составляли большинство, в Штирии и Каринтии — приблизительно треть всего населения. Славянские жители этих провинций не ощущали себя единым народом. Жители Крайны, Горицы, Градишки, Приморья называли себя крайнцами (краньцами), жители Штирии
и Каринтии — виндами. И это деление существовало в сознании словенцев вплоть до середины XIX в. Первые словенские будители создавали свои грамматики и книги на своих диалектах. Так грамматика М.Похлина базировалась на крайнских диалектах, а грамматика О.Гутсмана — на каринтийских...
главным делом жизни Линхарта стало написание истории словенцев. Работа вышла в двух томах на немецком языке в 1788 и 1791 гг. под названием «Опыт истории Крайны и других южнославянских земель Австрии». По словам Э.Карделя, труд Линхарта призван был до
казать, что словенский народ имеет право на место под солнцем. Вслед за О.Гутсманом Линхарт заявил, что словенцы (винды) и крайнцы — один народ, потомки древних карантанцев. Еще в объявлении о выходе своей книги, помещенном в «Лайбахер Цайтунг» 17 августа 1786 г. он утверждал: «Народ, который живет в южной Австрии между Дравой и
Адриатическим морем принадлежит к известному племени славян и представляет одну и ту же народную ветвь, которую только случайно делят на крайнцев и виндов (словенцев)». В предисловии ко 2-ому тому Линхарт заявил, что по составу своего населения Австрия наряду с Россией может считаться славянским государством...
Для деятелей первого периода словенского Возрождения было характерно восприятие словенцев как части единого славянского народа. Оно основывалось на научных взглядах того времени, согласно которым славяне считались единым народом с единым языком, делящимся на ряд наречий. Такого мнения придерживались крупнейшие ученые конца XVIII — начала XIX вв.: немцы И.Г.Гердер и И.К.Аделунг, чех Й.Добровский, словенец Е.Копитар, русский А.X.Востоков. Подчеркивание близости словенцев к славянам и, особенно к русским, как к единственному независимому славянскому народу, имевшему собственное
государство, имело и политические причины. Словенские национальные деятели как представители небольшого славянского народа, имевшего очень слабые традиции собственной государственности и только приступившего к созданию собственной национальной культуры европейского уровня, черпали в сознании этнической общности с другими славянами аргументы для борьбы за свои национальные права. Еще Гутсман называл словенцев «несчастной ветвью славянского языкового дерева», обосновывая право словенцев развивать свой язык тем, что родственные им народы занимают обширную территорию от Северного до Адриатического моря... Водник, в цикле своих статей «Рассказы о славянском языке» с гордостью указывал, что «крайнцы являются частью великого славянского народа, который в настоящее время живет на тер
ритории от Триестского моря до Ледовитого в Московии ... и от Богемии до Камчатки».
Уже в 20-ые гг. в связи с разорением крестьян и притоком сельскохозяйственного населения в города изменился и состав горожан: низшие и средние слои все более словенизировались, словенизация затронула и городские верхи. Они все более втягивались в национальное движение.
У штирийцев и каринтийцев стали приобретать влияние идеи хорватского писателя и политика Людевита Гая, который являлся последователем чешского поэта словака Яна Коллара. Коллар считал, что существует единый славянский народ, разделенный на четыре ветви — иллирскую, польскую, чешскую и русскую. Остальные славяне были должны войти в орбиту названных народов и их культур. Гай полагал, что все южные славяне (иллиры по классификации Коллара) — единый народ, которому надлежит принять общий литературный язык, а именно штокавское наречие сербохорватского языка, и развивать общую культуру.
Каринтийский священник, филолог и этнограф Матия Маяр был убежден, что иллиризм является единственным спасением для словенцев. «Все напрасно, пока иллирские поднаречия не сольются в единое для всех нас общее литературное наречие, — писал он Вразу в конце 1847 г. — Без этого крайне необходимого нам слияния словенская литература — птица без перьев». Свою точку зрения Маяр обосновывал необходимостью расширить круг читателей. Однако он не соглашался на принятие словенцами штокавского наречия в качестве иллирского языка, а предлагал вместо него диалект, на котором говорит население между Любляной и Риекой.
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#1209

 Опубликовано 19 Июль 2015 - 11:02
Опубликовано 19 Июль 2015 - 11:02

Я до сих пор не могу понять вашей позиции и ваших взглядов по вопросу этногенеза как такового. Вы даёте ссылки на различных авторов, но мнения этих авторов не совпадают и не представлают собой стройной картины, они путаны и задают больше вопросов, чем отвичают на них.
Т.е. абсолютно все этносы (про современные нации я пока не говорю, а имею ввиду то что понимается под названием народность, этнос) создаются искусственно/осознано и целенаправлено некими элитами, которые сами стоят вне народностей? Правильно я вас понимаю?
Или имеются всё-же некие основные естественные этносы, которые (их элиты) потом, исходя из своих геополитических интересов, занимаются этно-инженерным делом и создают, отделяют, объединяют или сводят на нет различные другие этносы?
#1211

 Опубликовано 19 Июль 2015 - 13:19
Опубликовано 19 Июль 2015 - 13:19

Пока что я вижу совершенно другое. Для германцев - франков, готов, лангобардов - отождествление населения с правящей верхушкой и смена идентичности было реальной тенденцией. В Киевской Руси такие тенденции если и проявлялись, то неотчётливо. Здесь основное значение имели локальные идентичности - киевляне, новгородцы, суздальцы и т. д. Общая идентичность улавливается слабо.
Ронин В.К. Франки, вестготы, лангобарды в VI - VIII вв. Политические аспекты самосознания
"и Григорий, и Исидор, всецело лояльные к новым господам Галлии (или Испании), принявшие установившийся новый политический порядок как данность, идентифицировавшие себя с ним («наши короли»,—говорит Григорий Турский о Меровингах)...
Более того: мы замечаем определенную тенденцию к постепенному усилению, все более полному и отчетливому выявлению самосознания, например франков, в нарративных памятниках, когда удается проследить, как Псевдо-Фредегар (середина VII в.) и — независимо от него — автор «Книги истории франков» (727 г.) редактируют текст Григория Typского, воспроизводя его в своих компиляторских главах, а затем как автор «Деяний Дагоберта I» (первая треть IX в.) редактирует хронику Псевдо-Фредегара. Тенденция эта проявляется, на наш взгляд, прежде всего в некоторой «франкизации» текстов предшественников, в усилении присутствия франков как народа на страницах истории, в подчеркивании значения франкских обычаев в жизни народа и его монархов. Там, где у Григория действуют просто люди, дружинники короля, его войско, «те, у кого был более здравый ум» и т. п., без указания их этнической принадлежности, хронисты VII-VIII вв. часто заменяют эти категории общими терминами Franci, Francus. Там, где епископ Турский сообщает о походе кого-либо из Меровингов, позднейшие экспиляторы то и дело добавляют: «с франками», «с войском франков» Воспроизводя рассказ Псевдо-Фредегара о победе Хлотаря II над саксами, каролингский автор «Деяний...» считает нужным прибавить: «Таково было тогда могущество франков, таково упорство королей». А сообщая — по Псевдо-Фредегару, что Дагоберт I много охотился, он делает вставку: «Как это в обычае у народа франков»
В качестве субъекта политической деятельности gens выступает в разных сферах:
1. Война. В 4-й книге своей хроники Псевдо-Фредегар собирается описывать «деяния королей и войны народов». Воспроизводя дословно рассказы Григория Турского о походах Меровингов, он, как и анонимный автор «Книги истории франков», всюду добавляет: cum Francis, cum exercitu Francorum и т. д. Тем самым подчеркивается роль народа франков как активного участника всех событий.
2. Власть над завоеванной территорией и другими народами. Носитель этой власти (ditio; dominio; poteslas; imperiiim) gens как целое. Король и знать — зачастую лишь «исполнительные органы» господства собственного народа над другими. Владения короля вестготов, подаренные им франкской королеве, считаются possessiones gentis Gotho-Iiim. Именно gens является получателем податей и иных выплат с побежденных ею народов.
3. Избрание короля. В отличие от готов, где рано сложилось олигархическое правление светской и церковной знати, у франков и лангобардов субъектом этого политического акта выступают в источниках не отдельные социальные группы (ср. primatus totius gentis cum sacerdotibus у вестготов), но gens как целое (Franci; Langobardi), хотя и здесь в действительности речь шла лишь о высших слоях общества.
4. Принятие политических решений. Как уже говорилось, те, кто влияет на короля, дает ему советы и т. д., обозначены в меровингских хрониках VII VIII вв. общим термином Franci. Если у Григория Турского, например, в рассказе о крещении Хлодвига король скорее отделен и как бы противопоставлен своему «народу», своему окружению, то у Псевдо-Фредегара и в «Книге истории франков» король и «франки» действуют вместе. «Франки» могут, отвергнув предложение соседей о мире, даже принудить короля к войне. Наконец, они же разрешают споры между самими королями — потомками Хлодвига.
5. Законодательная деятельность. В Прологе II к Салической правде отражено представление франков о том, что законы у них установлены старейшинами при непосредственном участии народа. Напротив, в памятниках более развитого и централизованного Вестготского королевства источник всех законов — король ". Но и вестготские короли издают постановления «по решению народа» (gentis consultu decrevimus)
6. Дипломатия. Наряду с королем gens выступает субъектом международных отношений: отправляет послов (legati gentis) заключает от своего имени договоры, а также обладает самостоятельным политическим престижем на международной арене. Так, король лангобардов Poтарп, заточив свою супругу Гундебергу из рода Меровингов в одном из покоев дворца, вынужден был освободить ее по настоянию франкского короля. По словам хрониста, Ротари согласился на это, «имея почтение к франкам»
Уже в VI в. ранняя франкская знать формировалась как этнически смешанная группа, включавшая в себя и собственно франков, и галло-римлян, и бургундов, и саксов. Очевидно, с конца VI в. галло-римляне несли военную службу наравне с франками, так что этнические различия, хотя и продолжали осознаваться, переставали быть политически значимыми.
Из разобщенных в VI в. gentes начал складываться на территориальной, региональной основе единый «политический народ» Франкского королевства, именуемый в источниках VII—VIII вв. gens Francorum. Аналогичный процесс «дегентилизацип» — слияния этнических групп и формирования единой gens, которая включила в себя все свободное население страны, подвластное королю, начался еще раньше в государстве вестготов. Хотя ни там, ни здесь интеграционные процессы до самого конца существования обоих королевств полностью так и не завершились, примерно с последней трети VII в. мы можем исходить из того, что Franci и Gothi латинских памятников — это уже, как правило, не франки и готы в узком, этническом значении терминов, но совокупный «политический народ» того и другого государства. Перед нами — хорошо знакомое этнологам явление: этноним превращается в политоним (название политической общности) с тем чтобы в дальнейшем стать этнонимом уже нового народа. Поэтому, говоря о политических аспектах самосознания франков или готов того времени, мы имеем в виду самосознание именно таких складывающихся «вторичных» надэтнических общностей.
сегодняшний историк вправе говорить о постепенном формировании уже новой gens, которая унаследовала вместе с именем господствующей этнической группы (франков, готов) также некоторые элементы ее самосознания, прежде всего историческую традицию и политический автостереотип. даже для Григория Турского, так гордившегося своим происхождением из провинциальной сенаторской знати, история Галлии есть лишь предыстория утверждения там франкского господства, создания нового государства, которое епископ-хронист считал своим. Романское население Галлии и Испании (разумеется, мы в состоянии судить о психологических ориентациях только его социальной элиты, отразившихся в известных нам текстах) стало воспринимать традиции варваров-завоевателей, их представления как свои собственные — как если бы предки самих этих галло- и испано-римлян переселялись во главе с варварскими королями на новые земли или отличались с давних пор особой воинской доблестью и непримиримостью к чужой власти. Подобное явление известно в исторической этнологии как «псевдологическая идентификация», составляющая важную психологическую предпосылку формирования новой этносоциальной общности.
как мы могли убедиться, в самосознании всех трех gentes особенно заметны в это время именно те элементы, которые способствовали интеграционным процессам: сознание связи народа с королевской властью, распространяющейся на все население страны; сознание связи с самой страной — общим отечеством для всех населяющих его этнических групп; представление о родстве варваров-пришельцев с покоренными ими иноплеменниками через «общих» древних предков.
Не менее сложно социальное определение носителя самосознания раннесредневековых gentes. Самосознание — какой социальной общности? Политические элементы самосознания присущи не всем представителям этноса, но лишь его политически активной части, носителям политических функций. На протяжении VI—VIII вв. эти функции все больше сосредоточивались в руках социальной элиты — знати на службе короля. Тем самым именно правящий слой, по мере того как он узурпировал принятие политических решений, становился носителем политических элементов самосознания gens, от имени которой он выступал.
Вместе с тем, пока и поскольку процесс феодализации еще не отлучил массу свободного населения от исполнения некоторых важных политических, а особенно военных функций, мы вправе говорить о том, что рассмотренные нами политические элементы самосознания опирались на широкую социальную основу, были элементами самосознания народа в целом. Показательно, что авторы VII—VIII вв. зачастую отождествляют знать с народом вообще, используя общий «племенной» термин Franci и там, где речь явно идет только об узком круге придворной аристократии. В дальнейшем каролингские писатели проводят обычно более четкую социальную дифференциацию. Достаточно сравнить дне редакции «Жития св. Бальтхильды» — меровингскую и каролингскую: Franci в гл. 10 меровингской редакции заменено в каролингской на proceres Francorum («франкская знать»).
Из проведенной нами реконструкции политических аспектов самосознания франков, вестготов и лангобардов явствует, какую огромную роль в складывании его играло влияние королевской власти, официальной династической традиции. Поэтому самосознание gens и индивидуальное сознание короля в аспектах политических наиболее близки. Однако полного совпадения здесь, разумеется, нет, о чем свидетельствует хотя бы то, какое видное место в структуре самосознания занимали представления о gens как о самостоятельном субъекте политической деятельности — наряду с королем, а зачастую и независимо от королевской власти. В полной мере судить об эволюции самосознания gentes (а тем самым и о развитии самих этих общностей) можно, конечно, только на основе конкретных исследований всех его элементов, в том числе и тех, которые нельзя отнести к политическим и которые мы поэтому не рассматривали. Ограничимся одним предварительным замечанием. Как показал в своей недавней работе Л. Е. Куббель, среди различных направлений исторического развития этносоциальных общностей особенно интересно и важно направление, связанное с постепенной дифференциацией этнического и потестарного (политического) сознания (и самосознания). Обособление политических элементов в изначально синкретической, нерасчлененной системе представлений, «возникающая возможность отделения политического сознания от сознания этнического» обозначают существенный рубеж на историческом пути народов и обществ — вступление в эпоху ранних государств и формирования в их рамках народностей. Исследование, проведенное нами на материале раннесредневековой истории трех крупных западноевропейских gentes, позволяет предположить, что и здесь перед нами — те же самые процессы.
В еще синкретическом «гентильном» самосознании франков, вестготов и лангобардов в VI—VIlI вв. становятся все более заметны и дифференцировании их представления о себе как об общностях политических, характеризуемых определенными отношениями в сфере власти. Политические условия существования этих народов находят, как мы могли убедиться, конкретное и разнообразное отражение в системе их представлений о себе. Появляются новые элементы самосознания, целиком связанные именно с политическими реальностями (сознание связи с завоеванной территорией, в пределах которой проживает этнически смешанное население; сознание своего места в имперской иерархии народов и т. п.). Некоторые старые, традиционные элементы самосознания оказываются теперь политически значимыми, приобретают новое политическое «наполнение» (представление об общем происхождении соплеменников превращается в представление об «общих» предках разных этнических групп, обитающих в государстве). Все это свидетельствует, на наш взгляд, как раз о том, что процесс дифференциации сознания (и самосознания) уже шел в то время, а сами раннесредневековые gentes вступили в эпоху образования государств и народностей"
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#1213

 Опубликовано 19 Июль 2015 - 17:52
Опубликовано 19 Июль 2015 - 17:52

Ронин В.К. Франки, вестготы, лангобарды в VI - VIII вв. Политические аспекты самосознания
"и Григорий, и Исидор, всецело лояльные к новым господам Галлии (или Испании), принявшие установившийся новый политический порядок как данность, идентифицировавшие себя с ним («наши короли»,—говорит Григорий Турский о Меровингах)...
Более того: мы замечаем определенную тенденцию к постепенному усилению, все более полному и отчетливому выявлению самосознания, например франков, в нарративных памятниках, когда удается проследить, как Псевдо-Фредегар (середина VII в.) и — независимо от него — автор «Книги истории франков» (727 г.) редактируют текст Григория Typского, воспроизводя его в своих компиляторских главах, а затем как автор «Деяний Дагоберта I» (первая треть IX в.) редактирует хронику Псевдо-Фредегара. Тенденция эта проявляется, на наш взгляд, прежде всего в некоторой «франкизации» текстов предшественников, в усилении присутствия франков как народа на страницах истории, в подчеркивании значения франкских обычаев в жизни народа и его монархов. Там, где у Григория действуют просто люди, дружинники короля, его войско, «те, у кого был более здравый ум» и т. п., без указания их этнической принадлежности, хронисты VII-VIII вв. часто заменяют эти категории общими терминами Franci, Francus. Там, где епископ Турский сообщает о походе кого-либо из Меровингов, позднейшие экспиляторы то и дело добавляют: «с франками», «с войском франков» Воспроизводя рассказ Псевдо-Фредегара о победе Хлотаря II над саксами, каролингский автор «Деяний...» считает нужным прибавить: «Таково было тогда могущество франков, таково упорство королей». А сообщая — по Псевдо-Фредегару, что Дагоберт I много охотился, он делает вставку: «Как это в обычае у народа франков»
В качестве субъекта политической деятельности gens выступает в разных сферах:
1. Война. В 4-й книге своей хроники Псевдо-Фредегар собирается описывать «деяния королей и войны народов». Воспроизводя дословно рассказы Григория Турского о походах Меровингов, он, как и анонимный автор «Книги истории франков», всюду добавляет: cum Francis, cum exercitu Francorum и т. д. Тем самым подчеркивается роль народа франков как активного участника всех событий.
2. Власть над завоеванной территорией и другими народами. Носитель этой власти (ditio; dominio; poteslas; imperiiim) gens как целое. Король и знать — зачастую лишь «исполнительные органы» господства собственного народа над другими. Владения короля вестготов, подаренные им франкской королеве, считаются possessiones gentis Gotho-Iiim. Именно gens является получателем податей и иных выплат с побежденных ею народов.
3. Избрание короля. В отличие от готов, где рано сложилось олигархическое правление светской и церковной знати, у франков и лангобардов субъектом этого политического акта выступают в источниках не отдельные социальные группы (ср. primatus totius gentis cum sacerdotibus у вестготов), но gens как целое (Franci; Langobardi), хотя и здесь в действительности речь шла лишь о высших слоях общества.
4. Принятие политических решений. Как уже говорилось, те, кто влияет на короля, дает ему советы и т. д., обозначены в меровингских хрониках VII VIII вв. общим термином Franci. Если у Григория Турского, например, в рассказе о крещении Хлодвига король скорее отделен и как бы противопоставлен своему «народу», своему окружению, то у Псевдо-Фредегара и в «Книге истории франков» король и «франки» действуют вместе. «Франки» могут, отвергнув предложение соседей о мире, даже принудить короля к войне. Наконец, они же разрешают споры между самими королями — потомками Хлодвига.
5. Законодательная деятельность. В Прологе II к Салической правде отражено представление франков о том, что законы у них установлены старейшинами при непосредственном участии народа. Напротив, в памятниках более развитого и централизованного Вестготского королевства источник всех законов — король ". Но и вестготские короли издают постановления «по решению народа» (gentis consultu decrevimus)
6. Дипломатия. Наряду с королем gens выступает субъектом международных отношений: отправляет послов (legati gentis) заключает от своего имени договоры, а также обладает самостоятельным политическим престижем на международной арене. Так, король лангобардов Poтарп, заточив свою супругу Гундебергу из рода Меровингов в одном из покоев дворца, вынужден был освободить ее по настоянию франкского короля. По словам хрониста, Ротари согласился на это, «имея почтение к франкам»
Уже в VI в. ранняя франкская знать формировалась как этнически смешанная группа, включавшая в себя и собственно франков, и галло-римлян, и бургундов, и саксов. Очевидно, с конца VI в. галло-римляне несли военную службу наравне с франками, так что этнические различия, хотя и продолжали осознаваться, переставали быть политически значимыми.
Из разобщенных в VI в. gentes начал складываться на территориальной, региональной основе единый «политический народ» Франкского королевства, именуемый в источниках VII—VIII вв. gens Francorum. Аналогичный процесс «дегентилизацип» — слияния этнических групп и формирования единой gens, которая включила в себя все свободное население страны, подвластное королю, начался еще раньше в государстве вестготов. Хотя ни там, ни здесь интеграционные процессы до самого конца существования обоих королевств полностью так и не завершились, примерно с последней трети VII в. мы можем исходить из того, что Franci и Gothi латинских памятников — это уже, как правило, не франки и готы в узком, этническом значении терминов, но совокупный «политический народ» того и другого государства. Перед нами — хорошо знакомое этнологам явление: этноним превращается в политоним (название политической общности) с тем чтобы в дальнейшем стать этнонимом уже нового народа. Поэтому, говоря о политических аспектах самосознания франков или готов того времени, мы имеем в виду самосознание именно таких складывающихся «вторичных» надэтнических общностей.
сегодняшний историк вправе говорить о постепенном формировании уже новой gens, которая унаследовала вместе с именем господствующей этнической группы (франков, готов) также некоторые элементы ее самосознания, прежде всего историческую традицию и политический автостереотип. даже для Григория Турского, так гордившегося своим происхождением из провинциальной сенаторской знати, история Галлии есть лишь предыстория утверждения там франкского господства, создания нового государства, которое епископ-хронист считал своим. Романское население Галлии и Испании (разумеется, мы в состоянии судить о психологических ориентациях только его социальной элиты, отразившихся в известных нам текстах) стало воспринимать традиции варваров-завоевателей, их представления как свои собственные — как если бы предки самих этих галло- и испано-римлян переселялись во главе с варварскими королями на новые земли или отличались с давних пор особой воинской доблестью и непримиримостью к чужой власти. Подобное явление известно в исторической этнологии как «псевдологическая идентификация», составляющая важную психологическую предпосылку формирования новой этносоциальной общности.
как мы могли убедиться, в самосознании всех трех gentes особенно заметны в это время именно те элементы, которые способствовали интеграционным процессам: сознание связи народа с королевской властью, распространяющейся на все население страны; сознание связи с самой страной — общим отечеством для всех населяющих его этнических групп; представление о родстве варваров-пришельцев с покоренными ими иноплеменниками через «общих» древних предков.
Не менее сложно социальное определение носителя самосознания раннесредневековых gentes. Самосознание — какой социальной общности? Политические элементы самосознания присущи не всем представителям этноса, но лишь его политически активной части, носителям политических функций. На протяжении VI—VIII вв. эти функции все больше сосредоточивались в руках социальной элиты — знати на службе короля. Тем самым именно правящий слой, по мере того как он узурпировал принятие политических решений, становился носителем политических элементов самосознания gens, от имени которой он выступал.
Вместе с тем, пока и поскольку процесс феодализации еще не отлучил массу свободного населения от исполнения некоторых важных политических, а особенно военных функций, мы вправе говорить о том, что рассмотренные нами политические элементы самосознания опирались на широкую социальную основу, были элементами самосознания народа в целом. Показательно, что авторы VII—VIII вв. зачастую отождествляют знать с народом вообще, используя общий «племенной» термин Franci и там, где речь явно идет только об узком круге придворной аристократии. В дальнейшем каролингские писатели проводят обычно более четкую социальную дифференциацию. Достаточно сравнить дне редакции «Жития св. Бальтхильды» — меровингскую и каролингскую: Franci в гл. 10 меровингской редакции заменено в каролингской на proceres Francorum («франкская знать»).
Из проведенной нами реконструкции политических аспектов самосознания франков, вестготов и лангобардов явствует, какую огромную роль в складывании его играло влияние королевской власти, официальной династической традиции. Поэтому самосознание gens и индивидуальное сознание короля в аспектах политических наиболее близки. Однако полного совпадения здесь, разумеется, нет, о чем свидетельствует хотя бы то, какое видное место в структуре самосознания занимали представления о gens как о самостоятельном субъекте политической деятельности — наряду с королем, а зачастую и независимо от королевской власти. В полной мере судить об эволюции самосознания gentes (а тем самым и о развитии самих этих общностей) можно, конечно, только на основе конкретных исследований всех его элементов, в том числе и тех, которые нельзя отнести к политическим и которые мы поэтому не рассматривали. Ограничимся одним предварительным замечанием. Как показал в своей недавней работе Л. Е. Куббель, среди различных направлений исторического развития этносоциальных общностей особенно интересно и важно направление, связанное с постепенной дифференциацией этнического и потестарного (политического) сознания (и самосознания). Обособление политических элементов в изначально синкретической, нерасчлененной системе представлений, «возникающая возможность отделения политического сознания от сознания этнического» обозначают существенный рубеж на историческом пути народов и обществ — вступление в эпоху ранних государств и формирования в их рамках народностей. Исследование, проведенное нами на материале раннесредневековой истории трех крупных западноевропейских gentes, позволяет предположить, что и здесь перед нами — те же самые процессы.
В еще синкретическом «гентильном» самосознании франков, вестготов и лангобардов в VI—VIlI вв. становятся все более заметны и дифференцировании их представления о себе как об общностях политических, характеризуемых определенными отношениями в сфере власти. Политические условия существования этих народов находят, как мы могли убедиться, конкретное и разнообразное отражение в системе их представлений о себе. Появляются новые элементы самосознания, целиком связанные именно с политическими реальностями (сознание связи с завоеванной территорией, в пределах которой проживает этнически смешанное население; сознание своего места в имперской иерархии народов и т. п.). Некоторые старые, традиционные элементы самосознания оказываются теперь политически значимыми, приобретают новое политическое «наполнение» (представление об общем происхождении соплеменников превращается в представление об «общих» предках разных этнических групп, обитающих в государстве). Все это свидетельствует, на наш взгляд, как раз о том, что процесс дифференциации сознания (и самосознания) уже шел в то время, а сами раннесредневековые gentes вступили в эпоху образования государств и народностей"
А теперь объясните, в чем разница с русскими летописями, которые повествуют о деяниях "князей русских", "воинства русского", "земле русской" и т.д.? Русские летописи вообще никакой иной идентичностью не оперируют.
#1214

 Опубликовано 19 Июль 2015 - 18:11
Опубликовано 19 Июль 2015 - 18:11

Если "в том смысле", то зачем тада спрашивать "германский или балтийский", ведь "они все индоевропейские"
Если они одинаково "разошлись", непонятно, почему славянский и балтский так близки, а германский где-то в сторонке? Одинаково же перестали общаться?
Конечно нет и вы это знаете. Не нужно задавать провокационные вопросы. Все прекрасно знают, что позднее были контакты у славян и с германцами и с балтами, о чем свидетельствуют заимствования. С балтами контакты были дольше и теснее. кто-то из лингвистов, по-моему Штибер, писал, что был период, когда большинство славян знали какой-то западнобалтийский язык. Именно об этом и шла речь выше. Если пшеворская культура германская и славяне были ее частью, то заимствования в славянском из германского должны преобладать над балтийскими, чего, как все знают и нет.
#1215

 Опубликовано 19 Июль 2015 - 18:52
Опубликовано 19 Июль 2015 - 18:52

А что много балтизмов в славянском? Насколько помню, очень немного.. ремесло, деготь... типа того... Основное же - генетическая близость лексики, общие инновации в ней. а так же в морфологии и т.д. С германцами это в разы слабее, а вот заимствований прилично.
1. Может вы напишите список достоверных заимствований (!! именно заимствований при контакта балтского и славянского) из балтского и из германского? И посмотрим что все и как там знают?
2. От того же что "пшеворская культура германская" - никак не следует, что заимствования из германского должны над чем-то преобладать. Это ваше личное требование.
#1216

 Опубликовано 19 Июль 2015 - 20:05
Опубликовано 19 Июль 2015 - 20:05

1. Может вы напишите список достоверных заимствований (!! именно заимствований при контакта балтского и славянского) из балтского и из германского? И посмотрим что все и как там знают?
2. От того же что "пшеворская культура германская" - никак не следует, что заимствования из германского должны над чем-то преобладать. Это ваше личное требование.
1. В настоящее время известно свыше 1600 слов, которые являются общими для балтийских языков и общеславянского языка (Lehr-Splawinski T. O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań. 1946., 25). При этом около 200 общих слов присутствуют только в балтийских и славянском (Дини П.У. Балтийские языки. М.: ОГИ, 2002. – 544с., 164).
Вы хотите, чтобы я вам все 200 слов тут перечислил? Генетическая близость лексики - это, по моему новое слово в лингвистике. Не буду категоричен, я не лингвист, но в восточнославянком много заимствований из иранских, причем их больше, чем в любых других славянских языках. Доказывает ли это, что восточнославянский происходит из иранского, а, скажем лехитские языки нет?
Мне кажется, что заимствования свидетельствуют только о контактах носителей языков, а не о их общем происхождении. Теснее и длительнее контакты - больше заимствований (разумеется, в тот период развития, о котором идет речь, а не Новом и Новейшем периоде истории). В этом и ответ на ваш второй вопрос. Если пшеворская культура в основе германская, а это признано всеми, в том числе Седовым ( он, правда, видел в ней полиэтничную культуру со славянским компонентом), то славяне, как часть этой культуры, должны были позаимствовать германская лексику. Это имеет место, но балтийских заимствований намного больше. Впрочем, раз речь пошла о версии Седова (2002 года), то лучше процитирую из книги, о которой речь шла выше: "Седов опирается на работу Г. Краэ (Krahe), суть которой состоит в том, что иллиро-кельто-италийские и германо-балто-славянские языки составляли единую общность тогда, когда остальные индоевропейские языки уже отделились. Эта общность, называемая древнеевропейской, занимала Карпато-Дунайский бассейн и археологически ей соответствовала культурная общность полей погребальных урн. Расселение населения этой общности привело к формированию отдельных языков: иллирийцев, кельтов, италиков, германцев и славян. Балтов Седов не включает в число тех языков, которые возникли в результате распада общности полей погребальных урн, а выводит их формирование из культурной общности шнуровой керамики (Седов 2002, 63). Это явная неувязка с фактами, потому что балтские языки должны относиться к древнеевропейским, однако балтские культуры не имеют связей с культурной общностью полей погребальных урн. Кроме того, существует давняя традиция возводить балтов именно к шнуровикам и Седов ранее ее придерживался (Sedovs 1992).
Возникновение славян Седов связывает с лужицкой культурой, часть населения которой проникает в восточную Прибалтику и тут участвует в формировании культуры западнобалтийских курганов, которая, по мнению Седова, была западнобалтийской. На основе этой культуры возникает поморская культура. Расселение носителей поморской культуры по ареалу лужицкой и возникновение вследствие этого культуры подклошевых погребений знаменует появление славян. Таким образом, язык славян восходит к древнеевропейской общности, но при этом он связан и западнобалтийским через контакты с поморской культурой. То, что поморская культура имела несомненные связи со Скандинавией, Седов объясняет миграциями небольших групп населения, впоследствии ассимилированных поморцами.
В результате проникновения в Польшу кельтов и последующего смешения кельтов и населения культуры подклошевых погребений возникает пшеворская культура. По мнению Седова эта культура – славянская. Однако имеется большое количество археологических связей пшеворской культуры с германцами. Например, пшеворцы даже участвовали в войнах германцев в Галлии (Щукин 1994, 172-173). Поэтому Седов предполагает, что западная часть пшеворской культуры была германская, а восточная – славянская. Однако, как утверждают археологи, нет никаких оснований расчленять пшеворскую культуру на две части (Щукин 2001).
Далее начинаются миграции носителей пшеворской (славян) и вельбарской (готы) культур в Причерноморье, где они в смеси с сарматами образуют черняховскую культуру. В составе этой культуры, славяне образуют два массива – в Среднем и Верхнем Приднестровье и в лесостепной полосе от Подольской возвышенности до Среднего Поднепровья. После исчезновения черняховской культуры, на основе этих массивов формируется пражско-корчакская и пеньковская культуры.
В реконструкции, предложенной Седовым, германские связи славян несравненно сильнее балтийских. Согласно этой реконструкции, славяне (подклошевая культура) находились в тесных контактах с западными балтами (поморская культура) 400 лет (с VI по II вв. до н.э.), а с германцами – 600 лет, в составе пшеворской и черняховской культур (со II до н.э. по IV в. н.э). Причем если подклошевая культура несколько отличалась от поморской, то в составе пшеворской и черняховской культур славяне археологически неразличимы. Кроме того, непонятно, почему, если археологические находки свидетельствуют о совместном проживании пшеворцев и готов в составе черняховской культуры, в языке последних почти не осталось следов этих контактов.
Далее, археологические находки свидетельствуют об образовании пеньковской культуры на основе миграций на юг населения киевской культуры. Седов эти миграции признает (Седов 2002, 212), но уверен в том, что носители киевской культуры (балты), были ассимилированы в Среднем Поднепровье остатками черняховского населения. Такая реконструкция формирования пеньковской культуры маловероятна и с лингвистической точки зрения, поскольку предполагает разделение общеславянского языка на две, а не на три группы, причем не в VI – VII вв., как следует из выводов лингвистов, а на двести, или даже триста лет раньше.
При реконструкции расселения славян Седов причисляет к славянским целый ряд культур – волынцевскую, суковско-дзедзицкую, тушемлинскую, длинных курганов. Волынцевскую культуру он отождествляет с «Русским каганатом» письменных источников, хотя ранее сам высказывал мнение, что волынцевская керамика совершенно не похожа на славянскую керамику второй половины I тыс. н.э. (Седов 1982, 137). То же самое можно сказать о тушемлинской культуре. Тушемлинская культура – ровесница пражской, и отделена от нее сотнями километров, следовательно, согласно критерию бездиалектности она не может быть славянской. Ранее Седов утверждал, что преемственность между тушемлинской и днепро-двинской культурой несомненна. (Седов 1970, 39). Правда, Седов также давно выражал уверенность в славянской атрибутации культуры длинных курганов, но при всем желании нельзя понять, на чем эта уверенность основана. Суковско-дзедзицкая культура моложе пражской, но сильно отличается от нее керамикой, домостроительством и похоронным обрядом и имеет несомненные связи, как отмечалось выше, с культурами западных балтов и тушемлинской культурой.
Таким образом, все эти культуры восходят либо к днепро-двинской, либо к культуре штрихованной керамики. Славян тут просто не может быть до VIII – IX вв., когда археологические материалы свидетельствуют о миграциях с юга, которые принесли сюда культуру Киевской Руси. Других миграций в этот регион не было, следовательно, не могло быть смены этноса. Это Седов прекрасно понимал, поэтому высказал предположение, что в лесную зону Восточной Европы в V в. н.э. имели место массовые миграции «среднеевропейского населения» (Седов 2002, 354 и сл.), под которым понимается переселение славян с территории Польши на восток. Следы этих миграций Седов видел в распространении в это время в лесной зоне Восточной Европы предметов, имеющих несомненные аналогии в западных культурах: шпор, оружия, украшений, бритв и некоторых других. Не всякий археолог возьмет на себя смелость утверждать на этом основании, что имели место миграции, тем более такие массовые, что привели к смене языка, но никак не отразились на основных элементах культуры – домостроительстве, керамике или похоронном обряде. Как мне кажется, более правильным было бы сделать вывод, что мы имеем дело с импортами, тем более что на карте находок среднеевропейских предметов (Седов 2002, 361 рис 74) не менее трети этих находок была сделана на территории Литвы и Латвии.
Примерно так же обстоит дело с височными кольцами. Седов считал эти кольца несомненным маркером славянского населения на том основании, что славяне их носили в эпоху Киевской Руси. Некоторые типы этих колец были распространены на территории тушемлинской и суковско-дзедзицкой культур, длинных курганов и угро-финских культур: мерянской и муромской. По мнению Седова, финны эти кольца позаимствовали, а вот все остальные культуры, где такие кольца носили, были, несомненно, славянскими. Тот же факт, что много таких колец найдено на территории Восточной Литвы (Седов 2002, 386 рис 80), Седов объясняет оригинальной гипотезой о том, что местное неславянское население брало себе жен-славянок, которые носили височные кольца, а затем откуда-то сюда пришли предки литовцев, создавшие культуру восточнолитовских курганов. Многолетний и неподдельный интерес В. В. Седова к славянской проблеме, его огромное трудолюбие вызывает у меня глубокое уважение, но мне искренне жаль, что такой талантливый исследователь, вместо того, чтобы следовать за фактами, пытался иногда строить гипотезы на основании своих априорных представлений".
#1217

 Опубликовано 19 Июль 2015 - 20:11
Опубликовано 19 Июль 2015 - 20:11

Судя по содержанию словаря балтизмов в славянских языках ,этих балтизмов сотни,особенно много их в беларуском языке и его пограничных с Литвой диалектах.Имеются даже в Метрике.
#1218

 Опубликовано 19 Июль 2015 - 21:01
Опубликовано 19 Июль 2015 - 21:01

Что-то думаю, что это из тех вещей, которые вряд ли можно знать на 100%...
#1219

 Опубликовано 19 Июль 2015 - 21:46
Опубликовано 19 Июль 2015 - 21:46

Заимствования могут быть различными по времени.
Если мы говорим о древних славянах, то интересны общеславянские заимствования из балтийских.
#1220

 Опубликовано 19 Июль 2015 - 22:13
Опубликовано 19 Июль 2015 - 22:13

.....
Вы хотите, чтобы я вам все 200 слов тут перечислил?
Слушайте, я вроде как максимально однозначно выразился. Попробую второй заход
#1221

 Опубликовано 20 Июль 2015 - 18:56
Опубликовано 20 Июль 2015 - 18:56

А зачем нужно перечислять конкретные заимствования? Я их не знаю и меня это не интересует. Если вам так это интересно, поищите в соответствующей литературе. Для выяснения проблемы славянского этногенеза важно то, что есть 1600 общих слов, а 200 слов встречаются только в балтийских языках и общеславянском, их нет в других индоевропейских языках. Далее «славянский имеет ряд общих черт не со всеми известными балтийскими языками, а лишь с частью их, обычно либо с восточнобалтийскими либо с западнобалтийскими или же с одним из последних» (Бирнбаум Х. Праславянский язык, достижения и проблемы в его реконструкции. М.1987, 30). "Следовательно, отношения этого языкового союза были не равноценные. Славянский язык был един, следовательно, славян было мало, балтийский же был уже разделен на группы и отдельные языки, то есть балтов было много, и они занимали большую территорию. Это подтверждается тем, что балтийские гидронимы обнаружены на огромной территории: на севере – верховья Ловати, междуречье Волги и Оки, на северо-востоке – бассейн верхней Оки, на востоке – бассейн Сейма, на юге – от Сейма на правобережье Днепра по южной границе Полесья до низовьев Вислы (Топоров, Трубачев), на территории Польши и западнее, на левом берегу Одера (Проблемы этнической истории, 8). Кроме того, балтийские названия встречаются и вне этого основного ареала – в бассейне Роси и в верховьях Южного Буга, (Петров 1972, 99 и сл.)" (Алексаха А.Г. Происхождение славян. Прогрессологическая реконструкция.) Вывод из этого прост - все 200 этих слов - это заимствования из балтийских языков в общеславянский, а не наоборот. Почему - совершенно очевидно. Заимстования в этот период требовали личных контактов носителей языков. Если славян было мало, они не могли контактировать со всеми балтами, а отдельные балтские языки могли контактировать со всеми славянами. Обращая ваше внимание на то, что речь идет об общеславянском, а не об отдельных славянских языках.
Ничего подобного по количеству нет в германских заимствованиях в общеславянский. Там счет идет на десятки. Следовательно, балтийские связи славян намного сильнее, чем германские.
А вообще, я вам советую прочитать книгу "Происхождение славян. Прогрессологическая реконтсрукция", поскольку я устал пересказывать вам ее содержание. Там все аргументы изложены и знания Алексахи несравненно больше, чем мои.
#1222

 Опубликовано 20 Июль 2015 - 18:58
Опубликовано 20 Июль 2015 - 18:58

Выше речь шла об общеславянском, а не об отдельных славянских языках.
#1223

 Опубликовано 20 Июль 2015 - 19:00
Опубликовано 20 Июль 2015 - 19:00

Вы совершенно правы. Это он образно так выразился, что показать силу влияния балтийских языков на общеславянский.
#1224

 Опубликовано 20 Июль 2015 - 20:20
Опубликовано 20 Июль 2015 - 20:20

...
Вывод из этого прост - все 200 этих слов - это заимствования из балтийских языков в общеславянский, а не наоборот. Почему - совершенно очевидно.
Всё ясно
#1227

 Опубликовано 21 Июль 2015 - 12:41
Опубликовано 21 Июль 2015 - 12:41

Человек сказал, что не рубит, и рубить не собирается. Но при этом всё же "сделал очевидный вывод", объявив, что "общие слова" - это заимствования, причем даже четко направление указал их
Литовский: akís «око», avis «овца», aviźa «овёс», daliá «доля», kaśa «коса», péntis «пята»,
ragas «рог», raśa «роса», stalas «стол», valía «воля», vadas «вождь»,. nèšti «нести»
Латышский cilvēks — человек, acs — око, auss — ухо, zobs — зуб, galva — голова, pirksts — перст,
roka — рука, delna — длань, strādāt — работать (страдать), draugs — друг, bagāts — богатый
Прусский: krawian «кровь», assanis «осень»
Совпадения по списку Сводеша.
литовский латышский
Русский 54 % 45 %
Белорусский 57 % 48 %
Украинский 55 % 46 %
Болгарский 47 % 41 %
Македонский 52 % 44 %
Сербохорватский53 % 45 %
Словенский 51 % 42 %
Чешский 51 % 43 %
Словацкий 52 % 43 %
Верхнелужицкий51 % 44 %
Нижнелужицкий50 % 43 %
Польский 53 % 45 %
Среднеарифметический показатель 52 % 44 %
Различия в лексике между балтийскими языками и славянским меньше, чем между немецким и норвежским, которые входят в одну языковую группу и это при том, что славянские и балтийские образуют разные языковые группы. Такой степени близости между разными языковыми группами в индоевропейской языковой семье больше нет. Было высказано даже мнение, что литовский язык может заменить неизвестный нам общеславянский язык (Георгиев с 50). ( Алексаха Происхождение славян)
Я книжек по славянскому этногенезу не пишу, я всего лишь аматор, который интересуется данной проблемой, но мне, как и многим интересующимся, хорошо известно сколько копий было сломано крупнейшими славистами по проблеме необыкновенной близости славянского и балтийских языков. Этот спор начал еще Шлейхер в первой половине 19-го века, можно также назвать Мейе. А из более близкого к нам времени - Топров, Трубачев, Иванов и всех я просто не знаю. Исключительная близость славянского и балтийских - это общее место в проблеме славянского этногенеза, это азы. Я м упомянул об этом как о всем известном факте. Нельзя рассуждать о высшей математике, не зная правил алгебры. Я допускаю, что вы выдающийся анастезиолог, а может быть специалист по строительству мостов, но в данном вопросе у вас очень большое белое пятно. Я хочу этим сказать, что если вы хотите действительно разобраться в этногенезе славян, то читайте специальную литературу.
#1228

 Опубликовано 21 Июль 2015 - 12:52
Опубликовано 21 Июль 2015 - 12:52

Чё-то не верится.
#1229

 Опубликовано 21 Июль 2015 - 13:24
Опубликовано 21 Июль 2015 - 13:24

ragas «рог», raśa «роса», stalas «стол», valía «воля», vadas «вождь»,. nèšti «нести»
Латышский cilvēks — человек, acs — око, auss — ухо, zobs — зуб, galva — голова, pirksts — перст,
roka — рука, delna — длань, strādāt — работать (страдать), draugs — друг, bagāts — богатый
Прусский: krawian «кровь», assanis «осень»
Правильно ли я вас поняла: вы считаете, что эти слова заимствованы славянами из балтийских языков, а не достались им по наследству из языка-предка?
#1230

 Опубликовано 21 Июль 2015 - 15:22
Опубликовано 21 Июль 2015 - 15:22

Тут скорее общие слова и есть даже, возможно, заимствования из славянских в балтские. У меня есть подозрения по поводу нескольких слов что это заимствования из древнерусского в протолатышский
Посетителей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей
-
Yandex (1)
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться


 Наверх
Наверх