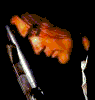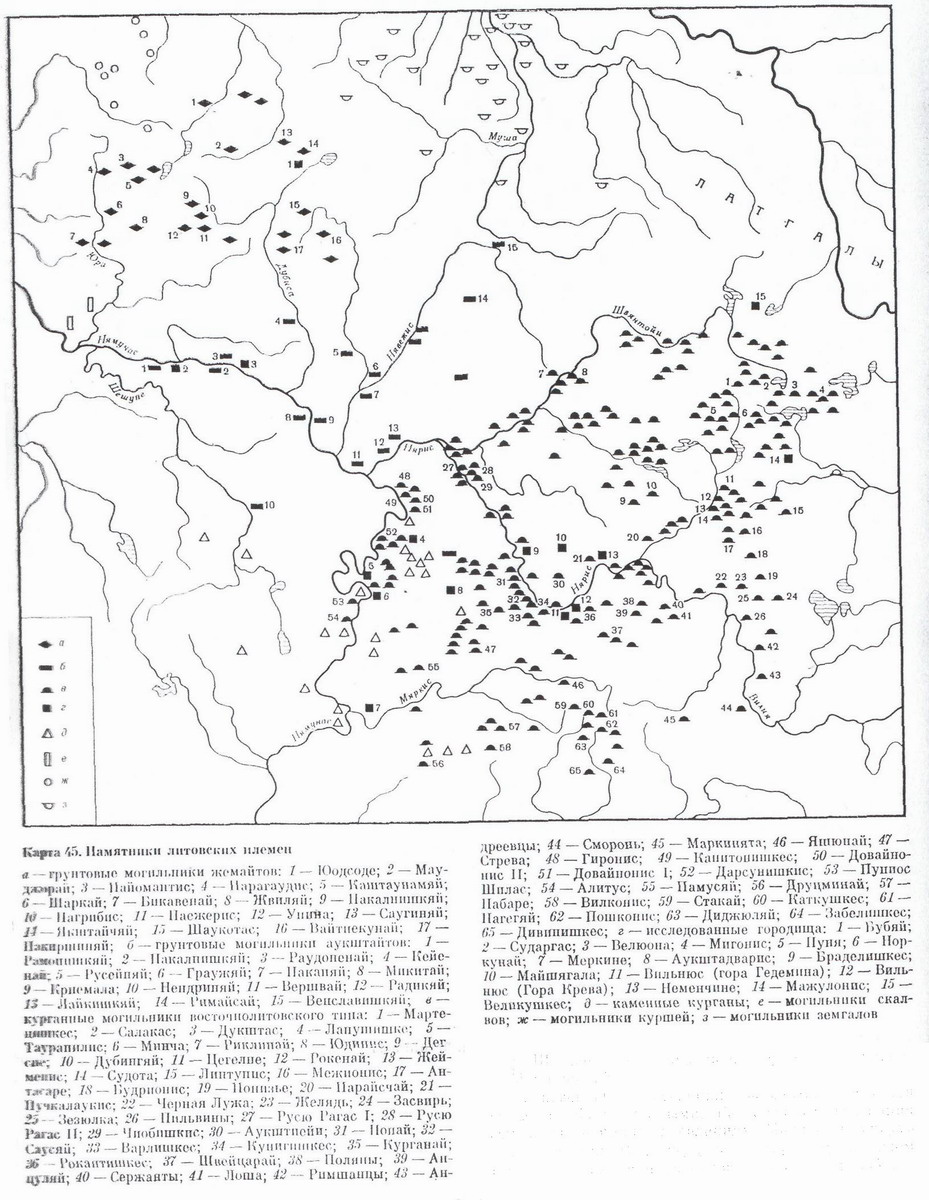"легкий налет" исчезавший вместе с властью русских князей
Что налёт был лёгким я не говорил. Тяжёлый был налёт, последствия как от авиабомбёжки.
Сергей Сергеев. Была ли в Российской империи русская нация?Сразу же отвечу на поставленный в заглавии статьи вопрос: если понимать под нацией политический субъект, до 17 октября 1905 года — безусловно, нет. Ибо у русских так и не сложилось ядро всякой нации — более-менее автономная от государства социально-политическая элита, обладающая политическими правами.
В 1875 году Р.А. Фадеев писал, что «Россия представляет единственный в истории пример государства», в котором существует только одна реальная общественная сила — «верховная власть». Но если это положение дел не менять, то русские останутся «навеки народом, способным жить только под строгим полицейским управлением», а «наша будущность ограничится одной постоянной перекройкой административных учреждений». Далее Фадеев делает поразительно точное предсказание: «Наш упадок совершится постепенно, не вдруг, но совершится непременно. Кто тогда будет прав? Решаемся выговорить вслух: одна из двух сил — или русская полиция, или наши цюрихские беглые с их будущими последователями [т.е. революционеры, одним из прибежищ которых был Цюрих]. Судьба России, лишенной связного общества, будет со временем поставлена на карту между этими двумя партнерами».
«Цюрихские беглые» были количественно ничтожны, но у них была тоже не слишком изрядная, но важная в качественном отношении опора — социальная группа, не учтенная в законодательстве Российской империи, однако, вполне реальная — интеллигенция. Она оформилась в начале 1860-х годов из деклассированных элементов различных сословий (тон задавали секуляризированные поповичи — все помнят таких интеллигентских лидеров, как Н.Г. Чернышевский или Н.А. Добролюбов), профессионально занятых производством и распространением общественно-политических идей и гуманитарных знаний.
Интеллигенция стала незапланированным и нежеланным последствием правительственной образовательной политики, зародившись из-за некоторого перепроизводства образованных людей, случайный излишек которых не смогли поглотить духовенство, офицерство и чиновничество. Возникшая в период Великих реформ относительная свобода издательской деятельности создала для новорожденного слоя материальную базу, ведь «журнализм стал выгодным коммерческим предприятием» (А.А. Фет), — литературные гонорары. В пореформенной России «свободная пресса», несмотря на все усилия властей, стремительно преумножалась. В 1859 году на русском языке выходило 55 литературно-политических периодических изданий, в 1882-м — 154, в 1900-м — 212, в 1915-м — 697 (128 журналов и 569 газет). Петербургская перепись 1869 года учла 302 писателя, журналиста, переводчика и издателя. В Московской переписи 1882 года литераторов, корреспондентов, редакторов, переводчиков и прочих было зарегистрировано 220. По переписи 1897 года ученых и литераторов насчитано 3296. За десять лет (1896–1905) общее число авторов только изданий либерально-демократического толка составило 2500 человек. К 1917 году количество литераторов, видимо, превышало 10 000.
Именно автономные, как от государства, так и от старых сословий, литераторы и стали интеллектуальным ядром интеллигенции, именно в этой среде рождались и конкретизировались все новые идеологические конструкции, именно оттуда исходили идейные импульсы, охватывающие затем все образованное общество. Вокруг этого ядра группировались другие категории людей умственного труда — университетские преподаватели и работники земских учреждений (к 1912 году там трудились около 150 тысяч учителей, врачей, инженеров, агрономов и статистиков). Социальное «свободное парение» русской интеллигенции добавляло ее идейным поискам еще больше радикализма — большинство «мыслящего пролетариата» (Д.И. Писарев) тяготело даже не к классическому либерализму, а к разным вариантам социализма.
Кричащий разрыв между высоким уровнем образования и низким социальным статусом вызывал негатив по отношению к наличному обществу и государству. Неудивительно, что определяющим идеологическим и нравственно-психологическим интеллигентским трендом стало — в разных вариациях — резкое и практически тотальное неприятие правящего режима и всех его действий, по сути, холодная (а иногда и «горячая») война против него.
Этой «военной» психологией объясняется тот зашкаливающий уровень нетерпимости к инакомыслящим, который отмечали многие современники в интеллигентской среде. Там подвергались остракизму не только интеллектуалы, недвусмысленно поставившие свои знания и способности на службу самодержавию, но и всякий, кто в указанном тренде хотя бы усомнился или попытался критически отнестись к тем или иным догматам освободительного движения. «Если ты не с нами, так ты подлец!» — такую довольно точную формулу «либерального деспотизма» вывели его оппоненты. В определенном смысле неофициальная интеллигентская «цензура» была не менее свирепой, чем правительственная, являясь, по сути, зеркальным отражением последней, так же как вообще интеллигентская нетерпимость «зеркалит» самодержавный произвол. Более того, это касается самой культуры интеллигентского мышления, пронизанного безответственным утопизмом, о чем остроумно написал в дневнике В.О. Ключевский: «Русский мыслящий человек мыслит, как русский царь правит; последний при каждом столкновении с неприятным законом говорит: “Я выше закона”, и отвергает старый закон, не улаживая столкновения. Русский мыслящий человек при встрече с вопросом, не поддающимся его привычным воззрениям, но возбуждаемый логикой, здравым смыслом, говорит: “Я выше логики” и отвергает самый вопрос, не разрешая его. Произволу власти соответствует произвол мысли».
Указанной «военной» психологией объясняется и то, что интеллигенция в подавляющем большинстве стала видеть естественных союзников в своем противостоянии самодержавию в нерусских народах империи, борющихся за свои права, и потому отрицательно относилась к теории и практике русификации империи, к идее русского доминирования как таковой, проповедуя и практикуя последовательный интернационализм.
Таким образом, тот слой, который в большинстве европейских стран вырабатывал националистический дискурс и нес его «в народ», в случае России сосредоточился почти исключительно на требованиях социальной справедливости, надеясь найти отклик своим радикально эгалитаристским лозунгам в крестьянской общинной архаике, воспринимаемой интеллигентами как зародыш русского социализма. Первая попытка оказалась провальной: крестьяне вязали агитаторов и сдавали их полиции, но проидет немногим более двух десятилетий, и вроде бы абсолютно беспочвенные «цюрихские беглые» обретут под ногами твердую почву.
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться
 Тема закрыта
Тема закрыта



 Наверх
Наверх