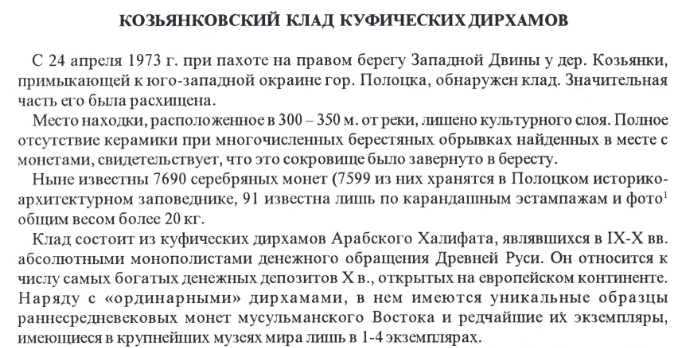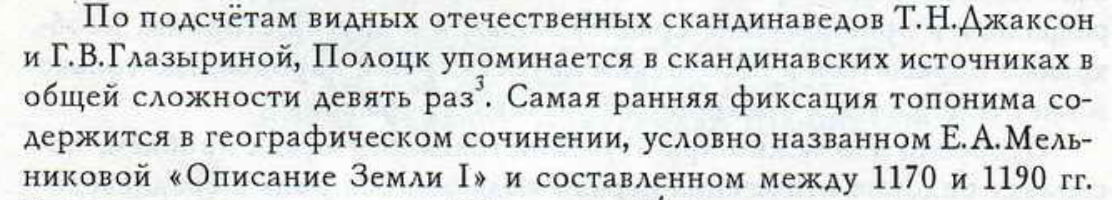Не совсем о славянам, но касается их напрямую.
Стенограмма эфира программы "Родина слонов" с кандидатом исторических наук, директором Коломенского археологического центра Александром Сергеевичем Сыроватко.
Михаил Родин: Мы будем говорить о тёмных веках на территории Руси. Давайте сформулируем, что это такое и как возник этот вопрос.
Александр Сыроватко: "Тёмные века" – универсальный термин, который применяют в зависимости от ситуации к каждой локальной территории.
Но сегодня мы говорим о времени, которое примерно соответствует эпохе викингов по западноевропейской хронологии.
Михаил Родин: Это с VII примерно по X-XI вв.?
Александр Сыроватко: Верно. С некоторыми локальными отличиями. Мы поговорим больше о Московской области, Рязанской, частично Калужской. Этот период впервые обозначил термином "тёмные века" Николай Александрович Кренке.
Довольно давно историки и археологи обратили внимание на проблему исторической встречи славян в центральной России с теми, кто жил здесь до них.
Любой учебник истории рисует в этот период благостную картину мирной ассимиляции. Внимательное прочтение древностей временного периода между дославянами и славянами показало, что есть разрыв.
Михаил Родин: Классическая история звучит так: в центральной России жили финно-угры. Потом сюда пришли славяне, их ассимилировали, частично финно-угры ушли севернее. Но археологи обнаружили, что есть лакуна.
Александр Сыроватко: Приблизительно от середины VII и до середины X в. Первые достоверные славянские памятники – второй половины X в.
Славяне воспринимались только как культура вятичей по Арциховскому, как курганная культура. 25 лет назад стало понятно, что есть что-то еще тоже славянское. Археологи называют это боршевской культурой, по аналогии с боршевской культурой, собственно, в Воронеже. Или роменцами их зовут. Это сленг. Это, конечно, не боршевская и не роменская культура. Но это что-то с лепной керамикой, что существовало в интервале второй половины Х-ХI вв. Было несколько волн славянской колонизации.
Михаил Родин: VII-X-XI вв. считаются особо важным периодом развития Руси: тогда по Дону, Днепре, в районе Ладоги начинают формироваться протогосударственные образования. Начинает путь сначала «из варяг в арабы» по Волге, потом – «из варяг в греки» по Днепру. А в Подмосковье ничего не было в тот момент.
Начнем с того, как это было обнаружено.
Александр Сыроватко: Юрий Владимирович Готье в одной из работ 20-х годов вскользь бросил фразу о том, что в древности славянской и финской как будто обнаруживается разрыв. Которого в действительности, конечно же, не было, добавляет он от себя.
С конца 50-х экспедиция Александра Фёдоровича Дубынина начинает масштабное исследование поселений дьяковской культуры. Это некое дославянское население. Культура сетчатой керамики. Она занимает период по хронологии с VII в. до н.э. и с некоторыми трансформациями еще к V в. существует.
Открытием последних 15 лет является понятие "война V века". Впервые его применил археолог Михаил Казанский, потом эту идею подхватил Илья Ахмедов, что в лесной зоне произошло нечто, что не фиксируется письменными источниками, но выглядит как глобальный коллапс всего населения лесной зоны от Прибалтики до Оки.
На V в. приходится конец всех археологических культур, которые наследуют культурам железного века. И возникает нечто принципиально новое. Это нечто доживает до середины VII в. Снова большая часть археологических культур претерпевает трансформацию либо заменяется другими. И как раз с этого момента в Подмосковье начинаются те самые тёмные века: археологическая пустота до второй половины X в. 300 лет здесь не было вроде бы как никого.
Одна группа археологов выдвинула такое гипотетическое объяснение: дьяковское население железного века переходит на подсечно-огневое земледелие: 3-4 года они живут на выжженной поляне, после чего она истощается, и переходят на новый участок. Следы таких поселений трудноуловимы, поскольку культурный слой не откладывается. Доказательств этому не было, но почему бы и нет?
Второй путь – это пересмотр датировок. Пытались границу появления славян сдвинуть вниз, а верхнюю границу наследников дьяковской культуры сдвинуть вверх, чтобы они встретились. Но никаких доказательств их встречи не существовало.
И только после раскопок Кренке на Дьяковом городище, когда появилась крупная серия радиоуглеродных дат, он впервые открыто заявил: не следует баловаться датами. Радиоуглерод говорит, что на V век приходится какой-то пик, а потом наступает стремительное затухание. И про VII в. сказать мы уже ничего не можем.
То есть начало катастрофы, видимо, было в V в. Эта катастрофа стала причиной демографического кризиса: население сокращается и к VII в. становится неуловимым.
Михаил Родин: Получается, было два коллапса: в V и в VII в.
Александр Сыроватко: Еще коллапс II-III в. Он, правда, касается только поселений в самых низовьях Москвы-реки и на Оке. Там всё прекращается еще, видимо, в III в. Там поселений IV, V, VII вв. буквально единицы. Большинство городищ железного века прекращает существование навсегда.
Почти всё первое тысячелетие – череда странных коллапсов с шагом в 2,5 столетия. Можно добавить, что и климат колебался примерно с тем же интервалом.
Михаил Родин: Что это за культура у нас до VII в.?
Александр Сыроватко: Она называется дьяковской культурой. Название ей дало Дьяково городище в музее-заповеднике Коломенское. Её северная размытая граница – в Вологодской области. Западная граница – городища округи Бородинского поля. Южная граница, видимо, в районе Оки. Что касается восточнее Коломны и Костромы, здесь территория городецкой культуры. Это тоже культура сетчатой керамики, которая простирается где-то до Самарской Луки.
В финале бронзового века или в начале железного это население начинает возводить первые укрепленные посёлки на высоких коренных берегах. По всей видимости, это первые настоящие земледельцы в нашем регионе.
Маленькие городища, видимо, небольшие коллективы, разреженная территория. В основном селятся по рекам. Велика роль охоты. Существуют связи с остальным миром. Туда проникают скифские, европейские, латенские вещи. Но, конечно, очень мало. Железо, видимо, они умели делать, цветной металл обрабатывать.
Михаил Родин: У нас же железо только в болотных рудах. Из него ничего хорошего не сделаешь.
Александр Сыроватко: Хорошего они и не делали. Примитивные наконечники стрел, маленькие серповидные ножики, железные кольца, простейшие пряжки.
Горшки покрыты отпечатком, напоминающим отпечатки мокрой ткани. Кто-то считает, что это декор, кто-то – что отражение лепки в тканевых формах. Или оборачивания мокрой тканью для стабилизации при высыхании горшка. Либо это магическое действие. Версий полно.
Грузик дьякового типа. Никто не знает, что это такое. Они похожи на глиняные шестеренки. Ось вращения с центральным каналом и с зубчатым краем. Кто-то считает, что это культовый предмет, кто-то – что принадлежность прибора вроде счёт. Наиболее адекватная версия – что это принадлежность ткачества, типа коклюшки для плетения лент либо шнурков.
Погребальный обряд неизвестен. Понятно, что кремация, но не очень понятно, где их искать.
Традиционно дьяковское население называли финно-уграми. Логическая цепочка очень простая: сетчатая керамика в Финляндии доживает до современных этнических финнов. Отсюда вывод: раз на севере Европы финны, то, скорее всего, дьяковское население – тоже финны. Вот и всё. По большому счету мы никогда не узнаем, кем они были.
Михаил Родин: Когда славяне пришли в X-XI в., как выглядела их культура?
Александр Сыроватко: Находок очень мало. В основном, конечно, находят керамику, очень некачественную. Памятники большие по площади, но очень бедные. Открытые поселения, нет или почти нет городищ. Никого не боялись.
Эта культура очень плохо изучена. Ярких памятников нет, крупными площадями это никогда не исследовалось. А, кроме того, у нее нет ярких культуроопределяющих вещей. Этот пласт древности ждёт своего исследователя.
Михаил Родин: Что обнаружилось в последние несколько лет?
Александр Сыроватко: С конца 80-х гг. стали обнаруживаться первые погребения с кремациями. Кремации на стороне, на место погребения принесли уже кальцинированные, то есть пережженные косточки. Эта смесь костей и обгоревших, оплавленных находок из стекла и металла рассыпалась на поверхности. Может, была какая-то деревянная, берестяная, тканевая, кожаная форма. Но сейчас погребение выглядит просто как кучка костей на древней поверхности. Места сожжения не найдены.
Михаил Родин: Просто выходили в чистое поле и разбрасывали кости?
Александр Сыроватко: В определенное место. Это холмы, склоны. Но есть участки с низкой поймой, например, в Оке. И некоторые из могильников, которые теперь обнаружены, сохранились только благодаря малому ледниковому периоду, когда ориентировочно в 1630-е гг. начались сильные похолодания, поднялся уровень паводковых вод, тогда же начинаются и окские и москворецкие разливы.
Москва-река начинает разливаться, стремительно откладывается ил. И за последние 300 лет его наросло где метр, где полтора, где два. И если раньше поймы активно осваивались, то в последние 300 лет в поймах жить нельзя. И древние поселения и могильники скрыты этим аллювием. Но в XVII или, например, в XII в., видимо, можно было прийти на такой могильник, подобрать урну. Или достать пряжку. Или просто пнуть ногой. Они ничем не скрыты и никак не защищены. Грабить там нечего.
Это серия из примерно восьми могильников от Рязани до Серпухова, которая достоверно охватывает период от V до XII в.
Михаил Родин: Получается, это та культура, которая легла ровно в те тёмные века.
Александр Сыроватко: Даже с охватом. Потому что открытие 2015 года – это погребения с вятичскими вещами в межкурганном пространстве вятичского курганного могильника Кременье, который исследовал студентом Борис Александрович Рыбаков. Пять курганов он раскопал, а между курганами мы обнаружили кремации того же времени. Они с сердоликовыми бипирамидальными бусами, с вятичскими лунницами, уже крестовключенными, то есть это уже христианская символика.
Мы не знаем, кто эти сожженные люди. Может быть, вятичи занимались кремациями параллельно с курганным обрядом. Есть две версии: либо какое-то население сохранилось до предмонгольского времени, либо это всё-таки славянское население, которое практиковало такой биритуализм в погребальном обряде.
Поселения просто не искали. Могильников, которые найдены, слишком мало. Для каждой четверти тысячелетия, известен один или два. Мы не знаем масштабов открытого нами явления. Может быть, нам повезло и мы нашли всё, что было. А может быть таких поселений и могильников были сотни.
Тёмные века пока остаются тёмными веками. Просто теперь понятно, что кто-то умудрялся здесь жить, в пограничье Хазарского каганата, практически на границе со степью. И конечно, в погребениях не случайно очень много салтовских, то есть хазарских, вещей, помимо явно северных.
Михаил Родин: Как вы это раскапываете? Как можно найти сгоревшие кости?
Александр Сыроватко: Человека невозможно сжечь без следа. После современного крематория отдают по объему примерно кружку. А должна быть икеевская сумка с ручками.
И в древности большая часть костей оставалась на месте сожжения. А в погребение приносится малая часть. А если сжигали с животными, человека в этой куче костей может не оказаться вообще. Потому что коровья кость крупнее, она лучше переживет погребальный костер. Когда собирают с погребального костра, берут, что крупнее. Человек остался на погребальном костре, а в погребение принесли быка, овцу и т.д.
Второй момент: кальцинированные косточки на некоторых могильниках просто под современным дёрном. В некоторых погребениях может не быть никаких вообще находок. Соответственно, вы можете ничего не найти и не понять, с чем столкнулись.
Третий момент: предыдущее поколение антропологов не умело работать с кремированным костным материалом. Соответственно, археологи не собирали скрупулезно костный материал. Иногда он просто выбрасывался, потому что считалось, что с этого ничего нельзя получить. А антропологи 15 лет назад освоили методику определения пола, возраста, изотопы в костях, рацион питания, анализ изотопа стронция, чтобы определить, местный человек или пришлый, видеть ранения.
Мы хотим понять, например, каким образом осуществлялось ссыпание костей. Ведь могли отдельно засыпать человека, отдельно сверху – животное. Или мужчина/женщина. Важно понять, перемешаны ли, например, их кости. И здесь не уйти от 3D моделирования облаков костей в культурном слое. Сейчас существует лазерный тахеометр. Но это всё можно было делать, просто аккуратно всё зачерчивая.
Михаил Родин: Получается, раскоп у вас небольшой, но вы скрупулезно исследуете каждый сантиметр и создаете потом трехмерную модель?
Александр Сыроватко: Каждый миллиметр. Когда большая экспедиция – можно сделать большой раскоп. Аккуратных студентов много. Они могут потратить по две недели на расчистку одного погребения.
Но, с другой стороны, мы бы никогда не поняли, например, почему в некоторых случаях обожженные находки отделяли и захоранивали отдельно. Представьте себе: кости человека, быка, боевого коня перемешаны в погребальном костре. И в этой ситуации отделяют оплавленные слитки стекла, оставшиеся от бус, и капли металла расплавившихся украшений. Собирают это отдельно от костей и высыпают на могильнике отдельной кучкой. Такая черта погребального обряда.
Михаил Родин: Получается, нужно было похоронить отдельно кости человека, отдельно – его украшения, хотя горело всё вместе?
Александр Сыроватко: Совершенно верно. Видимо, он был одет. Видимо, в одежду салтовского, хазарского типа, плюс, наверное, скандинавские вещи. Мы находим очень редко кусочки янтаря. То есть, эти люди были вовлечены в орбиту торговли восточного пути.
Но это не для всех погребенных. Кто-то лежит в урне без костей животных. Кто-то с костями животных и с находками. А кто-то – с костями животных, но находки от него отдельно. То есть это некий набор символов, который что-то означал.
Возьмем, к примеру, технологию изготовления керамики. Так называемые сосуды-приставки и урны. На, допустим, серию из 12-ти горшков пять разных рецептов. А рецептура изготовления горшка, рецептура формовочных масс – это этноопределяющий признак.
В могильнике под Коломной все горшки очень разные. Складывается ощущение, что это некий погребальный центр, в который могли свозить покойников с обширной территории.
Возможно, речь идёт о цепочке культур. Я не утверждаю, что это непрерывно одно население.
Первая версия: с железного века до домонгольского периода сохранялась насколько-то преемственно одно население. Вторая версия: война V в. – коллапс, война VII в. – коллапс. И на этих открытых могильниках это тоже себя проявляет. Могильники сменяются, они перемещаются, забрасываются. В середине VII в. Щуровский могильник заброшен. А, допустим, в V в. он возник на месте предшествовавшего поселения. Культурный ритм эпохи отразился и на этих памятниках.
Михаил Родин: Какие есть версии о том, кто эти люди, обладающие таким странным для нас обрядом?
Александр Сыроватко: Никто нам не может запретить строить какие-то версии. Мы можем доказать, что каждый раз, с шагом в 2,5 столетия, были волны разного населения.
Потому что если мы говорим о хазарской эпохе, то очень похожие памятники стали находить в Ульяновской области, на Самарской Луке. Они могут расцениваться как некое зависимое население Хазарского каганата. Может быть, и славянское. А может мы нашли некий форпост хазарского пограничья, который перекрывал Оку. Почему, например, так много травм у погребенных в Щуровском могильнике под Коломной?
Вещи не являются паспортом. Помните сюжет с домонгольским кремированным погребением? На нем вятичские вещи, но это совершенно ничего не значит. Просто ему негде купить другие вещи в ту эпоху. И если все вокруг – вятичи, то он может пользоваться только вятичскими вещами.
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться




 Наверх
Наверх Ответить
Ответить Цитировать
Цитировать