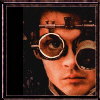По-видимому, именно это единство ККИО, сложившееся около середины IV века и связанное с явным доминированием деснинской традиции, и стало той силой, под названием венеты, с которой столкнулся Германарих в своих претензиях на гегемонию в лесном мире Восточной Европы (вот почему мне так близка версия М.Б.Щукина о связи венетов V – VI вв. именно с колочинской культурой Подесенья). И именно здесь следует искать общий корень трех славянских народов, о котором писал Иордан (Кассиодор). Винитарий, спустя примерно полстолетия, столкнулся уже с частью этого некогда единого массива, с чем и связана некоторая путаница: по Иордану, победу он одержал над антами, а прозвище получил «Винитарий» – «победитель венетов», хотя речь идет определенно об одном и том же племени. Появление нового этнонима точно и быстро отразило изменения, произошедшие в раннеславянской среде в середине и второй половине IV века, когда началась этнотерриториальная дифференциация славянских политических объединений (племен) на фоне внешне- и, вероятно, внутриполитических коллизий.
К середине IV в. относится появление первых, пока еще малочисленных пражских поселений на территории Припятского Полесья (Гавритухин 2005, с. 405, 439), – в зоне «археологической трудноуловимости» или «белого пятна» (рис. 2), ключевое положение которого в славянском этногенезе было так блестяще спрогнозировано 30 лет назад Д.А.Мачинским и М.Б.Щукиным (Мачинский 1976:98-99; Щукин 1976:78). Нельзя не вспомнить, что за несколько лет до этого, И.Вернер в своей известной статье на русском языке призвал советских археологов-славистов освободиться от «чар балтийства» и искать следы древнейшей славянской культуры не в Польше и не на Дунае, а конкретно в южной части Белоруссии (Вернер 1972, с. 114).
Еще в 1987 году А.А.Егорейченко исследовал поселение Остров с материалами пражской культуры, которые были надежно датированы второй половиной IV – началом V века (Егорейченко 1991, с. 70-71), а чуть позже, в конце 1990-х, В.С.Вергей возобновила раскопки на селище Петриков (Вяргей, Трымер 2003). Здесь в Петрикове, при полном отсутствии датирующих находок, был зафиксирован керамический комплекс по своему составу еще более архаичный («предпражский» по И.О.Гавритухину), чем набор керамики древнейших памятников пражской культуры, включая даже и селище Остров. Таким образом, начало древностей типа Прага-Корчак на сегодняшний день, можно уверенно опустить до второй половины, возможно до середины IV века.
В данном вопросе мы должны отдать должное целой серии скрупулезных работ И.О. Гавритухина, посвященных датировке, периодизации и анализу керамического комплекса древнейших поселений пражского типа в Полесье. Достоверность сделанных им выводов в данном направлении, на мой взгляд, не может вызывать сомнений (Гавритухин 1997, 2003, 2005). И если первая фаза развития пражской культуры была выделена еще И.П.Русановой в начале 1970-ых годов, то Гавритухин, опираясь на результаты полевых исследований белорусских археологов, выделил нулевую фазу, с хронологическими границами от второй половины IV до середины V веков. В настоящее время материалы этого этапа представлены несколькими поселениями в Полесье (Гавритухин 2005, с. 405-406), в зоне некогда получившей эпитет «белого пятна». Наиболее ранние из них – селища Остров и Петриков, которые относятся ко второй половине IV века. Несмотря на свой крайне архаичный облик керамического комплекса, материалы Острова и Петрикова, как и памятников первой фазы развития, отличаются от всех синхронных культур Поднепровья и смежных территорий, как второй, так и третьей четверти I тыс. н.э. Это позволяет уверенно говорить о начале непрерывной генетической линии развития пражской культуры именно в это время – около середины IV века.
Несмотря на то, что в IV веке еще существует классическая киевская культура, никто из исследователей, даже признавая возможность генетической связи раннепражских памятников с киевскими, не рассматривает первые, как один из локальных вариантов ККИО. Слишком велика их специфика. Основной чертой является крайняя бедность и архаичность керамических форм, в противовес чрезвычайному разнообразию развитого керамического комплекса позднекиевских памятников, а также почти полное отсутствие импортных, особенно черняховских вещей, что для этого времени опять же очень странно. Ведь в других частях ареала ККИО максимальное распространение черняховских импортов приходится именно на вторую половину IV века – на конец средней фазы (по Р.В.Терпиловскиму и Н.С.Абашиной) развития. И именно это обстоятельство не позволяет пока детально разработать схему эволюции раннепражского культурного комплекса.
Полесское «белое пятно» перестало быть белым, но проблема так и не решена. Проблемная ситуация лишь сдвинулась еще на одно столетие вглубь веков. Хронологические рамки «археологической трудноуловимости» в зоне Полесья сократились, но степень остроты проблемы от этого только усилилась.
Вспомним, что в работах конца 1980-х годов М.Б.Щукин писал, что с наибольшей вероятностью истоки пражских древностей следует искать среди древностей постзарубинецких. При этом по М.Б.Щукину наиболее близкие параллели раннепражской керамике и культурному комплексу в целом, мы видим в кругу памятников типа Абидни, т.е. в ареале верхнеднепровского варианта киевской культуры. Однако, это не означает того, что тип Абидни и тип Прага генетически последовательны. Они развиваются параллельно, однако истоки и тех и других лежат внутри какой-то общей культурной группировки постзарубинецкого времени на южной кромке лесной зоны (Щукин 1987, с. 115, рис. 4).
Недавно И.О.Гавритухин, опираясь на анализ только что обнаруженных памятников нулевой фазы пражской культуры, пришел к аналогичному выводу. По его мнению, материал поселений Остров и Петриков среди прочих древностей финала позднеримского времени максимально близок памятникам типа Абидни. Весьма важным в данном контексте оказалось обнаружение поселений типа Абидни в крайних точках Полесья – на западе в Польше и на северо-востоке – Симоновичи и Дедново (рис. 1). Особенно показательны две главные характеристики материальной культуры: керамика так наз. «пражского типа», которая занимает ведущее место в керамическом комплексе Абидни, а также тип жилища – полуземлянки с печкой-каменкой, который в самом деле именно на Абидне получает широкое распространение. Вместе с тем, Гавритухин отмечает влияние еще более северных традиций – материалов типа Заозерья, которое сказалось в характере оформления верхний частей сосудов пражского типа, и которое кроме того весьма характерно для памятников именно первой половины IV века. Однако, говорить о прямой преемственности нельзя. И.О.Гавритухин, как и М.Б.Щукин 20 годами ранее, предполагает наличие общего исходного ядра, из которого произрастают и Абидня и наиболее ранние, предшествующие нулевой фазе Праги памятники (Гавритухин 2003, с.135; Гавритухин, Лопатин, Обломский 2004, с. 45).
Параллели между раннепражской культурой и памятниками типа Абидни (и памятниками типа Заозерья) действительно налицо. Однако, поиски некоего общего прототипа для обеих групп древностей среди памятников предшествующего времени, на мой взгляд, могут оказаться и скорее всего окажутся бесперспективными. Дело прежде всего в том, что этот период конца III – первой половины IV века отличает крайняя нестабильность ситуации во всем днепровском бассейне. Миграции различных локальных группировок киевской культуры, их миксация, натиск черхяховских племен с юга. Только к середине IV века ситуация, казалось бы, несколько стабилизируется, но вскоре вслед за этим наступает катастрофа 375 года.
Мы вполне можем гипотетически смоделировать тот характерный набор признаков, который должен быть присущ искомому «протопражскому» прототипу. Но найти и локализовать в конкретной ситуации, на конкретном археологическом материале устойчивую группу памятников, отвечающую искомым характеристикам, нам вряд ли удастся. Круг поисков уже сейчас сужен, по-моему, до предела, но несмотря на это, недостающее звено не проявляется. Нам представляется, что это звено нужно искать не в статичном типе памятников, а в динамичной ситуации взаимодействия искомых признаков на различных по типу памятниках, сосуществующих в определенное время.
Многие исследователи неоднократно отмечали необыкновенную устойчивость материального комплекса пражской культуры на огромной территории ее распространения в VI – VII в.: от Днепра до Эльбы, от Дуная до Вислы. И что еще более важно – на всей этой территории на протяжении всего периода существования пражские древности отличает единый ритм развития, общие тенденции эволюции керамического комплекса. Именно они и легли в основу периодизации лепной керамики, предложенную И.П.Русановой. Ее принцип продолжает работать и сегодня (Гавритухин 2003, с. 125; Гавритухин 2005, с. 442). В течение VI – VII вв. население пражской культуры неуклонно расширяет свой ареал, и вероятно, в какой-то момент утрачивает стабильные связи между крайними точками локализации, но по-прежнему следует одной генеральной тенденции в развитии. Тенденции, которая, судя по этому, была заложена изначально, еще в исходной точке самого начала своего существования. Все это говорит о довольно компактной зоне первичного формирования данной традиции, а ее стремительное распространение напоминает взрывообразный характер.
Древнейшие памятники второй половины IV века занимают центральную часть Полесья. К середине V века поселения типа Прага появляются на Днестре, во второй половине V они известны уже на Висле, в Чехии. В начале VI века огромные массы славян появляются на Дунае. Основные генеральные направления движения вполне определенны – натиск на запад и на юго-запад (рис. 3). Характер происхождения и распространения пражской традиции близко напоминает теорию большого взрыва, приведшего к возникновению новой Вселенной – славянского мира. Исходя из направленности этого импульса, можно предположить, что сам первоначальный «взрыв» должен был произойти к востоку от ядра древнейших памятников. В зоне поречья Днепра, в районе от устья Березины до устья Припяти и Десны.
Еще раз повторю, что искать здесь следует не локальную группу памятников, а ту ситуацию, которая могла привести к формированию нового типа древностей. Какова же ситуация. В конце III – начале IV вв. здесь происходит взаимодействие нескольких различных культурных традиций, которое, как отмечают многие исследователи, носило скорее всего острый конфликтный характер. Связано это было преимущественно с миграционными процессами (рис. 3):
 Рис. 3. Миграции населения киевской культурно-исторической общности в первой половине и середине IV в. н.э.
Рис. 3. Миграции населения киевской культурно-исторической общности в первой половине и середине IV в. н.э. 1 – памятники пражской культуры «нулевой» фазы (по: Гавритухин и др. 2004, рис. 1), 2 – миграция населения черняховской культуры, 3 – миграции населения среднеднепровского локального варианта, 4 – миграции населения деснинского локального варианта, 5 – миграции населения верхнеднепровского локального варианта, 6 – предполагаемое направление миграции «протопражского» населения.
1. Киевское население Подесенья продвигается на север в Верхнее Поднепровье, где сменяет местную традицию памятников типа Абидни, причем смена эта, судя по материалу таких памятников как Абидня и Тайманово, как считает А.М.Обломский, носит характер полной смены населения (Обломский 2005, с. 153). Далее к северу, в ареале памятников типа Заозерья это ощущается не так остро, там, по-видимому население двух этих традиций смешивается. Так или иначе, значительный приток населения из деснинского ареала ККИО в бассейне Западной Двины и в Смоленском течении Днепра фиксируется несомненно не позднее начала IV в. (Обломский 2005, с. 151-153; Фурасьев 2001, с. 33). С этого времени в составе древностей типа Заозерья фиксируются локальные группы памятников, представляющие керамические традиции и смешанного верхнеднепровско-деснинского, и деснинского «в чистом виде» типа (Лопатин 2004, с. 150-151).
2. Население верхнеднепровского варианта киевской культуры в это же время, вероятно, в связи именно с натиском деснинцев, рассеивается в различных направлениях. Основное направление бегства – на север. Однако, отдельные памятники проникают и на юг, в нижнее Подесенье – селища Мена-5 и Верхнестриженское-3 (Терпиловский, Абашина 1992, с. 140; Обломский 1996, с. 29). В Среднем Поднепровье следы присутствия населения с верхнеднепровской традицией в начале IV в. отмечены в Глевахе (Терпиловский, Абашина 1992, с. 104-106, рис. 22). Далее к западу, на черняховском поселении Лепесовка среди керамических материалов первой половины IV в. обнаружено до 10% керамики верхнеднепровского киевского облика (Щукин 1988; Щукин 1994, с. 284). Присутствие населения верхнеднепровского происхождения в данный период в Нижнем Подесенье и Среднем Поднепровье особенно важно отметить, учитывая вероятное участие древностей типа Абидни в сложении раннепражского культурного комплекса (см. выше).
3. В Среднем Поднепровье в начале или, вероятно, ближе к середине IV в. под натиском черняховской культуры прекращается жизнь на целом ряде поселений – в том числе и в Глевахе. Часть памятников перекрывается черняховским слоем, часть гибнет навсегда. Население уходит. По мнению Р.В.Терпиловского данная ситуация соответствует сообщениям источников о войне готов Германариха с венетами в середине IV века, и о покорении последних. Данное событие отразилось в запустении некоторых киевских поселений Среднего Поднепровья на северной границе черняховской культуры (Терпиловский 2003, с. 426). Возможно часть именно этого населения проникает в третьей четверти IV века в южную часть Подесенья, где возникают памятники типа Роища-Александровки со среднеднепровскими элементами в керамическом комплексе (Обломский 2002, с. 90).
Таким образом, в середине IV века своеобразие развития киевской культуры региона, с востока примыкающего к Припятскому Полесью, состоит в крайней нестабильности, связанной с несколькими миграционными встречно направленными процессами (рис. 3). Первый состоит в проникновении сюда с севера памятников с верхнеднепровской культурной традицией и взаимодействии их с местным населением, а второй в противоположно направленном давлении с юга. Это давление разбивается на два главных вектора: готы черняховской культуры вытесняют носителей киевской культуры из пограничных с ними областей Среднего Поднепровья в южную часть Подесенья; киевское население Подесенья проникает на север вплоть до Смоленского Поднепровья и Подвинья.
Узкая хронология всех этих процессов и установление их взаимной причинно-следственной связи по вполне объективным причинам весьма затруднительны. Однако, и допустимый хронологический интервал – от начала до середины IV века, и сравнительно ограниченная зона концентрации, пересечения всех этих векторов в ареале поречья Днепра от низовьев Десны до устья Березины, делают весьма вероятной связь между этими процессами и возникновением новой группы памятников в Полесье. Во всяком случае, полное отсутствие подобной связи, кажется гораздо менее вероятным. Тот факт, что появление раннепражских поселений здесь, на пустующих до этого землях, несомненно стало следствием именно миграции небольшой группы населения, на наш взгляд, не может вызывать сомнений. По крайней мере до тех пор, пока в бассейне Припяти не будут обнаружены более ранние поселения – конца III – первой половины IV вв. н.э.
Если сообщения древних авторов о происхождении славянских племен от одного корня, которые совпадают и с мнением современных языковедов, заслуживают доверия, то начало разделения этого единого корня на несколько ветвей, опираясь на археологические материалы, мы, по-видимому, можем приурочить к ситуации первой половины – середины IV века. По неясным пока до конца причинам небольшая часть доселе единой этнокультурной общности оказывается в зоне Припятского Полесья, в ситуации некоторой изоляции от остального родственного венетского массива.
Дальнейший славянский культурогенез, точнее уже этническая история ранних славян (склавинов), в VII – VIII вв. напоминал модель развития периода средней и поздней фаз ККИО – постепенное расселение и усиление роли носителей одной локальной традиции и затухание других. При этом расселение по территории Русской равнины происходит, как отмечалось выше, внутри некоей устоявшейся зоны, занятой родственными группировками, до поры до времени почти не выходя за ее пределы. Напомню, что в конце VII – первой половине VIII вв. практически все славянские археологические культуры на территории Восточной Европы либо прямо восходят к «постпражской» традиции, либо включают ее как основной компонент (Терпиловский 2003, с. 429). И в лесной, и лесостепной зоне Восточной Европы носители пражской культуры и их непосредственные преемники в первую очередь расселяются именно в тех областях, которые заняты родственным им населением – потомками ККИО (ареалы культур колочинской, пеньковской, тушемлинско-банцеровской), в границах все того же устойчивого ареала, который сложился в основных чертах примерно в первой половине – середине IV века (рис. 2).
ЛИТЕРАТУРАВернер И. 1972. К происхождению и распространению антов и склавинов // СА. № 4.
Вяргей В., Трымер В. 2003. Раннеславянскае паселiшча Петрыкау-2 на р.Прыпяць // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. № 18. Мiнск.
Гавритухин И.О. 1997. Хронология пражской культуры // Этногенез и этнокультурные контакты славян. Труды 6 Международного Конгресса славянской археологии. Т. 3. М.
Гавритухин И.О. 2003. Хронология пражской культуры Белорусского Полесья // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. № 18. Мiнск.
Гавритухин И.О. 2005. Комплексы пражской культуры с датирующими вещами // Archeologia o poczatkach Slowian. Krakow.
Гавритухин И.О., Лопатин Н.В., Обломский А.М. 2004. Новые результаты изучения раннеславянских древностей лесного Поднепровья и Верхнего Подвинья (тезисы к концепции славянского этногенеза) // Славянский мир Полесья в древности и средневековье. Гомель.
Егорейченко А.А. 1991. Поселение у д.Остров Пинского района Брестской области // Archaeoslavica. № 1. Krakow.
Лопатин Н.В., Фурасьев А.Г. 1994. О роли памятников III – V вв. в формировании культур Псковских длинных курганов и Тушемли-Банцеровщины // Петербургский археологический вестник. № 9. СПб.
Лопатин Н.В. 2004. Керамические стили и культурные группы III – V вв. н.э. в Верхнем Поднепровье и Подвинье // Культурные трансформации и взаимовлияния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем средневековье. СПб.
Мачинский Д.А. 1976. К вопросу о территории обитания славян в I – VI веках // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 17. Л.
Обломский А.М. 1994. Этнические процессы в междуречье Сулы и Ворсклы в I – V вв. н.э. // РА. № 2.
Обломский А.М. 1996. О характере миграций населения Центральной и Южной Беларуси в лесостепь в римское время // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. № 10. Мiнск.
Обломский А.М. 2002. Днепровское лесостепное левобережье в позднеримское и гуннское время. М.
Обломский А.М. 2005. Новая концепция киевской культуры Верхнего Поднепровья // Archeologia o poczatkach Slowian. Krakow.
Обломский А.М., Терпиловский Р.В. 1998. Поселение Попово-Лежачи-4 и его место среди памятников киевской культуры // Folia archaeologica. Krakow. 22.
Русанова И.П. 1976. Славянские древности VI – VII вв. Культура пражского типа. М.
Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 1 (I – VI вв.). М. 1991.
Терпиловский Р.В. 2003. Некоторые дискуссионные проблемы археологии и истории ранних славян // «Славянские древности». Stratum plus. № 5, 2001-2002. Кишинев.
Терпиловский Р.В., Абашина Н.С. 1992. Памятники киевской культуры (Свод археологических источников). Киев.
Фурасьев А.Г. 1997. Демидовка и Узмень. Нетрадиционный взгляд на "классические" памятники // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. № 11. Мiнск.
Фурасьев А.Г. 2001. Динамика культурного взаимодействия населения Подвинья и Верхнего Поднепровья в I – V вв. н.э.\\ Миграции и оседлость от Дуная до Ладоги. 5-е чтения памяти Анны Мачинской. СПб.
Щукин М.Б. 1976. Археологические данные о славянах II – IV веков. Перспективы ретроспективного метода // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 17. Л.
Щукин М.Б. 1987. О трех путях археологического поиска предков раннеисторических славян: перспективы третьего пути // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 28. Л.
Щукин М.Б. 1988. Керамика киевского типа с поселения Лепесовка // СА. № 3.
Щукин М.Б. 1994. На рубеже эр. СПб.

 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться






 Наверх
Наверх