Ещё одна статья А.Г. Кузьмина о монгольском иге и евразийстве
“Красота наша погыбе”
Русь и Золотая ОрдаДо недавнего времени проблема монголо-татарского нашествия и его последствия ни у кого не вызывала никаких сомнений: все источники — русские и иностранные, данные археологии и фольклора показывали картины страшного разорения и опустошения, уничтожения многих народов, в том числе и собственно монгольских племен, ставших результатом завоевательных походов монголо-татарских полчищ. Археологи всегда имели четкую границу: домонгольское время на Руси — это одно, послемонгольское, как правило, нечто другое, во всех отношениях уступающее первому. И вдруг широким потоком двинулась так называемая “евразийская” литература, в которой, игнорируя все ранее известные факты, стали возвышать “империю Чингисхана”. Более того, все более широкое распространение получили утверждения, согласно которым Россия даже своим существованием обязана “великим монголам”. Особую роль в пропаганде “евразийства” сыграли книги и статьи Л.Н. Гумилева.
Для понимания истоков появления концепции “евразийства”, построенной на фальсификации фактов, необходимо помнить, что в основе ее возникновения лежат украинский национализм XIX века и пантюркистская идеология “младотурок” начала XX века.
В XIX столетии известный историк М.П. Погодин, сопоставляя язык летописей Киева, Новгорода, Владимира и Ростова, пришел к выводу, что в домонгольский период язык основных центров Руси был единым, что и неудивительно, если учесть потоки переселенцев и с севера на юг и с юга на север. Этот вывод был подтвержден всеми крупными русскими лингвистами, указавших в то же время на расхождение наречий. Расхождение же наречий сам Погодин объяснял тем, что коренное население Киевщины было смыто или уничтожено монголо-татарами в XIII веке, а позднее из Прикарпатья пришло население, говорившее на ином диалекте. Вполне убедительное объяснение встретило яростное противодействие идеологов нарождавшегося украинского национализма. По их убеждению, Киев не был центром единой древнерусской народности, а только центром малоросов-украинцев (примерно на этих же позициях стоит и современный украинский национализм). И когда украинский историк И. Левицкий в 1876 году в соответствии с источниками заключил, что “после татарского нашествия Украина стала пустынею”, на него немедленно обрушился видный украинский историк-националист М.А. Максимович. Автор интересных работ о начале Руси, он в данном случае резко возражал против признания факта “запустение”. А для этого ему пришлось отказаться от всех имевшихся и широко известных фактов, попросту обеляя монгольских завоевателей. Столп украинского национализма XIX века М.С. Грушевский пошел еще дальше: он увидел в монгольском завоевании благо, усматривая его в “обескняжении”. При этом Грушевский даже не заметил, что он таким образом подтвердил правоту Погодина: ведь на северо-востоке Руси ничего подобного не произошло и не могло произойти.
Идеология “младотурок”, пришедших в 1908 году к власти в Турции, представляла собой вариант тюркского нацизма и расизма, весьма близкий к немецкому и имевшему ярко выраженную антироссийскую направленность. Главным идеологическим и политическим лозунгом “младотурок” было создание “Великого Турана”. Все население от Адриатики до Японии делилось на 12 уровней тюркского этноса. Высшим, естественно, признавалось население Малой Азии.
Евразийство, как таковое, зарождается в 1921 году в Болгарии, то есть на стыке славянского и тюркского миров. Группа эмигрантов, в основном киевского происхождения, — Н.С. Трубецкой, П.И. Савицкий и некоторые другие обратились с призывом повернуться в сторону Востока. Н.С. Трубецкой, развивая заявленные идеи, вполне в духе “младотурок”, “зачислил” в “туранский”, то есть тюркский этнический массив угро-финнов, “самоедов”, маньчжуров и монголов. Спекулятивность этого построения ясна из того, что, будучи видным лингвистом, Трубецкой должен был бы различать языки этих народов, имеющих разное происхождение (впрочем, и на славянском материале, как показал не менее известный ученый А.М. Селищев, Трубецкой безосновательно фантазировал). Историков же у евразийцев на этом этапе не было вообще, а позднее к ним примкнет только один — Г.В. Вернадский, которому и будет следовать, сгущая его домыслы и фантазии своими, Л.Н. Гумилев. Сам же Г.В. Вернадский под воздействием критики в последние годы жизни в значительной степени отошел от “евразийства”. К середине 20-х годов “евразийство” широко распространилось и в Европе, и в далекой Маньчжурии в среде белой эмиграции. Но уже в 30-е годы “евразийское” движение практически перестало существовать.
Возродилось оно уже в советское время в работах Л.Н. Гумилева. Объединяя так или иначе три степных этноса (хазар, половцев и монголов, которые в реальной истории противостояли друг другу), Л.Н. Гумилев начал утверждать о благодатной роли Степи по отношению в славянским землям. Иначе говоря, Л.Н. Гумилев предпочитал смотреть на историю России с точки зрения интересов Степи, степных народов. В результате он пришел к выводу о благодетельном характере монгольского завоевания для Руси и для других народов (что десятки их, в том числе и сами татары, были уничтожены, евразийцы не замечали то ли по безграмотности, то ли по определенной “младотурецкой” заданности).
Ни Гумилев, ни его многочисленные последователи не хотели замечать важнейшего факта — “Лес” и “Степь” противостояли друг другу на протяжении ряда тысячелетий. И связано это было с хозяйственными различиями: в лесной зоне существовало оседлое земледелие, а в степи — кочевое животноводство. Хозяйственный уклад предопределял и различия в менталитете. Земледельцы были привязаны к земле и в большинстве случаев объединялись по территориальному принципу. Кочевники же объединялись патриархальной иерархией с жесткой системой соподчинения. Жизнь на колесах больше располагала и к агрессивности, и к паразитарности. И не имело значения, было ли кочевничество изначальным, или вторичным, когда по тем или иным причинам кочевниками становились бывшие оседлые племена. Кочевники всегда выступали в качестве захватчиков, завоевателей и грабителей земледельческих племен. Одна из самых ярких раннеземледельческих культур — трипольская была разрушена во II тыс. до н.э. кочевниками, говорившими на родственном языке.
Киевской Руси приходилось в течение нескольких столетий противостоять набегам кочевников — хазар, печенегов, половцев. А наиболее страшным и губительным для русских земель стало именно монголо-татарское нашествие в XIII веке.
Как уже говорилось, сторонники “евразийства” в своих, можно сказать, научно-фантастических построениях оказались очень далеки от исторических фактов. Приведем всего лишь два примера, показывающие, как “евразийцы” обращаются с фактами. Первый пример: у Л.Н. Гумилева образование Золотой Орды с центром на Нижней Волге, отнесено к 1241 году. Из этого делается вывод, что Русь добровольно включилась в новое государственное образование, а монголо-татары участвовали в защите западных рубежей Руси. Так, Л.Н. Гумилев утверждал, что конница Батыя участвовала в Ледовом побоище на Чудском озере на стороне войск Александра Невского. На самом деле, весной 1241 года состоялся поход Батыя в Венгрию и Далмацию, которые монголо-татары покинули только летом 1242 года. И собственно государственное образование, известное под названием Золотая Орда, сложилось уже после этого времени.
Второй пример. В своих вольных построениях на исторические темы Л.Н. Гумилев всегда настаивает на том, что отношения Золотой Орды и Руси были мирными, а русские князья опять же добровольно стали считать себя слугами золотоордынских ханов. В эту схему никак не укладываются известные факты о мученических смертях русских князей в ханской ставке. В частности, в 1246 году мученической смерти за отказ подчиниться монгольским языческим обычаям были подвергнуты князь Михаил Черниговский и его боярин Феодор. Судьба Михаила Черниговского явно опровергает построения Л.Н. Гумилева, и ему пришлось отвечать на вопрос, как он объясняет поведение Батыя в свете своей концепции. Ответ был дан, и он примечателен: “Михаил был уличен в государственной измене — он был на Лионском соборе, где планировалась антимонгольская война”. Однако на Лионском соборе Михаил Черниговский не был, он посетил в поисках помощи Венгрию и Польшу, но помощи не получил. На Лионском соборе был Петр Акерович — черниговский игумен, рассказавший католическим прелатам об ужасах монголо-татарского разорения. Но Рим не оставлял надежды договориться с монголами за счет той же Руси и других завоеванных Батыем земель. Да и на Руси современники восприняли поведение Михаила Черниговского как христианский подвиг во имя независимости Русской земли и недаром уже вскоре Михаил и Феодор были канонизированы как православные святые.
В результате же того, что русские источники никак не подтверждали схему Л.Н. Гумилева, он вообще предложил относиться критически к летописям именно из-за их общей антимонгольской направленности.
Примеров свободного обращения сторонников “евразийства” с историческими фактами можно привести множество, и в дальнейшем мы еще остановимся на них. Следовательно, и сама “евразийская” схема, согласно которой Русь мирно существовала в рамках Золотой Орды, не имеет никакого исторического обоснования.
II
Возвращение войск Батыя из Европы по времени совпало с политическими изменениями внутри самой Монгольской державы. После кончины в 1241 году хана Угедэя ситуация в Монголии осложнилась. Угедэй был третьим (из четырех) законных сыновей Чингисхана. Он устраивал монгольскую знать своими недостатками: ни волей, ни твердостью, ни умом не обладал. Новый претендент на престол, хан Гуюк встретил противодействие многих старших чингизидов, в том числе и Батыя. Лишь в 1246 году курултай, наконец, изберет Гуюка великим ханом, а пока фактическое управление сосредоточивалось в руках его матери Таракины — женщины хитрой, коварной и властной. К Батыю она относилась с явным недоброжелательством. И тот, очевидно, платил ей тем же. Во всяком случае, на призывы из резиденции монгольских великих ханов Каракорума явиться в ставку для решения общих дел, он отвечал отказом, ссылаясь на нездоровье. Посетивший в 1246 году Сарай папский посланник Плано Карпини дает портрет Батыя, как явно нездорового человека, хотя хану в то время было лишь сорок лет. И не случайно Батый рано перекладывает часть своих обязанностей на юного сына Сартака, хотя, конечно, основные нити политики он продолжал прочно держать в своих руках. Естественно, что сложные отношения с Каракорумом требовали от Батыя и повышенной осмотрительности, и укрепления тылов. Практически это означало некоторое перераспределение способов поддержания господства от прямолинейных репрессий к дипломатии монгольского же типа, главными принципами которой были: сталкивание возможных противников, недопущение особого усиления кого-то из них, поощрение любых доносов. В условиях когда русские князья и так не доверяли друг другу, подогреть их разногласия и взаимную подозрительность было не так уж и сложно.
Смерть великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича в 1238 году в битве с монголо-татарами на реке Сити освободила великокняжеский стол. После отступления Батыя в Степь его должен был занять младший брат Юрия — Ярослав Всеволодович, как старший в роде. При этом Ярослав сохранял за собой разоренный Переяславль, а в Новгороде он оставил своего старшего сына Александра Ярославича, к тому времени уже достигшего совершеннолетия. Ни Ярослав, ни Александр не были свидетелями монголо-татарского нашествия, разорившего Владимиро-Суздальскую Русь. Они находились или в Новгороде, или у северо-западных границ, где ситуация оставалась весьма напряженной: немцы выжидали удобного момента, чтобы вновь наступать в сторону Изборска и Пскова, датчане включились в борьбу за земли чуди и русов-рутенов в областях Роталия и Вик и по побережью Финского залива, шведы угрожали со стороны другого берега этого залива.
По новым порядкам, установившимся после монголо-татарского нашествия, великих князей и князей теперь утверждали в Золотой Орде и Каракоруме. В 1243 году в Сарай, столицу Золотой Орды, отправился Ярослав. Батый предпочел именно его утвердить на великокняжеском столе, потому что другие претенденты, в частности, Михаил Черниговский и Даниил Галицкий, представлялись ордынскому правителю более опасными, поскольку у них сохранялись контакты с Западом, в том числе и католическим.
Первый приезд Ярослава в Сарай закончился в целом благополучно. Князь был утвержден в звании “великого князя”, к Владимиру как бы присоединялся и Киев. Хотя Киев был совершенно разорен и был практически безлюдным, формально он оставался и “великим княжением”, и центром митрополии, что в данном случае было для Ярослава особенно важным. Но Ярославу пришлось оставить заложником в Сарае своего сына Святослава, и позднее подобная практика “заложничества” будет очень распространенной в отношениях Орды и Руси. Сына Константина Ярославу пришлось отправить в Каракорум, путь к которому занимал полгода.
Под 1244 годом Лаврентьевская летопись дает краткую запись, видимо, заимствованную из какой-то справки о распределении уделов Батыем: ордынский хан утвердил за русскими князьями их “отчины”. Еще короче статья следующего, 1245 года: “Князь Костянтин Ярославичь приеха ис Татар, от кановичь, к отцу своему с честью. Того же лета великый князь Ярослав, и с своей братьею и с сыновци, поеха в Татары к Батыеве”.
Лаврентьевская летопись не поясняет, почему и зачем Ярославу пришлось везти к Батыю своих братьев и племянников. В ряде других летописей сказано, что Ярослав был оклеветан неким Феодором Яруновичем (возможно, сыном воеводы Ярослава Яруна), но о чем шла речь — летописи не сообщают. Из Сарая Батый отправил Ярослава в Каракорум. Объяснение вызова Ярослава в Сарай и Каракорум можно найти у Плано Карпини, который встретился с Ярославом в Каракоруме. По данным Карпини, князя обвиняли в переговорах с католиками о создании возможного антимонгольского союза. Тайные встречи русского князя с католиками в Каракоруме, видимо, были продолжением контактов, которые ранее устанавливались Михаилом Черниговским и Даниилом Галицким. Весьма вероятно, что Батый предупредил ханшу, в чем именно провинился Ярослав, поскольку князь был встречен более чем настороженно. И судьба князя была решена — в 1246 году Ярослав был отравлен каким-то ядом из богатого арсенала восточной дипломатии: он умер после собственноручного угощения Таракины, едва выбравшись из Каракорума.
В том же, 1246 году, когда Ярослав был в пути к главной монгольской ставке, в Сарае были подвергнуты мукам и казнены Михаил Черниговский и его воевода Феодор. Вина того и другого заключалась в том, что они отказались выполнять унизительный ритуал поклонения огню и истуканам монгольских божеств. Но, видимо, были и иные причины, которые могли заключаться в опасении сближения русских князей с католическим Западом, где в это время активно обсуждался вопрос об организации антимонгольской коалиции. Причем римский папа Иннокентий IV пытался использовать ослабление Православной Церкви для подготовки унии на выгодных для католицизма условиях.
В летописи внесен обширный рассказ об этой трагедии, и записан он был, видимо, в Ростове, поскольку дочь Михаила была женой ростовского князя Василька Константиновича, а Михаила в ставку Батыя сопровождал пятнадцатилетний внук Михаила Борис Василькович. Мальчик упрашивал деда покориться требованиям Батыя и его прислужников, но князь остался непреклонен, а воевода после расправы с князем уже вполне осознанно шел на муку. И князь, и его воевода, как уже говорилось, немного позднее будут канонизированы Православной Церковью как святые мученики.
После казни Михаила Черниговского и его воеводы Батый передал Бориса сыну Сартаку на его усмотрение. В чем состоял замысел Батыя — неясно. Сартак, по сведениям восточных авторов, был христианином. Правда, Карпини, побывавший в ставке Батыя, ничего христианского у Сартака не заметил. Но Сартак либо был приверженцем распространенного в степи несторианства, не имевшего строгой догматики в силу широкой разбросанности общин верующих, либо был “ответственным” в Орде за общение с христианами. Сартак через некоторое время отпустил мальчика в его удел, и, судя по дальнейшим контактам, у молодого князя установились приязненные отношения с сыном Батыя.
Из скупых и глухих летописных записей не ясно, каким образом преемником Ярослава на Владимирском княжении стал его брат Святослав, княживший до этого в Суздале: было ли это “избрание” или назначение Батыем. При этом все сыновья Ярослава остались на тех уделах, которые ранее были определены им отцом и утверждены в Сарае. Но вскоре в Орду направился Андрей Ярославич, а некоторое время спустя — Александр Ярославич.
Александру Ярославичу Невскому посвящено обширное “Житие”, внесенное в летопись и, видимо, написанное для летописи по заказу тогдашнего митрополита Кирилла. И митрополит Кирилл, и ростовский епископ Кирилл поддерживали Александра в его весьма нелегкой политической и дипломатической деятельности. И в литературе он получил одну из самых высоких оценок, как государственный деятель. Но если Л.Н. Гумилев представил князя основателем союза и “симбиоза” Руси и Золотой Орды, то английский медиевист Дж. Фенелл, поверив Гумилеву, показал Александра как предателя интересов Руси и прислужником монголо-татар. А между противоположными мнениями обычно лежит проблема, в которой и следует разобраться.
Александр Ярославич был вторым сыном Ярослав Всеволодовича, но после смерти в 1233 году его старшего брата Федора, стал считаться старшим среди Ярославичей. В конце 30-х годов Александр стал новгородским князем, а в 1239 году он женился на дочери полоцкого князя Брячислава. Этот брак был во многом политическим — он давал еще одного союзника в борьбе против западной угрозы. А город Торопец, где происходило венчание, как бы соединял земли новгородскую, полоцкую и смоленскую. В том же году князь с новгородцами “сруби городци по Шелони”. Таким образом укреплялись подступы к Новгороду со стороны Пскова.
В 1240 году начинается наступление крестоносцев на Псков. Пал Изборск, потерпело поражение псковское ополчение. Немцы сожгли посад Пскова и осадили город. Взять его немцам не удалось, но они заполучили в заложники детей некоторых знатных псковитян, а затем, благодаря измене городских старейшин, вошли и в город, где оставили наместников и подчиненный им отряд. Беглецы из Пскова донесли до Новгорода печальные вести. Около того же времени серьезная угроза нависла и над самим Новгородом. Шведы (летописные “свеи”), как сообщает летописец, явились “в силе велицей”. Вместе с норманнами (“урманами” — норвежцами), а также отрядами из племени суми и еми (южная часть нынешней Финляндии) “в кораблих множество много зело”, вошли в Неву и остановились у устья Ижоры. Старейшина ижорцев Пелгусий (христианское имя — Филипп), выполнявший поручение “стража ночная морская”, немедленно дал весть в Новгород.
Согласно “Житию”, Александр не стал ждать, когда Новгород сумеет мобилизовать ополчение. Со своей дружиной и небольшим отрядом новгородцев он устремился к Неве, очевидно, учитывая, что шведы не ждут столь быстрой реакции от новгородцев, тем более после страшного разорения Северо-Восточной Руси. Смелость и решительность князя были вознаграждены полной победой. В “Житии”, естественно, князю помогают и ангелы, и русские святые Борис и Глеб, и Владимир Святой, в день памяти которого произошло сражение. В итоге шведы нагрузили три корабля с “вятшими мужами” и затопили их в море (языческий обряд погребения у норманнов и других морских народов), а остальных убитых свалили в яму на берегу. Видимо, желая преувеличить достигнутый успех, автор уверяет, что новгородцы потеряли только 20 человек. Но оговорка — “или менее, Бог весть” — показывает, что точными данными автор не располагал. Разумеется, масштабы сражения не могли идти в сравнение с битвами, которые сопровождали наступление полчищ монголо-татар. Но для Швеции и для большинства европейских стран такое поражение было весьма чувствительным: дружины конунгов в это время обычно насчитывали около сотни человек. Войско в несколько сотен — едва ли не максимум того, что можно было собрать для дальнего похода.
Александр, которому исполнилось лишь двадцать лет, возвращался в Новгород буквально в ореоле славы. Совсем не случайно в качестве своеобразного лаврового венка за ним закрепится прозвание “Невский”. Может быть, он ожидал от новгородцев особых почестей, которых ранее не требовал. Может быть, пытался побудить новгородцев занять более твердую позицию по отношению к немцам, захватившим Изборск и Псков. Но новгородцы его не поддержали и “тое же зимы выиде князь Олександр из Новагорода ко отцю в Переяславль с матерью и с женою, и со всем двором своим”.
Видимо, немцы об этом узнали и сразу же обложили данью племена води и чуди, воздвигли город Копорье на месте древнего новгородского погоста. Грабя купцов по реке Луге, они приблизились на 30 км к самому Новгороду. Новгородцы снова обращаются к Ярославу “по князя”. Ярослав направил им сына Андрея, но Андрей новгородцев не устроил, поэтому пришлось просить снова Александра. Во главе авторитетной депутации к нему отправился сам владыка Спиридон, недавно благословлявший Александра в поход на шведов. Александр вернулся в Новгород.
Князь не обманул надежд новгородцев. Уже летом 1241 года, собрав войско из новгородцев, ладожан, ижорцев и карелов, Александр взял Копорье и пленил уцелевших в сражении немцев и “переветников” из племен води и чуди. Одних немцев он отпустил, других привел в Новгород, а “переветникы извеша”. В своей “Истории Российской”, сохранившей многие уникальные исторические сведения, В.Н. Татищев сообщает, что и в дальнейшем Александр так поступал с изменниками. В 1242 году Ярослав отправил в помощь Александру его брата Андрея с “низовской” (так в Новгороде обозначали суздальское Поволжье) дружиной. Соединенные силы освободили Псков и направились в земли чуди.
После ряда столь внушительных поражений крестоносцы вынуждены были направить против новгородского и суздальского войска основные силы — тяжеловооруженную рыцарскую конницу, пехота же состояла в основном из воинов из племени чудь. Русское войско находилось в районах, прилегающих к Чудскому озеру с запада, т.е. на противоположной от Новгорода и Пскова стороне. Немцы, имевшие превосходство в силах, по крайней мере, превосходство в численности тяжеловооруженных рыцарей, вроде бы правильно рассчитывали, что войску Александра некуда будет скрыться на открытой местности, а то, что это войско разбежится перед закованными в металл рыцарями, сомнения у них вряд ли были. И русское войско действительно отступало. Отступало к берегу, остановившись “на Узмени у Воронья камня”.
5 апреля 1242 года состоялось знаменитое Ледовое побоище на Чудском озере. В переводе на современный календарь сражение происходило во второй декаде апреля, когда лед уже подтаял, но не везде. Битва началась на берегу и промерзшем до дна мелководье. И русские, и немецкие источники сообщают о первоначальном успехе рыцарей: их “свинья” прорвала строй русской пехоты. Но этот “успех”, видимо, был запрограммирован русской стороной, поскольку “бежали” ополченцы не столько назад, сколько в стороны, с тем, чтобы взять немецкое войско в клещи. А конные дружины князей отрезали и пути отхода рыцарей, заставив заодно пешую чудь убегать по льду озера. Лед же, довольно прочный еще у берега, в отдалении от него был подтаявшим, и не только тяжеловооруженные рыцари, но и не обремененные панцирями “пешци” тонули, как сообщает Софийская Первая летопись, поглощаемые озером.
Победа на сей раз досталась более дорогой ценой, нежели на Неве. Но и размах битвы, и значение ее были более весомыми. Рыцари потеряли, по разным источникам, 400 или 500 человек, 50 рыцарей были пленены, а чуди “паде без числа”. Немцы запросили мира, отказываясь от Пскова, земли води, Полужья, а также земли латгалов — области, примыкавшей к псковским и полоцким землям и граничившей с ливами, еще по договору с Орденом 1210 года считавшимися данниками Руси. Был обусловлен также обмен пленными и заложниками (возвращались, в частности, псковские заложники).
После этой победы Александр Невский стал самым авторитетным и уважаемым среди русских князей. При жизни отца Александр смог уклониться от поездки на поклон к Батыю. Княжение “на всей воле новогородской” даже и оправдывало такое непослушание. Но теперь оттягивать поездку в Орду было уже нельзя. Согласно “Житию”, Батый выразил недовольство, что к нему, покорителю стольких народов, не едет, несомненно, самый популярный в это время из князей Северной Руси. Чем могло закончиться дальнейшее уклонение от поездки в Орду — нетрудно представить. Владимиро-Суздальская Русь была разорена и обескровлена, а новгородцы и псковичи были ненадежными союзниками в борьбе с Ордой. И если противостоять натиску с запада и северо-запада Новгородско-Псковская земля еще могла, то противостояние Орде никаких шансов не имело.
Если Александр был затребован в Орду, то его младший брат Андрей, похоже, поехал туда по своей инициативе и едва ли не с жалобой на то, что владимирский стол достался дяде. Во всяком случае, избранный в 1246 году великим ханом Гуюк не утвердил Святослава великим князем и вызвал в Каракорум Андрея и Александра. Решение хана Гуюка несложно было предугадать. Он на великое княжение Владимирское утвердил Андрея, а старшему Александру дал другое “великое княжение” — Киев. Таким образом, монгольский хан сталкивал Александра и с младшим братом, и с Даниилом Галицким. Поэтому в Киев Александр, естественно, не поехал, вернувшись в Новгород после двухлетних унижений и балансирования на крайне непрочном канате дипломатии без правил.
Конец 40-х годов XIII века оказался наполнен политической борьбой и интригами от Каракорума до Рима. Разные силы искали союзников, объединялись и моментально расходились в стороны. Так, внутренняя борьба шла в Монгольском государстве, в частности, тот же Батый долго уклонялся от участия в курултае по выбором нового каана, но все же в 1246 году вынужден был отправиться на избрание Гуюка. В 1248 году Гуюк скончался и власть перешла к великой ханше Огул-Гамиш, как и Туракина, враждебно относившейся к Батыю. А тем временем и на западе возникли угрозы господству монголо-татар.
В 1204 году крестоносцы разграбили Константинополь и создали на берегах Босфора Латинскую империю, просуществовавшую до 1261 года. Православное патриаршество переместилось в Никею, куда укрылись и византийские императоры. Враждуя с турками-сельджуками, захватившими значительную часть Малой Азии, правители Золотой Орды вели дипломатические игры с Никейской империей. В 1248 году в подобные игры активно включился и папа Иннокентий IV. Он склоняет к унии и Русь, и Никейское патриаршество. При всей двойственности политики Рима (параллельно поддерживались и контакты с Сараем и Каракорумом) Сарай, конечно, должен был обеспокоиться, тем более, что на Руси к предложениям папы относились явно неоднозначно. К тому же и Галич, и Новгород оставались фактически неподвластными Орде: непосредственно эти города монголо-татары не покоряли.
Князь Даниил Галицкий явно колебался. Он готов был к унии при условии реальной поддержки Рима против монголо-татар. Рим же настаивал на унии, не гарантируя реальной помощи. Переговоры затягивались, но продолжались и в Галиче, и в Никее, а в Сарае о них, конечно, знали. После поездки в Сарай, Даниил какое-то время не опасался возможности нового похода больших татарских сил на Запад. Орда хана Куремсы, как бы заслонявшая державу Батыя от возможной активности Европы, хотя и угрожала постоянно Галицкой Руси, но не имела достаточных сил, чтобы овладеть хорошо укрепленными прикарпатскими городами, да и одолеть дружину Даниила. К тому же Даниилу удалось возвести на митрополичий стол своего печатника (и хорошего полководца) Кирилла (1246 — 1280), занимавшего до этого епископскую кафедру в Холме. Кирилл был избран митрополитом, причем в избрании участвовали не только церковные, но и светские деятели.
В 1250 году, по совету Даниила, Кирилл направился к патриарху Константинопольскому на утверждение. Поскольку обычный путь был закрыт летучими отрядами монголо-татар, Кирилл, по предложению венгерского короля, ехал через Венгрию, причем король гарантировал проезд через католическую “Латинскую империю” в Никею и обратно. Уже эти светские контакты указывали на широкий взгляд митрополита и в религиозном, и в политическом отношениях, с явной направленностью на мобилизацию всех возможных сил для свержения господства монголо-татар. В Киев Кирилл прибыл лишь после утверждения патриархом, но в бывшей столице он не нашел пристанища: все было разрушено. Такую же картину он обнаружил в Чернигове и Рязани, вернулся в Галич, а затем остановился на Владимире Суздальском, оставив формально кафедру за Киевом. Большую часть пребывания в сане митрополита Кирилл проведет во Владимиро-Суздальской Руси. Лишь в последние годы он переедет в Киев (где, видимо, был отремонтирован Софийский собор), а закончит свои дни в Переяславле.
В XIII веке в высших христианских сферах было популярным имя Кирилла. Кирилл I-й занимал ростовскую кафедру в 1216 — 1229 гг. Кирилл II, архимандрит Рождественского монастыря во Владимире, был ростовским епископом в 1231 — 1261 гг. и был известен как “философ”, знаток книг, языков и богословия. Кирилл II после монголо-татарского нашествия оказался фактическим церковным руководителем всей Северо-Восточной Руси вплоть до момента утверждения в Никее киевским митрополитом его тезки из Галицкой Руси и прибытия его в 1250 году во Владимир. Два Кирилла, похоже, нашли общий язык. Они часто появлялись в разных городах вместе, и Кирилл Ростовский как бы вводил митрополита Кирилла в местные проблемы. В 1250 же году при участии митрополита был заключен неканонический брак Андрея Ярославича (являвшегося в это время великим князем) с двоюродной сестрой — дочерью Даниила Галицкого. Политическая направленность брака была, конечно, очевидна и для ставки в Сарае.
В целом, события конца 40-х — начала 50-х годов XIII века представлены в летописях путано и противоречиво. В значительной степени эта путаница возникает из-за включения в летописи “Повести об убиении Батыя”, по которой Батыя похоронили в 1248 году в Венгрии. На самом деле в этом году Батый готовился к серьезной схватке с Гуюком, и его больше занимали восточные, а не западные проблемы. Прямого столкновения не произошло потому, что Гуюк в этом году скончался. Но Батый три года смуты, видимо, провел в восточных улусах Монгольской империи, решая другую проблему: провести на стол “великого хана” (“каана” летописей и восточных источников) своего человека. Сам Батый тоже рассматривался в числе кандидатов. Но он отказался выдвигать свою кандидатуру, удовлетворившись почетным званием “старейшего в роде”. А избранный в 1251 году великим ханом Мункэ (в некоторых источниках пишется как Менгу) участвовал в походе на Русь под началом Батыя и оставался наиболее близким правителю Золотой Орды чингизидом.
Укрепление позиций на Востоке развязывало Батыю руки на Западе: Куремса, получив подкрепления, начинает наступление на Галицкую землю, а на Северо-Восточную Русь обрушивается страшная Неврюева рать. Даниилу Галицкому удалось отбить наступление Куремсы, хотя земли, примыкавшие к степным равнинам, он все-таки утерял. Рать Неврюя разорила многие города Северо-Восточной Руси и прежде всего центр удела Ярославичей — Переяславль. Монголо-татары убили вдову Ярослава и воеводу Жидослава, а детей Ярослава и многих людей увели в полон. Были разорены и сельские местности, откуда угоняли коней и скот. Андрей Ярославич, потерпев поражение, бежал в Швецию, где, по глухим сообщениям ряда летописей, был убит (в одном варианте в сражении с немцами, в другом — с чудью). У Татищева же имеется известие о том, что князь вернулся в Русь в 1255 году, “и прият его Александр с любовию, и хотяше ему Суздаль дати, но не смеяше царя”.
Наступление на остатки независимости русских княжеств продолжилось и в другом отношении. Батый принял решение об увеличении сборов с русского населения путем наложения ежегодной дани. А для этого необходимо было провести перепись населения. И эти события случились уже в те годы, когда, после бегства брата Андрея великим князем стал Александр Ярославич Невский.
III
Поводом для противоположных оценок исторической роли Александра Невского Л.Н. Гумилевым и Дж. Фенеллом является один и тот же текст из “Истории Российской” В.Н. Татищева. Сводом и анализом сведений разных летописей “История” является лишь в пределах до 1237 года. Далее следует необработанный материал, в основном восходящий к списку Никоновской летописи и, возможно, также Ростовской. (Татищев упоминает о подготовленном им тексте сведений, взятых из разных летописей, но названная им рукопись не сохранилась или не найдена). В ряде летописей под 1252 годом имеется сообщение о поездке Александра Невского в Орду к Сартаку. У Татищева добавлено: “и жаловался Александр на брата своего великого князя Андрея, яко сольстив хана, взя великое княжение под ним, яко старейшим, и грады отческие ему поимал, и выходы и тамги хану платит не сполна. Хан же разгневася на Андрея и повеле Неврюи салтану идти на Андрея и привести его перед себя”. Ни в одной известной нам летописи этого текста нет, поэтому некоторые историки (в частности, Н.М. Карамзин) предполагали здесь вымысел Татищева. Л.Н. Гумилев и Дж. Фенелл, как было отмечено, приняли цитированный текст как факт, с противоположными выводами и оценками. Н. Клепинин выступил в защиту Александра Невского, исходя из общего облика князя и явно более чем благожелательного к нему отношения ростовского епископа Кирилла и митрополита Кирилла.
Последний аргумент, конечно, весьма весом. Но имеются и источниковедческие аргументы. Прежде всего, в тексте Татищева явно просматривается вставка, из-за которой получается, что Андрей сначала бежит “в Немецкую землю к Риге” (во всех известных летописях он бежит из Колываня (нынешнего Таллина) в “Свейскую землю”), а затем рассказывается вновь о походе Неврюя на Андрея к Переяславлю. Не могли в 1252 году быть и разговоры о “выходе”, то есть дани, так как таковая устанавливается лишь после переписи 1257 года. Переписи вообще производились по указаниям из монгольской ставки в Каракоруме и “числениками”, присланными оттуда. В 1252 году таковую проводили в Китае, в середине 50-х годов в Средней Азии. В 1257 году монгольские “численики” приедут на Русь.
Есть и иные аргументы. Согласно Рогожскому летописцу, известному в единственном списке 40-х годов XV века, Неврюева рать была в 1251 году, а Александр направился в Орду в следующем, 1252 году. 1251 годом датируют ордынское нашествие и софийско-новгородские летописи (Новгородская Первая и Ипатьевская летописи об этом нашествии ничего не говорят). И по логике, именно нашествие должно было явиться непосредственной реакцией на установление фактического союза князей Андрея и Даниила. По мнению Н. Клепинина, доносить в Орду на Андрея больше резона было у Святослава Всеволодовича. В том же Рогожском летописце под 1248 годом упоминается, что “прогнан бысть великий князь Святъслав Андреем Ярославичем”. Под 1250 годом ряд летописей говорят о поездке в Орду (по собственной инициативе) Бориса Васильковича и Святослава Всеволодовича с сыном. В этих поездках, по всей вероятности, и скрыты причины посылки на Андрея Неврюя с ратью.
Александр в 1252 году, после бегства Андрея, был признан в Орде “старейшим” и торжественно встречен во Владимире митрополитом Кириллом и всем “Освященным собором”, а также “гражанами” с крестами. “И бысть радость в граде Володимери и по всей земли Суждальской”, — заметит Лаврентьевская летопись. В Новгороде после своего утверждения в качестве великого князя и “старейшего” Александр оставил своего сына Василия, которому в это время было, видимо, 12 лет.
В 1255 году скончался Батый. Сартак отправился в Каракорум, где получил богатые дары от Мункэ. Но на обратном пути он умер. В восточных источниках есть версия, что он был отравлен Берке — младшим братом Батыя. Если Сартак “числился” христианином, то Берке был мусульманином. “Тайным мусульманином” признавался и сам Батый, но вероятнее, как отмечено выше, в ставке Батыя было своеобразное распределение обязанностей: Сартаку поручалось вести дела с христианами, а Берке, видимо, был в числе тех, кто вел дела с мусульманами. По сообщению современника событий персидского автора Джувейни, еще отец Берке (и Батыя) Джучи решил сделать Берке мусульманином, и само рождение его было обставлено мусульманским обрядом (кормилица-мусульманка должна была выполнить все необходимые обряды и поить новорожденного мусульманским молоком). Позднее Берке изучал Коран под руководством известных в мусульманском мире авторитетов и выполнял все предписания Корана. Вполне вероятно, что Берке стал убежденным мусульманином. Влияние мусульман было заметным и в Каракоруме. Обычно из мусульманских купцов там подбирали откупщиков для сбора налогов с тех или иных областей.
1256 год в ряде летописей открывается глухим известием: “Поехаша князи на Городец, да в Новгород; князь же Борис поеха в Татары, а Олександр князь послал дары. Борис же быв у Улавчия (сына Батыя. — А.К.), дары дав, и приеха в свою отчину с честью”. Это запись в Лаврентьевской летописи, которая после 1238 года кратко излагает ростовский свод начала 60-х годов. Ее повторяют многие позднейшие летописи. А собственно ростовская запись, разъясняющая происходящее, воспроизводится у Татищева: “Поеха князь Андрей на Городец и в Новград Нижний княжити. Князь же Борис Василькович ростовский иде в Татары со многими дары просити за Андрея. Такоже и князь Александр Ярославич посла послы своя в Татары со многими дары просити за Андрея. Князь Борис Василькович ростовский был у Улавчия и дары отдал, и честь многу прием, и Андрею прощение испроси, и возвратися со многою честию в свою отчину”.
Как видно, вся цепь событий связана с возвращением князя Андрея Ярославича, и упоминаемый всеми летописями Новгород — это Новгород Нижний, который вместе с Городцом переходил в удел вернувшегося из Швеции князя. Достоверность татищевского текста подтверждает, как и многие другие статьи за 40–50-е годы XIII, Лаврентьевская летопись, в которой статья следующего года открывается свидетельством: “Поехаша князи в Татары, Александр, Андрей, Борис; чтивше Улавчея, приехаша в свою отчину”. Без татищевского текста невозможно было бы понять, о каком Андрее идет речь. Более развернуто то же известие повторено в летописи и под следующим годом.
В новгородских летописях под 1256 годом основной текст посвящен нападениям на новгородские земли свеев, чуди и еми. Кратко об этом сказано и в летописях Владимиро-Суздальской Руси. Согласно новгородским летописям, свеи и их союзники решили построить на реке Нарове крепость, явно вторгаясь в новгородские пределы. Как обычно, новгородцы обращаются за помощью к Александру. Князь в зиму 1256–1257 гг., в сопровождении митрополита Кирилла, прибыл с полками из Суздальской земли, и, присоединив новгородские полки, быстро направился к местам сосредоточения вторгшихся отрядов неприятеля. Автор “Жития” Александра не слишком преувеличивал в похвалах, говоря о страхе, испытываемом разноязычными недругами Руси при одном упоминании имени Александра. В летописях отмечается, что шведы сразу убрались за море, бросив своих союзников.
1257 год, имеющий значение поворотного в системе отношений Орды и Руси, в летописях отражен глухо. Можно предполагать, что в самой Орде в это время сложилось определенное двоевластие, поскольку Берке построил на противоположной стороне Волги другую столицу — Сарай-Берке. А противостояние же Берке и Мункэ подводило к фактическому отпадению Золотой Орды от Монгольской империи.
Берке, став в 1257 году единодержавным властителем Орды, усиливает натиск и на русские земли. На Юго-Западную Русь направляется большое войско Бурундая, окончательно подчиняющее эти земли Орде. Принципиальным событием, устанавливающим порядок эксплуатации русских земель, явилась перепись всего населения в 1257 году, проводившаяся “числениками”, присланными из Монголии и фиксировавшими зависимость от Каракорума не только Руси, но и Берке. В летописях дается в целом одна информация: “Тое же зимы приехаша численици, и счетоша всю землю Суждальску, и Рязаньскую, и Мюромьскую, и ставиша десятники, и сотники, и тысящники, и темники, и идоша в Орду, толико не чтоша игуменов, черньцов, попов, крилошан, кто зрит на святую Богородицу и на владыку” (Лаврентьевская летопись). Для контроля над исполнением нового порядка создается баскаческая система: система надзора за всем происходящим отрядов монголо-татарских наместников, которые, опираясь на князей, их же в первую очередь и контролировали.
В Новгороде известия о переписи Суздальской земли вызвали волнения. “Приде весть из Руси зла, яко хотять Татарове тамгы и десятины на Новгороде; и смятошася люди черес все лето”. Так начинает новый год Новгородская Первая летопись. Прибытие “числеников” в сопровождении Александра летопись датирует “той же зимой”, то есть зимой того же года, а продолжение событий 1257 года находится в статье 1259 года. В других летописях и у Татищева волнения в Новгороде помещены под 1258 годом. 1258 годом датируют волнения в Новгороде и летописные своды Северо-Восточной Руси.
Согласно “Истории” Татищева, сначала “Приехаша численцы ис Татар в Володимер”. Затем они направились в Новгород, и Александр придал им собственных “мужей для числения”. Сын его Василий, “послушав злых советник новгородцев и безчествоваша численики”. “Численики” “з гневом великим, пришед к великому князю Александру, скажаша и хотяху ити во Орду”. Что могло последовать после этого — нетрудно представить. Александр “разуме беду тую, созва братию и едва упроси послы ханские”. Теперь сам Александр, а также Андрей Ярославич и Борис Василькович сопровождают “числеников”.
Сын Александра Василий бежал из Новгорода во Псков. “Численики” стали требовать дани, но новгородцы отказались выполнить их требования, хотя “даша многи дары ханови и послом его, а их отпустиша с миром”. В городе в ходе распрей были убиты два посадника, а также избраны новые посадник и тысяцкий, а Александр отправил Василия в Суздальскую землю, жестоко расправившись с советниками юного княжича. В следующем году “численики” вернулись во Владимир и в сопровождении тех же трех князей направились в Новгород “и изочтоша всю землю Новогородскую и Псковскую, точию не чтоша священического причета”. Александр на сей раз оставил новгородцам другого своего сына — Дмитрия и вернулся во Владимир.
Новгородская летопись, однако, дает некоторые материалы для более объемного суждения как об отношениях внутри Новгорода, где при переписи “творяху бо себе бояре легко, а меншим зло”, так и в отношениях переписчиков с местным населением. Летописец сообщает о приезде “оканньих” (окаянных) татар “сыроядцев” Беркая и Касачика “с женами своими и инех много”. “И по волости много зла учиниша, беруще туску оканьным Татаром”. Туска — это провиант и подарки для переписчиков и сопровождающих их родичей и знакомых. Именно “туска” более всего возмущала новгородцев, и такого рода поборы со стороны баскаков и разного рода “посольств” будут и позднее причинами многих восстаний.
В чем выражалась монголо-татарская дань (“выход” или “черный бор”, как ее стали называть на Руси)? Единицей обложения на Руси издревле были “плуг”, “дым”, “двор”. Обычно монголы использовали единицы, принятые в той или иной стране. В сельских местностях на Руси монголо-татарская дань также взималась с “сохи” (в ней, по данным Татищева, считалось два коня и два работника мужского пола), а также с “деревни” (примерно равнявшейся “сохе”). В городах “сохе” и “деревне” приравнивался “двор”. “Вятшие”, т.е. богатые новгородцы, видимо, сумели свои “дворы” приравнять к “дворам” “меньших” — обычных ремесленников. И то, что было разорительно для “меньших”, сравнительно мало затрагивало “вятших”.
Своеобразной “сатисфакцией” непопулярной на Руси акции трех князей и одобрявшего их действия митрополита явилось учреждение в Сарае в 1261 году особой епархии. В Орде было немало христиан самого разного толка. Достижением русской дипломатии явилось то, что епископа Митрофана на новую епархию посвящал митрополит Кирилл. Приверженец ислама Берке шел на это, видимо, чтобы ослабить влияние в самой Орде Каракорума, забиравшего значительную часть дани. Новая епархия, конечно, оставалась под надзором ханской ставки, но отныне на Русь стали поступать более свежие и достоверные сведения о положении в Орде.
В 1262 году была достигнута важная дипломатическая победа — заключен мирный договор с Миндовгом Литовским, по которому Полоцк возвращался “под руку” Александра и появлялась возможность совместных действий против Орды. В том же году новгородцы с князем Дмитрием Александровичем и полками, пришедшими из Суздальской земли, взяли Юрьев. С Ригой, Орденом, Любеком и Ганзой был заключен договор о свободной торговле. В результате западные границы были на время прикрыты, но на востоке положение оставалось более чем напряженным.
Как и всюду, на Руси сбор даней ханами был отдан на откуп “бесерменским” (мусульманским) купцам, которых сопровождали монголо-татарские отряды. В 1262 году “от лютого томленья”, “нетерпяще насилья поганых”, Ростов и другие города Суздальской Руси восстали и перебили “бесермен” и их сопровождение. Это выступление было явно подготовленным и скоординированным. Избежать нового ордынского нашествия удалось потому, что сами сборщики даней были выходцами из Каракорума, с которым Берке фактически разорвал отношения. К тому же Золотая Орда вступила в борьбу с улусом Хулагу, в частности, из-за Азербайджана, на который претендовал хан Золотой Орды. Поэтому Берке рассчитывал получить из Руси воинскую помощь.
В результате, Берке счел достаточным вызвать в Орду Александра. В “Житии Александра Невского” это событие упомянуто как бы по свежим следам. “Бе же тогда, — пишет агиограф, — нужда велика от иноплеменник, и гоняхут христиан, веляши с собою воиньствовати. Князь же великий Александр поиде к цареви, дабы отмолити людии от беды тоя…”. Похоже, что получить воинов из Руси ордынскому хану на этот раз не удалось. Но он не отпустил князя, оставив его фактически в качестве заложника. Отпущен Александр был лишь в следующем году тяжело больным — высказывалось предположение, что Александр Невский был отравлен в Орде. Не доехав до Владимира, великий князь скончался в Городце на Волге, приняв схиму, 14 ноября 1263 года в возрасте 43 лет.
Правление Александра Ярославича Невского надолго вошло в историческую память русского народа. Почти четверть века, в самый трудный для Руси период, Александр мечом и дипломатией защищал ее от смертельных угроз и с Запада, и с Востока. Он не знал поражений на поле боя, побеждая с меньшими силами. У него трудно усмотреть и дипломатические ошибки. А судить его потомкам следует не столько по достигнутым результатам, сколько по препятствиям, которые пришлось преодолевать. Автор “Жития” был искренен в плаче: “О, горе тобе, бедный человече! Како можеши написати кончину господина своего! Како не упадета ти зеници вкупе со слезами! Како не урвется сердце твое от горкыя тугы! Отца бо оставити человек может, а добра господина не мощно оставити”. И слово митрополита Кирилла — заказчика “Жития”, автор воспроизвел как свидетель: “Чада моя, разумейте, яко уже зайде солнце земли Суздальской”. Александр Невский был похоронен во Владимире в монастыре Рождества Богородицы.
IV
После смерти Александра Невского осталось четверо его сыновей: Василий, Дмитрий, Андрей, Даниил. На великое княжение стал претендовать Андрей, а оспаривал его притязания дядя — Ярослав Ярославич Тверской. К хану Берке были отправлены послы обеих сторон. Хан вызвал к себе Ярослава и в 1264 году “отпустил” с ярлыком на великое княжение.
В 1266 году Берке скончался, а на ханский трон был возведен Менгу-Тимур (1266–1282), внук Батыя от второго сына Тукана. “И бысть ослаба на Руси от насилия татарского”, — отметит Татищев. На факт этот указывают и сохранившиеся летописи: Тверской сборник, Никоновская и ряд других XV–XVI вв. Поскольку в Новгородской Первой летописи этого сюжета нет, можно предполагать, что он заимствован из несохранившегося ростовского свода. Последовала ли на самом деле “ослаба” — неясно. Возможно, что она и коснулась только Ростова.
Однако именно при Менгу-Тимуре наиболее активно действовала баскаческая система. Баскаки были при всех князьях, контролируя их действия и вмешиваясь в тех случаях, когда интересам Орды усматривалась какая-либо угроза. С баскаками располагались и татарские отряды, выполнявшие как бы полицейские функции за счет местного населения. Менгу-Тимур проводил довольно амбициозную внешнюю политику, не оглядываясь на великих ханов и активно используя русское войско в походах. Еще при жизни Берке среди монгольских полководцев выделялся темник Ногай, который при Менгу-Тимуре стал ведущим полководцем Орды, контролировал обширную территорию от Дона до Дуная и практически все Северное Причерноморье. Соседи областей, контролируемых Ногаем, стремились установить с ним непосредственные отношения. В числе их были и русские князья, искавшие помощи у татар в своих усобицах и спорах за уделы.
Л.Н. Гумилев придавал большое значение упоминанию в летописях под 1269 годом сообщения о походе на немцев (в ответ на нападение их на Псков) русского войска и татарских отрядов, возглавляемых владимирским баскаком Иаргаманом и его зятем Айдаром, обращая особое внимание на фразу “зело бо бояхуся и имени татарского”. Отсюда Гумилев сделал вывод, что татары защищали Русь от внешней западной угрозы. Но у татар были и свои резоны продвигаться на запад, а княжество Литовское было одним из объектов притязаний Орды, тем более что в его составе было немало русских земель, а литовские князья-христиане обычно искали помощи на Руси против сородичей-язычников.
Надо сказать, что новый великий князь Ярослав Ярославич был на редкость далеким от понимания даже текущих проблем Руси, не говоря уже о каких-то перспективах. Он сам обращался в Орду за помощью против тех же новгородцев, и сам приводил татар на Русь. В 1266 году он выступил против псковичей, которые приняли на княжение пришедшего из раздираемой усобицами Литвы князя Довмонта. Главной своей задачей Довмонт считал поддержку христианства в Литве, ради чего совершил с псковичами два успешных похода на Литву. Действия князя активно поддерживали и новгородцы, поскольку и те, и другие постоянно страдали от набегов языческой Литвы. Ярослав же прибыл в Новгород, чтобы идти на Довмонта к Пскову. Новгородцы “возбраниша ему”, приглашая идти на помощь псковичам. Но князь вернулся во Владимиро-Суздальскую Русь.
В 1270 году снова возник конфликт Ярослава с новгородцами, причем на сей раз новгородцы выступали довольно дружно. Вопрос решался на вече, которое постановило изгнать князя из города, “и приятели его и советники его избиша, и дворы их и имение разграбиша”. По Татищеву, к Ярославу “на Городище” “мнози побегоша”, в том числе тысяцкий Ратибор с дружиной. На Городище Ярославу новгородцы направили “грамоту”, в которой излагались “вины” князя. Грамота эта сама по себе любопытна как показатель “будней” в отношениях князя и города. “Неправда” князя заключалась в том, что он держал много ястребов и соколов, и таким образом отнял у новгородцев Волхов и “иные воды”, по которым и новгородцы охотились на уток. Другая вина — князь держит много псов, и отнял у новгородцев заячьи ловли. Перечисляется несколько новгородцев, у которых князь отнял много серебра. Возмущало их и стремление Ярослава изгнать иноземцев, живших в городе, поскольку у них были договоры по всему Волго-Балтийскому пути и с городами Ганзы о равноправной торговле. Намекнув и на “иные вины”, новгородцы заключают: “Не можем терпеть твоего насилия; поиде, княже, от нас добром, а мы себе князя добудем”. Ярослав отправил к вечникам сына Святослава и тысяцкого с покаянием, соглашаясь “исправиться” “на всей воле новгородской”. Но новгородцы были непреклонны: “Княже, не хощем тебя, иди от нас добром; аще ли не тако, то прогоним тебя и не хотящу ти”.
Ярослав ушел в Новгород и направил Ратибора в Орду просить татарской помощи, обвиняя новгородцев в том, что они его не слушают, не дают дани в Орду, выгнали сборщиков дани и иных “смерти предаша”, самого Ярослава с бесчестием выгнали, а на хана возводят хулу. Естественно, хана эта просьба обрадовала, и он стал готовиться к походу. В этой ситуации Дмитрий Александрович отказался от очередного предложения новгородцев прийти к ним на княжение. Ситуацию разрядил княживший в Костроме Василий Ярославич. Он направил посольство в Новгород, предупредить о намерении Ярослава с Дмитрием Александровичем и смоленским князем Глебом Ростиславичем, вместе с татарами, идти на Новгород, сам же отправился в Орду отговорить хана от намерения послать свое войско. Князь убедил хана в том, что виноват во всем сам Ярослав, новгородцев же убеждал помириться с повинившимся князем.
Ярослав с сыновьями и названными князьями все-таки направились к Новгороду, но новгородцы огородились острогом, образовали внушительный оборонительный заслон, который Ярослав не решился штурмовать. Он обратился за помощью к митрополиту Кириллу, покаялся в своих винах перед ним и обещал вновь покаяться перед новгородцами, и тот сумел помирить князя и новгородцев.
В том же году проявил себя рязанский баскак. Он донес Менгу-Тимуру о том, что Роман Ольгович Рязанский хулит хана и ругает его веру. Роман Ольгович был вызван в Орду и подвергнут мучительной казни. Впоследствии Роман будет, как мученик за веру, причислен к лику святых.
В 1271 году скончался Ярослав Ярославич, по одним летописям “в Татарех”, по другим — “идя из Орды”. В 60 — 70-е годы XIII века русские князья постоянно навещали Орду, и неизвестно, умирали ли они там от естественной болезни, или им в этом “помогали”. После кончины князя родился его сын, нареченный Михаилом. Это — будущий великий князь Тверской Михаил Ярославич.
Великим князем после Ярослава стал младший Ярославич — Василий, упомянутый выше костромской князь. И сразу возникают разногласия, выливающиеся в усобицу Василия Ярославича с племянником Дмитрием Александровичем из-за Новгорода. В итоге в 1272 году Василий направляет воеводу Семена на новгородские волости, а сам идет к Переяславлю и Торжку, который сжег и посадил там наместников. Семен же вернулся “со многим полоном” из новгородских волостей.
В 1273 году на новгородские земли обрушился еще более массированный набег, в котором помимо “низовских” полков Василия Ярославича участвовали татарские отряды тех же Иагармана и Айдара и “татары ханские”, а также приглашенные тверским князем Святославом Ярославичем (сыном Ярослава Ярославича) татарские отряды из Орды. Были разграблены новгородские волости, города Волок, Бежицк, Вологда. Отовсюду во Владимир и в Тверь тянулся “полон”, а новгородских купцов повсюду захватывали и грабили. В этих условиях новгородцы не решились отстаивать свои владения и склонили голову перед Василием Ярославичем и соответственно перед грабившими их татарами.
Как видно, русские князья сами отдавали свои земли на татарское разорение. Возможно, именно эта ситуация могла стать главной причиной возвращения митрополита Кирилла в Киев. В следующем, 1274 году он привезет во Владимир нового епископа, киево-печерского архимандрита Серапиона. Серапион Владимирский станет известен как автор “Слов” и “Поучений”, проникнутых болью за пороки современников: междоусобия князей, “несытоство имения”, “резоимство” — ростовщичество, и вообще “всякое грабление”. И все это творилось на фоне очевидной для всех картины монголо-татарского произвола и насилия, разграбления русских земель, буквального порабощения, то есть обращения в рабство и продажу на невольничьих рынках, многочисленного “полона”. К сожалению, в следующем году Серапион скончался. Но его позиция, позиция митрополита Кирилла и в целом Русской Церкви, несмотря на привилегии, полученные от ордынских ханов в виде освобождения от даней и постоев, показывает, что Церковь, по крайней мере на высшем уровне, стремилась мобилизовать население на борьбу с ордынским игом. И именно этой цели служили канонизации князей Михаила Черниговского и Романа Олеговича Рязанского, погибших в Орде в муках, но не потерявших человеческого и христианского достоинства.
Под 1275 годом летописи сообщают о большом походе монголо-татар и русских князей на Литву. Одни из них говорят о возвращении “с большим полоном”, а другие, напротив, отмечают, что участники похода “не успевше ничто же, възвратишася назад” (Симеоновская и Троицкая летописи). Но именно в этом сообщении мы находим изображение реальной картины ордынской “помощи”: “Татарове же велико зло и многу пакость и досаду сътвориша христианом, идуще на Литву, и пакы назад идуще от Литвы того злее створиша, по волостем. По селом дворы грабяще, кони и скоты и имение отъемлюще, и где кого стретили, облупивше нагого пустять; …и всюды, и вся дворы, кто чего отбежал, то все пограбиша погании, творящеся на помощь пришедше, обретошася на пакость. Се же написах памяти деля и пользы ради”. Как видно, “помощь” обернулась очередным разорением русских земель.
В 1275 году, по сообщению Никоновской летописи и Татищева, произошла вторая перепись потенциальных плательщиков дани на Руси. Текст Татищева оказывается наиболее информативным, поскольку только в нем указаны размеры дани: “Князь великий Василей поиде во Орду к хану. Егда прииде князь великий во Орду и принесе дань урочную со всея земли по полугривне с сохи, а в сохе числиша два мужи работнии, и дары многи, и выход особ, и хан прият его с честию, но рече: “Ясак мал есть, а люди многи в земли твоей. Почто не от всех даеши?”. Князь же великий отъимаяся числом баскаков прежних (то есть отговаривался данными первой переписи. — А.К.). И хан повеле послати новые численики во всю землю Русскую с великими грады, да не утаят люди”. В более кратком изложении Никоновской летописи отмечено, что иноки и церковный притч от даней освобождались.
В зиму 1276/77 г. скончался князь Василий Ярославич. Преемником Василия Ярославича на великокняжеском столе стал его племянник и недавний противник Дмитрий Александрович. Новгородцы сразу же пригласили Дмитрия Александровича к себе.
Другие русские князья потянулись в Орду за новыми и подтверждением старых ярлыков и оказались мобилизованными Менгу-Тимуром для похода на Северный Кавказ, где 8 февраля (уже 1278 года) был взят “ясский” (аланский) город Дедяков. Менгу-Темир князей русских “похвалив велми и одарив всех, и отпусти их на Русь, в свои их отчины с многою честию и с дары”.
А великий князь Дмитрий Александрович тем временем занимался только новгородскими делами. Вскоре после появления в Новгороде он организовал поход на Карелу “и взя землю их на щит”. В следующем году он срубил город, а затем, в 1279 году, вместе с посадником и “с болшими мужи” обложили город камнем. И, как обычно, после этих успехов князь и новгородцы перессорились, и Дмитрий Александрович ушел в Переяславль, где в это время находился митрополит Кирилл, и где он скончается 7 декабря. Сюда из Новгорода прибыл епископ Климент ради благословения у митрополита и с предложением мира и любви от новгородцев ко князю. Князь, однако, не примирился и пошел на Новгород с “низовской” ратью. Снова “с челобитьем, и с молением, и с дары” новгородцы высылают навстречу князю Климента. Взяв дары, Дмитрий вернулся с братьями во Владимир.
1281 год заполнен в летописях сообщениями об усобицах. Одна развернулась в Ростове, где правил дуумвират братьев Дмитрия и Константина. Между ними и возникла вражда, и Константин отъехал к великому князю Дмитрию Александровичу во Владимир, но великий князь примирил братьев.
Другая усобица оказалась серьезней и тяжелей по последствиям. Андрей Александрович, младший брат Дмитрия Александровича, отправился в Орду к хану, “ища себе княжения великого под братом своим старейшим”. И “многими дарами” добился желаемый ярлык на великое княжение. Получив известие о намерении Дмитрия защищаться, Андрей вновь обратился к хану, акцентируя внимание на непослушании Дмитрия распоряжениям самого хана. Хан направил на Русь вместе с Андреем двух своих воевод с татарской ратью. Придя к Мурому, Андрей попытался объединить вокруг себя других русских князей, чтобы совместно идти к Переяславлю на старшего брата. Татары же разорили и Муром, и все предместья Владимира, Юрьева, Суздаля и Переяславля: “Все пусто сътвориша и пограбиша люди, мужи и жены, и дети, и младенци, имение все то пограбиша и поведоша в полон”. Князь Дмитрий с малой дружиной, женой, детьми, боярами и двором бежал к Новгороду и остановился в Копорье, готовясь при случае бежать “за море”. Новгородцы не только отказались помогать князю, но взяли в заложники двух его дочерей и бояр. Татары же продолжили грабежи под Ростовом, Тверью и Торжком: “Испустошиша и городы, и волости, и села, и погосты, и манастыри, и церкви пограбиша, иконы и кресты честныя, и сосуды священныя служебныя, и пелены, и книги, и всякое узорочие пограбиша, и у всех церквей двери высекоша, и мнишьскому чину поругашася погании...”
Князь Андрей Александрович утвердился на великокняжеском столе и отпустил татар в Орду. Но результатом монголо-татарской “помощи”, к которой прибегали, к сожалению, многие князья, стало очередное разорение русских земель.
Дмитрий Александрович с помощью псковского князя Довмонта сумел сохранить свою дружину и казну в Копорье и вернулся в Переяславль, куда стали собираться и многие пострадавшие от татарского разорения. Получив известие об этом, Андрей Александрович снова отправился в Орду и привел новую ордынскую рать. Дмитрию с семьей, дружиной и со всем двором пришлось бежать к Ногаю, который держался независимо от Сарая и принял беглецов “с честью”, но реальной помощи не оказал.
В русских летописях нет сведений о кончине Менгу-Тимура в 1282 году. Между тем это событие существенно меняло расклад политических сил и в Орде, и на Руси. В Орде начинается “замятня” — борьба за стол великого хана, которая велась до тех пор, пока в 1290 году не утвердился сын Менгу-Темира хан Тохта (правил в 1290–1312). Тохта пришел к власти с помощью Ногая, а в 1300 году именно им Ногай будет убит. В русских источниках он упомянут уже под 1291 годом, в то время как правившие 8 лет его предшественники по именам ни разу не названы.
В условиях внутриполитической борьбы в Орде, соискатели великокняжеского стола на Руси на столь массированную “помощь”, какую получил Андрей Александрович в 1281 году, рассчитывать не могли. Может быть, это обстоятельство и примирило соперников, причем Дмитрий снова вернулся во Владимир, а Андрей пошел в Нижний Новгород. Борьба между братьями, однако, будет продолжаться, хотя Дмитрий сохранит титул “великого князя” до своей кончины в 1294 году.
В 80-е годы XIII века произошли некоторые события, отмеченные большинством летописей. Прежде всего, это связано с появлением в 1283 году, после трехлетнего перерыва, на митрополичьем столе в Киеве митрополита-”гречина” Максима (ум. 1305). В следующем году в Киев были созваны все епископы, где митрополит знакомился с владыками, занимавшими русские епархии. В 1288 г. Максим поставил епископом во Владимир, Суздаль и Нижний Новгород Иакова, а в 1289 г. игуменом ростовского монастыря Иоанна Богослова Тарасия. По просьбе Михаила Ярославича Тверского, его матери и бояр в Тверь был утвержден епископом игумен общежительского монастыря Богородицы литвин Андрей.
Многие летописи отметили также “зло”, происшедшее в Курском княжении в 1284–1285 годах, то есть во время смуты в Орде. Событиям этим посвящалась специальная повесть, в которой ставилась принципиальная проблема: бороться с татарами или приспосабливаться к их власти? Вопрос этот вставал в условиях жесточайших репрессий в основном перед отдельными личностями, сознательно шедшими на мученическую смерть (Михаил Черниговский, Роман Олегович Рязанский и некоторые другие).
Летописная “Повесть” ставила главный вопрос времени: как жить дальше? В Никоновской летописи и у Татищева дается вводное пояснение: ордынские ханы и их князья собирали дань разными путями — либо отдавали ее на откуп тем же баскакам, либо ее привозили в Орду сами русские князья, либо продавали право на ее сбор “гостям”, т.е. приезжавшим в Орду купцам, которые “тако корысть себе приобретаху”.
События разворачиваются вокруг курского баскака Ахмата. По Симеоновской летописи это был “бесерменин злохитр и велми зол”, а по Никоновской и “Истории” Татищева — “князь татарский”, “Темиров сын”. Баскак “откупаша у Татар дани всякия и теми даньми велику досаду творяше князем и черным людем в Курском княжении”. Помимо этого, баскак в вотчине князя Рыльского и Ворголского Олега создал две слободы, куда стекались люди из разных мест, и “насилие творяху христианам”, окрестные волости “пусто сътвориша”. Олег, договорившись со своим родичем Святославом Липецким, отправился с жалобой в Орду, учитывая, что Ахмат ориентировался на Ногая. Из Орды дали князю “приставы” и разрешение разорить слободы, а их со Святославом людей вывести в свои волости, что и было совершено.
Ахмат находился в это время у Ногая и, услышав о случившемся, “замысли сдумати клевету на Олега к царю Ногаю”. В результате Ногай дал Ахмату рать, с которой тот разорил земли князей, а захваченных в плен бояр изощренно казнил. “А трупья бояр тех, — сообщают летописи, — повеле по деревьям развешати, отъимая у всякого голову да правую руку; и начаша бесермена вязати головы те кътором боярскыя, а руки выкладоша в судно и въставиша на сани и поидоша от Воргола, и пришедше в села и потом в Туров. Хотеша же послати по землям головы и пукы боярскыя, ино некуда послати, все княжение изымано, и тако пометаша головы и рукы боярскыя псом на снедь… Мнози человеци от мраза изомроша, людие облуплени суще (то есть, раздеты), мужие и жены и младенци”. Завершая рассказ обычным рефреном о наказании за грехи, автор особо подчеркивает: “Мню же и князей ради, понеже живяху в которе”. Князья действительно жили “в которе”, то есть в распрях. Это относилось и к двум названным князьям, и последующие события проявили это в полной мере.
Ахмат оставил двух своих братьев сторожить слободы, а сам отправился в Орду, “держася рати Татарскыя”, поскольку “не сме жити в Руси”, пока князья оставались на свободе. И уже в следующем году Святослав Липецкий, не посоветовавшись с Олегом, решил провести акцию мести. “Два бесермена” с тридцатью русскими переходили из одной слободы в другую, когда были перехвачены дружиной Святослава. Были убиты и эти “бесермены”, и 25 человек русских. Братья Ахмата бежали в Курск, а люди из слобод разошлись кто куда. Олег, вернувшийся из Орды, осудил акцию Святослава. И у татар, и на Руси такие нападения квалифицировались как “разбойные”. Олег настаивал на том, чтобы Святослав шел оправдываться в Орду, но Святослав отреагировал жестко: “Аз сам ведаюся в своем деле, прав аз, аже есмь тако учинили, то суть мои ворози”.
Олег упрекал Святослава в нарушении договоренностей и в нежелании искать справедливости в Орде. Сам он снова отправился в Орду и, вернувшись с татарским войском, “уби князя Святослава по цареву слову”. А вслед за тем брат Святослава Александр убил Олега и его сына Давыда. “И сътворися радость диаволу и его поспешнику бесерменину Ахмату”, — заключается рассказ в Симеоновской летописи. Никоновская летопись и “История” Татищева содержат указание на то, что Александр тоже ходил в Орду с дарами и получил от хана рать, с которой и расправился с Олегом и (в этом варианте) с двумя его сыновьями. И завершается повесть в этих источниках философски: “Многа убо и велика сиа повесть, но множества ради оставлена бысть; может бо и малая сиа повесть человеку ум имущему плач и слезы сътворити”.
Поводом для “плача и слез” могло послужить и еще одно деяние русских князей. Вскоре после занятия Тохтой великоханского стола в Орде, Андрей Александрович и князья ростовские, а также епископ ростовский Тарасий, отправились в Орду с жалобой на Дмитрия Александровича. Хан сначала думал вызвать в Орду Дмитрия, но затем решил отправить с просителями брата своего Дюденя с большой татарской ратью. Переяславцы разбежались, а Дмитрий бежал в Псков. Печально знаменитая “Дюденева рать” рассыпалась по Суздальской земле, взяла и разорила 14 городов, включая Владимир, Суздаль, Переяславль, Москву. В стороне от разорения осталась только Тверь (но и она была разорена в следующем году другой ордынской ратью). Дюдень собирался идти и на Новгород, но новгородцы откупились богатыми дарами. Ордынская рать повернула назад в степь, перегруженная, как обычно, награбленным имуществом и “полоном”, а Андрей Александрович продолжал добиваться великокняжеского стола основательно разоренного Владимира, который и получил после смерти Дмитрия в 1294 году.
Новый цикл межкняжеских противоречий начался в 1296 году, чем снова воспользовались татары: на Русь прибыл Олекса Неврюй с татарской ратью, выполняя и функции посла. Князья собрались на съезд, где против Андрея Александровича встали Михаил Тверской, младший брата Даниил Александрович и представители переяславцев. На сей раз разошлись мирно, но противостояние сохранилось.
В 1299 году Киев покинул митрополит Максим, “не терпя насилья от татар… и весь Киев разыдесь”. Максим поначалу направился в Брянск, но, в конечном счете, оказался во Владимиро-Суздальской земле и занял владимирскую кафедру. Этот факт показывает, что даже при всех многократных разорениях со стороны Орды и внутренних усобицах, именно Северо-Восточная Русь оставалась в перспективе единственной землей Руси, где могло начаться возрождение. Следующий XIV век, который тоже будет нелегким для Руси, подтвердит это положение — именно здесь, в конечном счете, начнется преодоление страха, растерянности, мелочных конфликтов князей и неорганизованности.
V
Вопрос о размерах татарской дани — главный в оценке последствий монголо-татарского ига, — в исторической литературе в полной мере не разработан. Причина этого — недоверие к уникальным данным “Истории Российской” В.Н. Татищева. В результате же в “трудах” “евразийцев появляются утверждения о том, что дань, наложенная Золотой Ордой на Русь, была совсем невелика. Так, постоянный мотив публикаций Л.Н. Гумилева — русские жили при татарах столь же привольно, как и ранее. Другой “евразиец”, В.В. Кожинов, поддерживая эту концепцию, утверждал, что “в среднем на душу населения годовая дань составляла всего лишь один-два рубля в современном исчислении! Такая дань не могла быть обременительной для народа, хотя она сильно била по казне собиравших ее русских князей (в чем логика? — А.К.). Но даже и при этом, например, князь Симеон Гордый, сын Ивана Калиты, добровольно жертвовал равную дани сумму денег для поддержания существования Константинопольской патриархии”.
Подобное ответственное утверждение дается со ссылкой на статью П.Н. Павлова, опубликованную в 1958 году в “Ученых записках” Красноярского пединститута. В этой статье такого заключения нет и быть не могло: мы не знаем ни общей суммы дани, ни численности населения, обложенного данью. Едва ли не лучший знаток татарской политики на Руси А.Н. Насонов остановился в недоумении, встретив указание на то, что татары выделили на территории Великого княжества Владимирского 15 тем. Ведь это означало, по меньшей мере, десятикратное сокращение населения в результате нашествия! В конечном счете, видимо, так оно и было. Но решение данного вопроса должно осуществлять не путем деления одного неизвестного на другое неизвестное, а выяснением норм обложения.
Как было отмечено, в нашей литературе указание В.Н. Татищева на размеры дани не привлекло должного внимания. Один из крупнейших и авторитетных историков первой половины ХХ века Б.Д. Греков, заметил, что “конечно, Татищев не выдумал здесь “сохи”, а взял ее из летописи, до нас недошедшей”. Но он усомнился в том, что “соха” могла быть представлена двумя работниками.
“Соха”, очевидно, значит то же, что и “плуг” в “Повести временных лет”, с которого платили дань вятичи и радимичи, а также многие западнославянские племена. “Плуг”, как и “соха”, предполагал размеры поля, которые могут быть обработаны этими орудиями труда за один сельскохозяйственный сезон. Представление о “плуге” как единице обложения дает автор XII века Гельмольд, говоря о балтийских славянах: это пара лошадей или волов, впрягаемых в орудие пахоты, и соответственно размер обрабатываемого ими участка земли. В конце XIX века на пару лошадей в среднем приходилось 7,2 десятины пашни. За семь столетий технология сельскохозяйственного производства изменилась мало. Но все-таки 7 десятин, видимо, максимальный размер древней “сохи”.
Б.Д. Греков усомнился в том, что “соха” может определяться количеством работников. Но взаимосвязь между обрабатываемой площадью, численностью рабочего скота и количеством рабочих рук предполагалась всегда. Возможны были и другие варианты в зависимости от местных условий. В новгородской грамоте середины XV века о предоставлении князю Василию Васильевичу “черного бора” (татарской дани) с Новоторжских волостей, поясняется: “А в соху два коня, а третье припряжь (т.е. пристяжной. — А.К.)”. Поскольку “сохи” по местностям различались, Иван III в 1478 году с присоединением Новгорода “велел въспросити, что их соха; и они сказали: 3 обжи соха, а обжа один человек на одной лошади орет (т.е. пашет. — А.К.), а кто на трех лошадех и сам третей орет, ино то соха”.
В новгородской грамоте имеется и перечень равноценных замен “сохи” для промыслового населения: чан кожевничий, невод, “четыре пешци” (то есть безлошадные), кузнец, лавка. За ладью и чан для выварки соли числили две “сохи”. Испольщики (работавшие исполу, из половины урожая) вносили по “полсохи”. В городе окладной единицей служил “двор” или “дом”. Но предполагалась и дифференциация по роду занятий. Как отмечалось выше, “соху” могла заменять “деревня”. При этом “деревня” часто была меньше “сохи”. Так, в новгородских писцовых книгах 1500 года упоминается шесть владычных деревень, насчитывавших вместе с погостом лишь 11 дворов с 14 жителями, что составляло 13 обж или 4 с третью сохи.
Когда-то “двор” и “соха” в основном совпадали. Но в монгольский период семьи были и малочисленны, и маломощны, что было естественно и связано с тяготами жизни. Поэтому редкий двор мог вести хозяйство на уровне “трудовой нормы” начала XX века, примерно совпадающей со старой “сохой”. В упомянутом погосте высевалось 52 коробья хлеба (примерно 350 пудов), или 80–90 пудов на “соху”, как и в начале нашего XX столетия. Урожай исчислялся соотношением посеянного и полученного. Различаясь в разных местах и в разное время, в Северной Руси он обычно составлял от “сам-два” до “сам-четыре”. В голодные годы часто не собирали и семена. Урожай “сам-два” оставлял на потребление те же 80–90 пудов, “сам-четыре” соответственно 240–270 пудов. Это и есть основной доход крестьян, включенных в “соху”.
Важно определить, что стоила в названном татищевском тексте “полугривна”. Новгородская гривна содержала 204 грамма серебра, полугривна — 102 грамма. Что можно было купить на эту сумму в XIII — XV веках и где мог добыть серебро крестьянин? В.О. Ключевский подсчитал, что рубль конца XV века стоил в 130 раз больше рубля конца XIX века. Это связано и с уменьшением содержания серебра в рубле, и с неуклонным отставанием производства от роста находящегося в обращении металла.
В конце XIX века батрак и однолошадный крестьянин зарабатывал и потреблял с семьей за год продуктов на сумму менее ста рублей. Это много меньше, чем рубль XV века. Упомянутый П.Н. Павлов сделал выписку из Псковских летописей о ценах на хлеб в XV веке: они колебались от 87 до 250 пудов за рубль. Псковские летописцы вообще внимательно следили за ценами и выплатами. Так, под 1424 годом сообщается о сооружении каменной стены у псковского кремля: 200 мужей три с половиной года строили стену и получили за это по 6 рублей каждый (1200 рублей на всех). Под 1465 годом летопись говорит о новом строительстве стены. На сей раз трудились 80 “наймитов”. За три года они получили 175 рублей, то есть немногим более двух рублей на каждого.
Такова была плата за труд в XV веке. В XIII — XV веках она не могла быть большей, поскольку и серебра было много меньше, и производительность труда, в частности ремесленного, упала в связи с разрушением многих городов и угоном ремесленников в рабство. 1 рубль — это почти предел платы, которую мог получить работник за год. А добыть “серебро” в деревне всегда было во много раз сложнее. Приходилось ждать купцов и, предлагая свою продукцию, мириться с их неизбежно заниженными ценами. Таким образом, татарская дань в размере одного или двух рублей в год — это был настоящий грабеж, практически не оставлявший населению деревень и городов возможностей не только для расширения производства, но и для обычной жизни.
Татарская дань не была постоянной. Обычно князья пытались добиться ее уменьшения, а Орда — увеличения. Уменьшить дань можно было, очевидно, заменой какими-то иными услугами, вроде поставки вспомогательных ратей в татарское войско. Но до середины XIV века действовали нормы, установленные еще первыми переписями, проведенными в XIII веке. Об этом говорят косвенные данные. Так, сразу после смерти Ивана Калиты, жители Торжка, опираясь на помощь Новгорода, отказались вносить дань. Симеон Гордый направил к Торжку большое войско, и новгородцы согласились отдать “бор по волости”, а новоторжцев обязали внести 1000 рублей. Мир восстанавливался “по старым грамотам”. Видимо, это та сумма, которую обычно вносил Торжок. Вряд ли город имел в это время более тысячи облагаемых дворов (после монгольского разорения таких городов были единицы). А это совпадает с уровнем, утвержденным в XIII веке. Другие косвенные данные — воспоминания о тяжести дани при хане Узбеке. В летописях есть указания на то, что были попытки распространить дань и на духовенство. Так, в 1342 году в Орду был вызван митрополит Феогност, от которого требовали “полетной” дани, так как он имел большие доходы, обирая низшее духовенство и мирян. От претензий митрополиту пришлось отбиваться взятками: он оставил в Орде 600 рублей.
Ослаблением Орды русские князья будут пользоваться, а освобождение от дани было важнейшей задачей в рамках свержения ига вообще. Но после нашествия Тохтамыша, под 1384 годом летописи сообщают о “дани тяжкой” “по всему княжению великому, всякому без отдатка, со всякие деревни по полтине. Тогда же и златом даваша в Орду, а Новгород Великий дал черный бор”. О дани “по рублю с двух сох” говорится и в письме Едигея Василию Дмитриевичу несколько позднее, в начале XV века. Этимологически “рубль” — это отрубленная часть. А потому “рубль” должен соответствовать половине гривны. Но Дмитрий Донской, начав собственную чеканку монеты, установил величину рубля равной новгородской гривне. Следовательно, после нашествия Тохтамыша была восстановлена изначальная грабительская дань.
“Соха” вовсе не была единственной мерой обложения. В.В. Каргалов насчитывает 14 видов даней. Содержание татарских посольств, насчитывавших по тысяче и более человек и живших месяцами на Руси, обходилось нередко дороже и самого “черного бора”. Поэтому восстания в большинстве случаев являлись ответами на насилия, чинимые “послами”.
Переводить рубли эпохи монгольского владычества в рубли современные — дело бессмысленное. Ведь рубль того времени — это больше годового потребления половины крестьянских дворов рубежа нашего века. По сравнению с варягами, хазарами и собственными князьями, монголо-татары забирали в десятки раз больше. Напомним, что в соответствии с “Повестью временных лет” вятичи и радимичи платили хазарам, а затем русским князьям по “щелягу” с плуга, где “щеляг” — это западный шиллинг, название самой мелкой монеты в Польше. Поэтому можно удивляться, как люди выживали в условиях монголо-татарского ига. С другой стороны, неудивительно, что выживали немногие. И такое положение сохранялось более двух столетий.
Нельзя сравнивать и два разнопорядковых явления — татарскую дань и “подарки” константинопольским патриархам. Собственно “подарки” не были столь обязательными и столь накладными, хотя они не были и вполне добровольными. Вымогание взяток с кандидатов на митрополичьи столы — повседневная практика константинопольских патриархов, о чем прямо говорят летописи в записях XIV века. А Симеону Гордому пришлось раскошелиться по вполне житейскому поводу. В 1346 году он “отослал” от себя вторую жену и посватался к дочери Александра Михайловича Тверского. Но митрополит-грек Феогност “не благословил его и церкви затвори”. Пришлось направить посольство в Константинополь за “благословением”. А подобные расходы, действительно, сопоставимы с монгольской данью. И собиралась княжеская казна все с тех же крестьян.
Так на самом деле выглядело монголо-татарское господство на Руси в течение почти двух с половиной столетий. И факты не так далеко запрятаны, чтобы отказываться от их выявления. А факты в данном случае — “упрямая вещь”: они лишний раз вскрывают умозрительность и спекулятивность “евразийства” и заодно, по сути, демонстрируют неуважение прошлых и нынешних “евразийцев” к предкам, если и не своим, то той страны, о которой идет речь.
Аполлон Кузьмин, доктор исторических наук, профессор
http://www.voskres.r...tory/kuzmin.htm
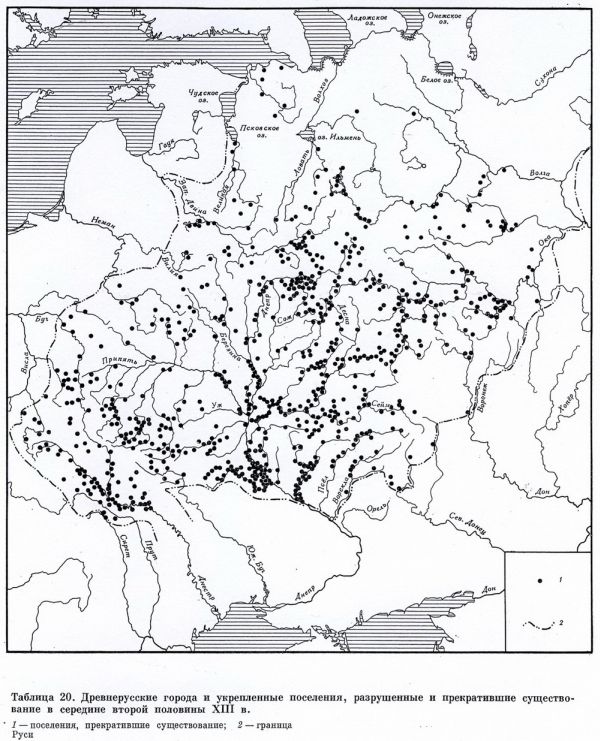
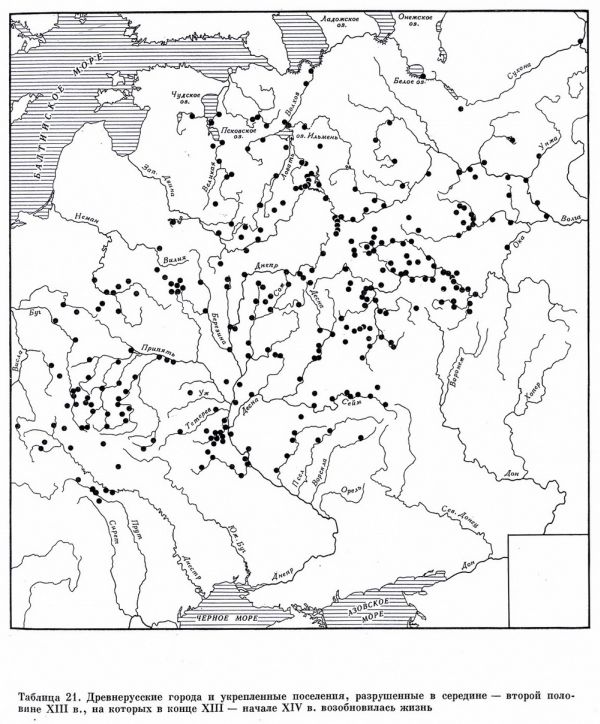
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться




 Наверх
Наверх Ответить
Ответить Цитировать
Цитировать










