Крюков М.В. Этнос и субэтнос. – Расы и народы, 1988, № 18, с.16-45.
Цитата
Подавляющее большинство этнографов, так пли иначе обра¬щающихся в своих исследованиях к данному кругу проблем, еди¬ны в признании того, что одним из главных признаков этноса (этнических свойств) является обладание общим языком. По мнению А. И. Першица и П. Чебоксарова, «хотя универсаль¬ный принцип классификации народов до настоящего времени еще не найден, однако определенным шагом па этом пути можно считать разработанную советскими учёными этнолингвистиче¬скую классификацию». Причем считается, что «выяс¬нение этнического состава... требует предварительного проведе¬ния лингвистического анализа и создания языковой классификации, которая может лечь в основу классификации этнолингви¬стической» . Языковая классификация, о которой в данном случае идет речь, представляет собой генетическую группировку идиомов, пли коммуникативных систем различного таксономического уровня, которым, как и этническим общностям, свойственна иерархичность; внутри языков (единиц основного уровня) вы¬деляются диалекты, а сами они в большинстве случаев входят в состав общностей более высокого ранга — языковых групп, се¬мей языков и т. д. При этом, по мнению Ю. В. Бромлея, «если степень внутреннего единства таких общностей ослабевает по мере повышения таксономического уровня (от диалекта до линг¬вистической общности типа языковой семьи), то наибольшей четкости лингвистическая граница достигает, так сказать, на «среднем» уровне — на уровне отдельного языка, являющегося основной лингвистической единицей». Таким образом, таксоно¬мические ранги системы идиомов могут быть определенным об¬разом соотнесены с иерархией этнических общностей, причем в обоих случаях единицы основного уровня (язык и этнос) долж¬ны совпадать между собой.
Однако в своей работе 1967 г. С. И. Брук и В. И. Козлов при¬вели статистические данные, явно противоречащие этой точке зре¬ния. Оказывается, лингвисты насчитывают в мире до 2,5 тыс. языков, тогда как общее число народов па земном шаре можно свести примерно к тысяче или даже к несколько меньшей циф¬ре. Но если общее число народов, или этнических подразделе¬ний основного уровня, более чем в 2,5 раза меньше числа основ¬ных единиц языковой классификации, то каким образом можно утверждать, как это делает С. И. Брук в справочнике «Населе¬ние мира», что «лингвистическая группировка является тем са¬мым и этнической классификацией»?
некоторые специалисты проявляют колебания в воп¬росе о том. возможно ли в принципе разграничение языка и диалекта собственно лингвистическими методами.
Явно непоследовательна в данном вопросе позиции С. Ару¬тюнова. Обращаясь в одной из своих недавних работ к характе¬ристике мегрельского, сванского и других картвельских языков, он констатировал: «С лингвистической точки зрения бесспорно, что это особые языки, имеющие даже собственное внутреннее диалектное членение». Вместе с тем автор утверждал: «Нет до¬статочно четких и корректных чисто лингвистических критериев, по которым можно было бы провести разделение между понятиями «язык» и «диалект». Если это так, то дан¬ные языка в сущности утрачивают свое значение для решения вопроса о вычленении основных единиц этнической таксономии.
Имеются ли в таком случае в распоряжении этнографа какие-либо иные критерии для выявления таксономических уровней этнической иерархии?
По мнению А. И. Першица и Η. Н. Чебоксарова, в том слу¬чае, когда язык не является достаточным разграничительным признаком, следует принять во внимание другие этнические свойства, прежде всего характерные культурные особенности на¬рода и его этническое самосознание. Что касается особенно¬стей культуры, то советскими этнографами все более определен¬но начинает высказываться мысль о том, что культурная общ¬ность в принципе не тождественна этнической. Действительно, соотнесенность тех или иных черт материальной и духовной культуры с определенным этносом выражена еще менее отчет¬ливо, чем языка. Недаром классификация элементов культуры дает в конечном итоге систему, не связанную с генетической группировкой народов,— хозяйственно-культурные типы, ареалы которых, как правило, вообще не совпадают с этническими гра¬ницами.
Другое дело — этническое самосознание. Этот признак этноса, выражающийся прежде всего в осознании им единства и ина-ковости по отношению к другим этносам, возникает в качестве производной от всей совокупности характеристик этноса. По¬этому качественные сдвиги в этническом самосознании знаменуют собой «критические точки» в процессе возникновения, развития и гибели этноса.
На важную закономерность механизма этнического процесса указывал П. И. Кушнер. В свое время он вполне обоснованно критиковал Е. Карского, излишне прямо¬линейно трактовавшего взаимосвязь между утратой этнической общностью своего родного языка и изменением ее самосознания "когда отдельные члены ее по тем или иным причинам утрачи¬вают материнский язык, они перестают сознавать свою при¬надлежность к данному племени». «Эта псевдоаксиома Карского, писал П. И. Кушнер,—опровергается классическим примером не только Ирландии, но и многих других стран. В Балканских странах сплошь и рядом попадаются отдельные группы населения, говорящие на чужом языке,—и тем не менее, они не утрачивают сознания принадлежности к определенному народу». Функции языка как этнического при¬знака заключаются прежде всего в обеспечении коммуникативных связей внутри этноса. В данном смысле неважно, пользуется ли этнос своим собственным языком или заимствовал его у другого народа. Поэтому нередки примеры этнических общностей, говоря¬щих на одном и том же языке. Поэтому, например, для этнического единства испанцев не имеет значения то обстоятельство, что на испанском языке говорят еще чилийцы и никарагуанцы. Иначе обстоит дело с ситуацией, обычно приводимой в каче¬стве примера несовпадения языковых и этнических границ, а сле-твательно, и недостаточности собственно лингвистических средств для определения границ этноса,—я имею в виду утверждение, что субэтнические подразделения одного народа могут пользоваться разными языками. Фактически признавая реаль¬ность такого положения вещей, В. И. Козлов указывает на его исключительность. Такая точка зрения встретила возражения со стороны Бромлея, полагающего, что в действительности подобные случаи не столь уж редки. В самом деле, в литера¬туре неоднократно ссылались на такие народы, как мордва, марийцы, башкиры, карелы, эвенки, украинцы, армяне в СССР и шотландцы, ирландцы, норвежцы в Европе.
Современные теоретические штудии в области этнических самоназваний стали возможными только в результате достиже¬ний этнографов в исследовании теории этноса. Что касается практической работы по этническому размежеванию, проводив¬шейся в СССР в основном в 20—30-годах, в то время она еще не была обеспечена необходимыми методологическими разработ¬ками. В частности, критерий этнического самосознания и само¬названия совершенно не учитывался в работе по определению границ этнических подразделений основного уровня в Южной Сибири. К началу нашего столетия на Алтае проживали различ¬ные тюркоязычные этнические общности: теленгиты (самоназва¬ние qy-кижи), алтайцы (алтай-кижи), телесы (улаан-кижи), ту-балары (туба-кижи), челканцы (куу-кижи), шорцы (шор¬ки,ки) и др. Этнографические, лингвистические, антропологиче¬ские исследования показывают, что перечисленные общности объединялись в две группы — южную и северную, обнаруживав-шие резкие различия в культуре и быте, языке, физическом типе. Тем не менее, они были объявлены алтайцами — единым народом, на ко¬торый в качестве этнонима распространилось самоназвание одно¬го из подразделений.
В своей недавней работе финский исследователь К. Янху-нен весьма убедительно показал общую закономерность возник¬новения в русском языке наименований различных народов Си¬бири. В период существования Сибирского ханства русские, стремившиеся к освоению восточных территорий, вынуждены были пользоваться северным путем, который вел по морю к устьям Оби, Таза и Енисея. От самоедов русские узнали назва¬ние эвенков, населявших более восточные районы,— тундровые ненцы — tungosa, лесные ненцы — tiiikns. Через русский язык экзоэтноним «тунгус» проник в европейские и японский языки, а также был заимствован некоторыми сибирскими народами. Про¬двигаясь далее на восток, русские вступали в контакты с други¬ми ранее им не известными этносами и использовали для их обозначения экзоэтнонимы, употреблявшиеся эвенками. Так в русском языке появилось название для якутов (эвенк, jakö, jaködi), которые оказались противопоставленными долганам, хотя и те и другие используют общее этническое самоназвание «саха».
Этнограф, знакомый с подобной ситуацией, несомненно, не проидет мимо того факта, что самоназвания «тубалар» (субэтни¬ческое подразделение алтайцев), «тофалар» (народ, родственный тувинцам) и «тувалар» (тувинцы) представляют в сущности не что иное, как фонетические варианты одного и того же наимено¬вания («лар» — показатель множественного числа). Не означает ли это, что перед нами фактически одна и та же этническая еди¬ница с единым самоназванием, части которой волею судеб (или с легкой руки этнографов?) оказались в составе трех различных народов?
Исследователь современных этнических процессов среди хака¬сов В. П. Кривопогов, упоминая о шорцах, считает необходимым сделать следующее уточнение: «Здесь πод этнонимом «шорцы» подразумевается этническая группа Таштынского рай¬она, говорящая на шорском диалекте хакасского языка, а не соб¬ственно шорцы, проживающие в Кемеровский обл., являющиеся самостоятельным этносом». В то же время специалист по этни-й истории шорцев В. М. Кимеев называет «собственно шорской южную этнографическую группу в составе шорского этнoca, тогда как северная группа раньше имела самоназвание абалар (абинцы). В дореволюционный период у этих двух групп не было этнического самосознания и самоназвания. Чем же можно объяснить тот факт, что этническая общность, даже в наши дни имеющая общее самоназвание, оказалась разделённой на две части и вошла в состав двух народов?
Особое место в перечне этих вызывающих недоуменные вопросы примеров занимают случаи фантастически гипертрофиро¬ванного этнографического волюнтаризма, когда названия народов изобретаются исследователями этих народов. Одним из самых поразительных фактов подобного рода было введение Прокофьевым искусственно созданного этнонима «энцы» дли обозначения двух самостоятельных этнических групп, фигу¬рировавших ранее в русской литературе под названием хантайских и карасинских самоедов и имевших самоназвания «маду» и «пэбай». По свидетельству такого авторитетного специалиста
этнографии народов Севера, каким был Б. О. Долгих, в ότличие от других народов, их окружающих, энцы не имеют общего самоназвания. Термин «энцы», введенный в этнографический обиход Г. Н. Прокофьевым и образованный от энецкого слова «шатен» (люди), самим энцам как название народа неизвестен и ими не применяется.
Несколько иным по своему характеру явился результат аналогичного «этнонимотворчества», связанный с общностью, известной как «хакасы». В 20-х годах обитавшие в предгорьях За¬падных Саян тюркоязычыые качинцы, кызыльцы, койбалы, бель-гиры, сагайцы были искусственно объявлены единым народом, причем в качестве их общего наименования принят этноним «хакас», якобы встречающийся в средневековых китайских пись¬менных памятниках. Между тем указанный термин попал в ис¬торическую и этнографическую литературу в результате ошибки Бичурина, в начале XIX в. неправильно прочитавшего этноним «хягясы» (древнекитайская транскрипция самоназвания кыргыз») как «хагас». Этот факт убедительно установлен С. Е. Яхонтовым. Однако соблазн увидеть в древ¬них источниках упоминание общности, формирование которой под влиянием экстраэтнических факторов происходит лишь в наши дни и далеко от своего завершения, был слишком велик. Только этим можно объяснить, что ничем не обоснованная версия о древних хакасах продолжает фигурировать в некоторых современных исторических сочинениях, откуда она проникла на страницы этнодемографических изданий.
существенным признаком этнического подразделения основного уровня (помимо обладания единым самоназванием и наличия языковой общности, обеспечивающей возможность внут-ригрупповой коммуникации) является этническая эндогамия. В работах Бромлея был детально обоснован тезис о пред¬почтительном заключении браков внутри своего этноса как меха¬низме поддержания его единства. Это означает, что, устанав¬ливая локализацию основных эндогамных барьеров, мы тем самым получаем дополнительные основания для отнесения отдельно взятой этнической общности к тому или иному таксономическо¬му уровню. За последние годы разработка методики анализа гра¬ниц эндогамных коллективов значительно продвинулась вперед. Сформулированы процедуры, позволяющие вычислять границы брачного универсума и давать пространственные координаты эндогамных барьеров различных иерархических уровней брачной структуры и тем самым измерять степень эндогамии. Именно иерархичность брачной структуры дает возможность соотносить ее с таксономией этнических и языковых общностей, причем гра¬ницы основного уровня иерархии и в этом случае оказываются выраженными наиболее отчетливо.
К сожалению, для решения вопросов, связанных с таксоно¬мической классификацией этнических общностей, новые возмож¬ности почти совершенно не используются. Между тем в случаях, когда мы располагаем соответствующими данными, они дают обильную пищу для размышлений. Так, выясняется, что в 1976— 1978 гг. примерно 20% семей хакасов, проживавших в сельской местности, были национально-смешанными. Примерно в тот же период доля браков мужчин — представителей различных хакас¬ских субэтносов с женщинами-хакасками из других групп состав¬ляла: у сагайцев — всего лишь 15%, у кызыльцев — 8% и т. д. Приведенные цифры плохо согласуются с выводом о том, что весь хакасский этнос охвачен одним эндогамным кругом, а эндо¬гамных границ внутри хакасского этноса не прослеживается. Вспомним свидетельство исследователя эрзи и мокши: «Разность двух мордовских поколений видна и из того, что до крещения их не дозволялось мокшанам брать ерзянок, а ерзянам — мокша¬нок; но всяк довольствовался своею породою». Та же законо¬мерность прослеживается, например, на туркменском материале. Приведу лишь одно высказывание авторитетного специалиста по этнографии туркмен В. Г. Мошковой: «Те группы туркмен, ко¬торые европейскими исследователями называются племенами (йомуты, текинцы и т. д.), сами туркмены в своем быту (как и исторические источники) называют народами — «халк». Брачные связи у туркмен устанавливались в недавнем прошлом обяза¬тельно внутри этого халка, т. е. текинки выходили замуж за текинцев и текинцы женились исключительно внутри своей груп¬пы текинцев; так же как эрсаринцы заключали браки в пределах своей эрсаринской группы. Постепенное размывание» эндогам¬ных барьеров между халками туркмен является в наши дни одним из проявлений происходящих у них этнических процессов, и результате которых происходят сдвиг основного уровня этни¬ческой таксономии и превращение совокупности прежних турк¬менских халков в единую общность.


















 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться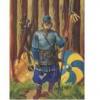




 Наверх
Наверх Ответить
Ответить Цитировать
Цитировать



































