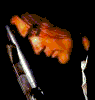В реале в эпоху переселения народов встретить иноязыца - очень просто, их много разных есть. Например, "немца". И всё: ты сразу понимаешь что он - не ты
Это резонёрство пустоголового обывателя, который полагает, что одного его житейского здравого смысла, сына трудных ошибок и их же отца, причём многодетного, а также информации, почерпнутой из интернета, достаточно для того, чтобы рассуждать о проблемах, требующих специальных знаний.
А вот что о предмете говорят специалисты:
"Значение языка в процессе консолидации этнических групп, действительно, велико. Однако оно коренится НЕ СТОЛЬКО В ЕГО ГЕНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ, СКОЛЬКО В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ. Как показывают фактические материалы, для носителей этноса первостепенную важность имеют не объективные свойства или различия языков, которые в первую очередь учитываются этнографами и лингвистами, а ТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, КОТОРЫЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ МЕЖДУ ЭТНОСОМ И СОСЕДНИМИ ИНОЯЗЫЧНЫМИ ГРУППАМИ. Там, где учёные выделяют цепь близких диалектов, местное население может отрицать какие-либо лингвистические сходства вообще. А это, безусловно, влияет на его поведение и взаимоотношения с соседями. Следовательно, ЯЗЫК САМ ПО СЕБЕ НЕ СПОСОБЕН ОПРЕДЕЛИТЬ ТОТ ИЛИ ИНОЙ ОБЛИК ЭТНОСА. Рассмотренное явление было обнаружено сравнительно недавно в связи с развитием нового направления в лингвистике - социолингвистики. По мнению Д. Хаймса изучение проблемы этнических границ требует не столько разработки генетической классификации языков и диалектов, сколько ГЛУБОКОГО АНАЛИЗА КОММУНИКАТИВНЫХ КОНТАКТОВ МЕЖДУ ИНДИВИДАМИ И ГРУППАМИ. А эти контакты далеко не всегда обусловливаются сходством языков или диалектов. В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ДОСТИГАЕТСЯ, НЕСМОТРЯ НА РАЗЛИЧИЯ ЯЗЫКОВ, А В ДРУГИХ - ДАЖЕ СХОДСТВО ЯЗЫКОВ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПОЛЕЗНЫМ И КОНТАКТЫ НЕ ВОЗНИКАЮТ. Иными словами, лингвистические границы не совпадают с границами взаимопонимания, с границами общения. Большую роль при этом играет субъективный фактор: люди, использующие близкородственные языки или диалекты, могут отказаться понимать друг друга и, напротив, люди с разными языками могут потратить дополнительные усилия, чтобы установить взаимопонимание. Всё это характерно не только для развитых, но и для отставших в своём развитии этносов. Таким образом, как утверждает Д. Хаймс, "полагаться на факты языка для определения границ культурного общения значит впадать в сильный лингвистический детерминизм" (Шнирельман. Указ. соч. С. 236-237)".
Социальные антропологи ДАВНЫМ-ДАВНО уже установили, что НЕ ЯЗЫКОВЫЕ ИЛИ КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ГРУППАМИ ВЕДУТ К УСТАНОВЛЕНИЮ ЭТНИЧЕСКИХ ГРАНИЦ, А СОЗДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ГРАНИЦ УСТАНАВЛИВАЕТ ЭТНИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ.
"Этнические границы поддерживаются с помощью ограниченного набора культурных признаков. Поэтому устойчивость этнических единиц зависит от устойчивости этих культурных различий. Иными словами, этническая идентичность непостоянна и зависит от наличия или отсутствия культурной границы с соседней этнической группой. Различные отличительные маркеры, которые приписывают той или иной этнической группе (одежда, язык, обычаи и т.д.), в одних ситуациях могут послужить символами идентичности, в других случаях их значимость может быть не настолько велика".
Н.Н.Крадин. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРы, ЭТНИЧЕСКИЕ общности и проблема границыА я не признаю его сенсационные теории - убедительными
Ты сам писал нечто подобное.
Открой работу Русановой об этносе Пшеворцев
Насколько я понимаю, Русанова археолог, а не специалист по этносам.
"вопрос о применимости археологических источников к изучению этнических процессов следует рассматривать вообще в другой плоскости. Для этого необходимо обратиться к кругу наиболее актуальных и активно обсуждаемых вопросов в современных общественных науках проблематике этничности и национализма. Эта тематика активно стала разрабатываться с начала 1980-х гг. Интерес к ней были спровоцирован следствием глобализационных процессов. Наиболее важную роль в осмыслении национализма сыграли работы Э. Геллнера, Э. Хоббсбаума, Б. Андерсона. Для историков и археологов конструктивизм значим тем, что он раскрывает одно существенное заблуждение. Люди начинают принимать за реальность схемы, которые были созданы для описания реальности. Отсюда следует важный вывод, который необходимо помнить в ходе любого археологического и/или исторического исследования.
Любые этнонимы представляют собой конструкты. Эти конструкты были созданы современниками для описания народов в соответствии с их собственными представлениями. Конструктами являются не только этнонимы, но и выделяемые археологами АК. Археолог не столько выделяет границы АК, сколько создает их. После этого он сам и его коллеги начинают верить в реальность, объективность выделенной культуры. Следующим шагом обычно является наделение АК чертами этнической группы. Границы наносятся на карты. Так создаются народы. Среди археологов широко распространено мнение, что каждый настоящий археолог в своей жизни должен открыть АК. Для некоторых открытые (точнее созданные) АК становятся знаменем всей жизни. Если с течением времени накапливается новый материал, позволяющий сконструировать другие, более корректные на данный момент аналитические категории, они ревностно встают на стражу утвержденных раз и навсегда принципов. Другие, дабы закрепиться на археологическом пространстве, находят свой памятник, объявляют его отдельной культурой и таким образом легитимизируют профессиональную идентичность. "
Н.Н.Крадин. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРы, ЭТНИЧЕСКИЕ общности и проблема границыон никаких оговорок насчет (о боже!) "условные обозначения населения определённых территорий" не делает...
Кто об этом поведал Кибиню? Откуда ваще он узнал о дулебах в Каганате?
Кибинь А.С. От Ятвязи до Литвы - русское пограничье с Ятвягами и Литвой в X - XIII веках
М.: Квадрига, 2014. С. 30-40.
"При описании событий IX-XI вв. в летописных источниках дреговичи ни разу не упомянуты. Для русских летописцев эта группа определенно не была важной — ее имя отсутствовало в начальном своде, а все известия о дреговичах были внесены в начале XII в. при составлении ПВЛ, когда название уже использовалось в качестве территориального обозначения округи Случеска. Напомним в связи с этим незаслуженно забытую мысль С. М. Середонина, что этот термин был современным летописцу территориальным, а не этническим обозначением околицы Случеска и Клеческа, подчиненной киевским князьям.
Впервые термин другувиты (δροογουβίται) встречается ок. 950 г. в девятой главе трактата Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» в числе данников, к которым киевские князья «со всеми росами» отправляются в ноябрьские полюдья. Вновь это название упомянуто в начале XII в. во вводной части ПВЛ, в рассказе о расселении славян: «а друзии сЬдоша межю Припетью и Двиною и наркошася Дреговичи», затем «держати почаша родъ ихъ княженье в ПОЛАХЪ, в ДеревлАхъ свое, а Дреговичи свое, а СловЬни свое в НовЬгородь, а другое на ПолотЬ...», и «се бо токмо СловЪнескъ языкъ в Руси: Поляне ДеревлАне Ноугородьци Полочане Дреговичи СЪверъ Бужане зане сьдоша по Бугу послЪже же ВелынАне». В то время, когда составлялись эти перечни, термин уже использовался по отношению к территории по соседству с Понеманьем вокруг Случеска (1116 г.: «Гльбъ бо бяше вое-валъ ДрЪговичи и Случескъ пожегъ», 1149 г.: «Слоучьскъ и Кльчьскъ и вси Дрегвичъ»).
Можно ли из этих данных сделать вывод, что дреговичи были отдельным этно-политическим организмом на территории между Припятью, Неманом, Бугом и Днепром в X в.? Конечно, невозможно игнорировать упоминание δροογουβίται. Но император Константин фиксирует появление дреговичей как категории классификации уже в период складывания системы даннических взаимоотношений обитателей Поприпятья и верховьев Днепра с киевской Русью, когда название стало обозначением населения западной части Верхнего Поднепровья, с которого собирала дань русская дружина, отправляясь в полюдье. В таком виде оно попало на страницы трактата императора, который, проецируя на дреговичей свои понятия о политическом устройстве, назвал их отдельной «славинией». Естественно полагать, что на приписываемой дреговичам территории существовали единицы социально-политической структуры (вождества, малые общины). Но их реальная конфигурация, социальное устройство, так и идентичность населения, остаются для нас недосягаемыми. Термин дреговичи мог быть как названием одной из этих групп, так и широким обозначением обитателей болотного ландшафта, подобно более позднему термину «полешуки», но нет никаких оснований полагать, что им выражалось широкое этническое самосознание обитателей всей территории Побужья, Поприпятья и Понеманья.
Единственное из восточнославянских «племенных» названий, которое отразилось в топонимии Понеманья — кривичи. Но значение этого термина, впервые упомянутого в середине X в. императором Константином, не было неизменным. Для южнорусского летописца второй половины Xl в. кривичи — это собирательное название, используемое для обозначения «широкой кистью» обитателей лесистых верховий Двины, Днепра и Волги. На это указывают не только необычайно большой территориальный охват названия, отсутствие среди его обитателей политического единства, но и то, что в их состав могли зачисляться группы, обладавшие собственным названием. Одной из таких групп были полочане. Кроме того, в географическом перечне народов Восточной Европы отсутствует подданная Смоленску голядь, из чего можно сделать вывод, что и она может быть включенной в состав кривичей. Бросается и глаза, что этноним часто выступает с собирательным местоимением: не просто кривичи, но «все кривичи».
Отметим лишь, что в связи с распространением славян в Полесье и центральной Белоруссии, по-видимому, находится дулебская топонимическая проблема. Значительное число сходных топонимов известны и разных районах Восточной Европы: остров Дулебы к юго-востоку от Пинска, деревни Дул ебы,Дулебня на территории Минской (Березинский район) и Могилевской областей (Кличевский район), гидроним Дулебка (приток Ольсы) в бассейне днепровской Березины, целый ряд подобных названий в Западной Украине (Дулеби, Дулiби). Далее дулебский след тянется по территории южной Чехии (замок Doudleby/ Dudlebi, впервые упомянутый у Козьмы Пражского), и заканчивается и районе Среднего Подунавья — в источниках IX в. неоднократно упоминаются Tudleipin и comitatus Dudleipa в районах между озером Балатон и р. Мурсой, а также в Карантании на верхней Драве.
Славянское обозначение *dudlebi имеет германское происхождение (от герм. *daudlaiba «наследство умершего» или же имени Dietlieb). Повестъ временных лет, единственный источник, который говорит о дулебах как об этнической группе, относит их существование к эпохе Аварского каганата и приводит сказание о насилии обров (авар) над дулебами и их женами. В то же время, несколькими строками ранее русский летописец называет дулебов древним населением Побужья («дулъби же живяху по Бугу, кде ныне волыняне»), что может отражать память о пребывании этой группы на территории Волыни. Также дулебы упомянуты в статье под 907 г., перечисляющей участников похода Олега на Константинополь, но здесь они введены составителем Повести временных лет в число участников похода искусственно.
Информация летописи в историографии XX в. считалась свидетельством существования на Волыни и прилегающих территориях крупного славянского догосударственного объединения, возникшего под влиянием контактов славян с готами и гепидами (что объясняет германское происхождение названия), которое было разгромлено в VI в. аварами, после чего состоялась миграция дулебов с территории Украины в Чехию и По-дунавье, в центр аварского владычества. Однако, отрывок летописи, по всей видимости, имеет книжное южнославянское или византийское происхождение, и речь в нем изначально шла о дулебах Среднего Подунавья (Существует точка зрения, что источником для рассказа послужил восточнославянский "земледельческий эпос", но сходство с повествованием хроники Фредегара о вендах, существование подобной византийской поговорки о гибели авар и наличие в тексте таких точных подробностей, как упоминание царя Ираклия говорят не в её пользу).
На дулебскую проблему необходимо взглянуть иначе, поскольку нет оснований связывать сюжет об обрах и дулебах с Волынью. Археологическими данными не подтверждается перемещение каких-либо групп населения оттуда в Карантанию, да и теория славянской миграции из восточноевропейской прародины потеряла свою универсальную объясняющую роль. В Подунавье топонимы Tudleipin, Dudleipa встречаются как в центральном районе Карпатской котловины — в районе озера Балатон, где аварская власть была непосредственной, так и по периметру каганата, а также на периферии, которая не была ему подконтрольна. Размещение названий, зафиксированных в поставарский период в IX-X вв., позволяет, на наш взгляд, искать первоначальные корни дулебской идентичности в социальной структуре Аварского каганата, среди потомков гепидов и другого германоязычного населения".
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться




 Наверх
Наверх