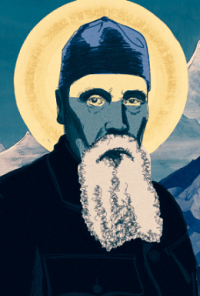Факторы этногенеза, по Рэндаллу Коллинзу.
Коллинз Р. Макроистория: Очерки социологии большой длительности. – М.: УРСС: ЛЕНАНД, 2015. С. 149-152.
"Формирование государства и проникновение его внутрь общества создают высоко мобилизованные формы этничности. При таких условиях протоэтничность обособленных местных сообществ смещается к полюсу континуума с высоким осознанием солидарных действий и способностью к ним. Степень продвижения этнической мобилизации по этому континууму меняется в зависимости от степени проникновения государства внутрь общества.
А. На одном конце континуума степень проникновения государства минимальна: таково «многослойное государство» как результат имперских завоеваний, изымающее дань из местных протоэтнических или религиозных сообществ. Даже здесь этническое единство и сознание могут подняться на некую ступень благодаря вменённой сверху коллективной ответственности за взимание налогов и за поддержание внутреннего порядка. Хотя греки, курды и армяне, жившие под властью Османской империи, могут казаться исконными (примордиальными) идентичностями, скорее всего, именно имперские административные практики в системе миллетов, связанные с коллективной ответственностью и религиозным самоуправлением, превратили их в более крупные единицы, нежели существовавшие ранее, либо же удержали их от распада или сдвига к иным линиям этнического деления.
Б. Более высокую ступень в данном континууме занимает структура феодальной аристократии в аграрно-принудительных обществах. Изменчивость феодальных союзов, далеко простирающиеся узы династической брачной политики препятствуют сильной идентификации с государством. Эти антинационалистические веяния, которым в некоторой степени противоречили вертикальные требования сеньоров к своим вассалам, а также требования аристократии в целом к своим слугам, подопечным и крестьянам, приводят к некоторой степени идентификации с региональными этническими сообществами. Хотя крестьяне и слуги почти не имели прямого политического участия в системе управления средневекового французского феодализма, консолидация вокруг короля сети испытывавших к нему феодальную приверженность, начавшаяся с Иль-де-Франс, стало полюсом притяжения в пространстве этнической идентификации.
В. Высоко мобилизованный, долгое время существующий военный союз может приводить к появлению этнической солидарности среди участников, даже когда государственная структура минимальна. Античные греческие города-государства мобилизовали местные идентичности, превращая их в боевые единицы, выходившие за пределы клановой семейственности. Более крупные военные коалиции греков, такие, что создавались против персов, ещё далее расширяли масштаб этнической идентификации. Поэмы Гомера, которые стали основным элементом образования около 600 г. до н. э., описывали раннюю и несколько более ограниченную общегреческую военную коалицию – ахейцев, это можно рассматривать как пропаганду транслокальной идентичности, служившей архетипом панэтнического военного союза. Военные союзы германских племён в период геополитического вакуума при распадавшейся Римской империи, ситуативные объединения мужчин, желавших переселиться на далёкие расстояния, разрывавших семейные связи и бравших на своём пути в жёны чужестранок, скорее всего, создавали новые этнические идентичности. С наступлением мира или при демобилизации значительной части населения, которое становится подчинённым военной аристократии крестьянством, широкая этнонациональная идентификация может распадаться или возвращаться к более низким уровням мобилизации.
Г. Наконец, имеется современный процесс государственного проникновения в общество. Бюрократическая экспансия государства, особенно начиная с XIX в. и далее, способствовала развитию всеобщего образования, регулирования экономики и социального обеспечения, а также материальной инфраструктуры транспорта и связи. Индивиды становились гражданами государства, их имена стали вноситься в официальные записи, связанные с призывом на военную службу, налогообложением, обязательным образованием, здравоохранением и пенсионным обеспечением, выдачей паспортов и разрешений на работу. В среде вовлечённых в государство создавались национальные культуры, которые добирались даже до спальни. После 1870 г. такие образцы поведения, как количество детей в браке, отношение к внебрачным детям и стремление заключить брак, становились всё более схожими между разными районами в каждом из европейских государств. Проникновение государства вело к установлению связей с центром, которые пересекали отношения внутри местных домохозяйств, соседских общин и производств. Решительным шагом к резкому очерчиванию внешних этнолингвистических границ при одновременной внутренней гомогенизации стало создание стандартного национального языка. На рубеже XIX в. около 40% французских подданных говорили на региональных языках или диалектах, отличных от французского языка, характерного для региона вокруг Парижа. Это многообразие резко сократилось к 1920 г. в результате целенаправленной государственной политики, распространения школьного образования и интеграции посредством национального транспорта, коммуникаций и торговых сетей. Таков типичный процесс государственно-центрированного конструирования идеального типа этнонациональной идентичности – движения по континууму от большего к меньшему числу этнолингвистических групп".
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться




 Наверх
Наверх Ответить
Ответить Цитировать
Цитировать