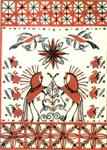Florin Curta. The early Slavs in Bohemia and Moravia: a response to my critics"На самом деле, единственная причина для датировки начала пражской культуры шестым веком заключается в том, что славяне упоминаются в это время в письменных источниках. Без письменных источников, датировка пражской культуры, исходя из одних археологических оснований, не будет соответствовать традиционным историческим нарративам, относящимся к истории древних славян. Независимые средства датировки, такие как дендрохронология, уже подчеркнули значительный хронологический разрыв между датировками славянских миграций и наиболее ранних археологических комплексов в Польше, Богемии, Моравии или Нижней Австрии, которые можно было бы атрибутировать как славянские. Я считаю, у нас уже есть достаточно данных, чтобы отойти от старой интерпретативной модели и прийти к чему-то новому. Для того чтобы сделать это, мы должны избавиться от старых привычек истории культуры, особенно от тенденции связывать археологические культуры (которые в любом случае являются только археологическими конструктами) с этническими группами, известными из письменных источников (которые немногочисленны и могут быть чем-то совершенно иным, чем объективный отчёт о реально случившихся событиях). Как доказывается в моей книге, поворот прочь от истории культуры позволяет нам получить небольшую твёрдую почву для наших научных ног. Если я говорю, что не было никакой миграции славян – ни на Нижний Дунай, ни в Богемию – из болот Припяти или с Западной Украины, я имею в виду не только отсутствие каких-либо указаний на факт такой миграции в письменных источниках, но также и отсутствие археологических свидетельств. В определённой области, из которой, как предполагается, началась миграция, должно наблюдаться значительное снижение численности населения, по крайней мере, эквивалентное количеству людей, мигрировавших из этой области в другие регионы, например, в Богемию. Но картографирование всех комплексов, которые относят (не важно, правильно или нет) к «пражской культуре», и приуроченных к шестому или началу седьмого века ясно показывает, что вместо немногочисленных посёлков в области западной Украины и Буковины, из которых началась, как предполагают, славянская миграция, мы видим количество поселений большее, чем в Словакии, Богемии или Польше. Предполагаемая миграция не проредила население предполагаемой прародины. Количество населённых пунктов здесь фактически больше, чем в пятом веке, и их число продолжает расти на протяжении седьмого и восьмого веков. Если, как это кажется вероятным, условия на территории предполагаемой прародины были благоприятны для развития популяции, почему все так хотели покинуть её ради удалённых земель Богемии или южной Польши? На этот вопрос защитниками миграционистской модели, от Годловского до Бирмана, не было до сих пор дано никакого ответа. Не может быть, по видимому, найдено никакого объяснения отсутствию значительного сходства между керамикой, найденной в надёжно датированных концом пятого или началом шестого века комплексах на Буковине или Украине и наиболее ранними комплексами с керамикой так называемого пражского типа в Богемии. По мнению Профантовой, наиболее ранним комплексом с керамикой пражского типа в Богемии является комплекс в Kozly, датируемый второй четвертью 6 в. Тем не менее, даже краткое сравнение между керамикой, найденной в объекте 10 в Kodin вместе с арбалетообразной пражского типа фибулой пятого века и керамикой из Козлы показывает существенно различные типы сосудов, с вариациями ободков и краёв из классов BC3, Ce3, и FL3 из класса Bc2 по Парчевскому. Не находится аналогии для Kozly в керамике, найденной в объекте 20 из Botosana, в котором ручная керамика была связана с бронзовой монетой, чеканенной при императоре Юстиниане в Константинополе между 527 и 538 гг. Нет параллелей для горшка из Козлы, имеющего почти вертикальные, прямо вырезанные края, среди черепков обода, найденных вместе с фрагментом бронзового браслета конца шестого или начала седьмого века с расширенными концами, украшенными гравированным орнаментом в объекте 67 в Rashkiv. Может быть даже более важно, в комплексах с ручной керамикой так называемого пражского типа, найденных в Богемии и Моравии, не обнаружено никаких остатков керамики, произведённой с помощью гончарного круга, которая часто ассоциируется с ручной керамикой в раскопках из Буковины и Западной Украины, надёжно датированных концом пятого или началом шестого века. По словам Профантовой, «весьма актуальным в этом отношении мог быть 568 год, когда авары разрушили власть гепидов и стали единственными правителями Карпатского бассейна, после ухода лангобардов в Италию». В то время когда она публиковала своё новаторское исследование по аварским артефактам в землях к северу и северо-западу от Аварского каганата, было известно ещё очень мало таких артефактов с территории Чешской Республики, которые могут быть датированы с какой-либо степенью определённости Раннеаварским периодом. С тех пор число ранних аварских находок значительно возросло, в основном из-за использования металлодетекторов. Кроме пряжек из классов Corinth и Balgota (из Prague-Košíře, Tismice и объекта неизвестной локализации в Богемии), это пряжка ремня в форме щитка (из класса D35 по Шульце-Дорламм), которая была найдена в Kšely вместе с ременной застёжкой с орнаментом, образцом застёжек так называемого мартыновского класса, которые типичны для конца шестого и особенно начала седьмого века. Бронзовый наконечник ремня Zabojník’s class 7, найденный в Rubín, также может быть приурочен к раннему аварскому периоду. Аналогичная датировка может быть предложена для «славянской» дугообразной фибулы из Dřevíč, представляющей собой специфический образец класса I C по Вернеру только с одной парой птичьих головок, недавно датированного концом шестого – началом седьмого века. Важно отметить, что ближайшие морфологические и декоративные параллели для фибулы Dřevíč в пределах всего класса I C демонстрируют не образцы с соседних территорий Аварского каганата, но фибула из могилы 68 в Kielary. Ни один из этих артефактов не ассоциирован с ручной керамикой так называемого пражского типа. До археологического подтверждения такого объединения было бы преждевременно делать какие-либо выводы относительно хронологии и исторической интерпретации контактов с Аварским каганатом в течение седьмого века. Тем не менее, стоит отметить, что независимо от их интерпретации, эти артефакты, найденные в Чехии, сигнализируют о контактах с регионами на юге и юго-востоке (или, в случае фибулы Dřevíč, на северо-востоке). Нет артефактов или комплексов, которые свидетельствуют в пользу контактов с Буковиной и Западной Украиной , а тем более в пользу миграции из этих регионов". С. 19-23.
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться




 Наверх
Наверх Ответить
Ответить Цитировать
Цитировать