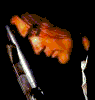Фёдор Андрощук
Скандинавские древности в социальной топографии
древнего Киева
Скандинавские древности Киева
Прежде всего, хотелось бы попытаться объяснить, почему важно для сла -
вяно-русской археологии выделение и детальное изучение скандинавских
древностей. Речь ни в коем случае не идёт о возвращении к 1970–1980-м годам,
когда занятие этой темой было скорее формой «научного диссиденства», нежели
скрупулёзным изучением источников. Ни одна из предложенных в то время
схем, мягко говоря, «не работает», а те, что до сих пор в обращении, не
добавляют ничего принципиально нового к интерпретации Вильгельма Томп -
сена2 и Туре Арне3. К тому, что эти находки не замечались, были и объективные
причины. Дело в том, что «опознание» этих вещей возможно только на
основании знания и опыта работы с музейными коллекциями Скандинавии, что
вплоть до 1990-х гг., по понятным причинам, не было возможным. Знание
публикаций, как показывает практика, также не всегда помогает — узнаются
только яркие вещи. Это и приводит к удивительному парадоксу, когда статьи,
посвящённые роли варягов на Руси, сопровождаются иллюстрациями укра -
шений, как правило, происходящих из женских погребений, в то время как
письменные источники об их присутствии в среде северных наёмников ничего
не сообщают (я здесь не имею в виду сообщения восточных авторов о русах —
хронологически, функционально и, очевидно, статусно отличной группе скан -
динавского населения).
На протяжении последних лет, в ходе предварительных публикаций4, а также
работы над подготовкой к изданию сводного Каталога скандинавских древ -
ностей Восточной Европы, стало очевидным, что их количество несопоставимо
огромно в сравнении с Западной Европой, а по некоторым категориям вещей
сопоставимо со всеми известными на сегодняшний день находками, проис -
ходящими, например, из Дании. Поэтому речь идёт не о случайных приезжих,
наёмниках и эпизодических контактах, а в полном смысле колонизации
скандинавами отдель ных районов Восточной Европы, колонизации, размах
которой вполне сравним с колонизацией датчанами восточной Англии5. Исто -
рия этого населения является неотъемлемой частью истории Восточной Европы,
такой же полноценной и заслуживающей право на изучение, как история греков
Северного Причерноморья, скифов, сарматов, готов и хазар причерноморских
степей.
В знании скандинавских древностей есть и чисто прагматический смысл. Дело
в том, что относительная хронология славянских древностей ІХ–Х вв., в
основном, может быть определена только на основании импортных изделий.
Славянские памятники в большинстве своём изобилуют только керамикой,
которую вне связи с таким контекстом и монетами объективно датировать
невозможно (одинокими исключениями являются дендрохронологически дати -
рованные Ладога, Рюриково городище, Новгород и Киев). Находки восточных и
византийских вещей, как правило, очень редки на славянских поселениях.
Поэтому салтовские вещи важны для выделения ранних славянских поселений
VIII–IX вв.6, скандинавские, византийские и венгерские — для опознания
памятников IX–XI вв. Ювелирные украшения Северной Европы эпохи викингов
выполнены в соответствии с традициями искусства, основные корни которого
уходят в мир мотивов и связанных с ним идей предшествующих эпох —
великого переселения народов и так называемого Вендельского периода.
В основном, на протяжении всего времени можно констатировать су щест во ва -
ние пяти основных мотивов — змеи, птицы, «хватающего зверя», «четвероного
зверя» и маски. Иногда они сочетаются в одном и том же сюжете, позволяя
предположить, что художники изображали, по существу, одно и то же
мифологическое существо, возможно — Одина. В то время как мотивы
оставались постоянными, способ передачи их менялся. На него оказывали
влияние традиции, опыт и мир идей того времени, в котором жил и работал
мастер. Совокупность этих факторов объединяется в понятии «стиля», упот -
ребляемого в скандинавской археологии. Стили — единственная возможность
отличить «старое» от «нового», поэтому их знание важно для установления
относительной хронологии вещей. На сегодняшний день выделяется несколько
стилей, существовавших на протяжении эпохи викингов: «хватающий зверь»
(иногда его называют ещё «стиль Осеберга»), Борре, Эллинг, Маммен, Рин -
герике и Урнес. Стиль Осеберга, в основном, типичен для IX века, Борре — для
конца IX — первой половины X вв., Эллинг и Маммен являются двумя
«школами» одного и того же южно-скандинавского стиля, существовавшего
приблизительно от середины X — до начала XI вв. Параллельно с этими
школами существовал ряд вещей из благородных металлов, выполненных в
технике зерни, которые иногда называют «стилем Хиденсе»7. Наконец, стили
Рингерике и Урнес датируются XI в. (последний, правда, известен и в XII в.)8.
В основе датировок скандинавских стилей лежат твёрдые дендрохроно ло ги -
ческие даты9, поэтому на основании их сочетания построена не только
скандинавская, но и европейская хронология, в частности, могильников ран -
несредневековой Германии10
Если мы сравним географию распространения этих стилей, то картина
получится следующая. На Северо-Западе (Старая Ладога, Приладожье, Горо -
дище, Новгород) и Северо-Востоке Руси (могильники Ярославского Поволжья),
а также верхнем Поднепровье (Гнёздово) в той или иной мере представлены
практически все известные стили за исключением Урнес и Рингерике (един -
ственная находка — серебряный браслет готландского происхождения из клада
XIII в. в Московском Кремле). На юге Руси (Киев, Шестовица, Чернигов)
представлены стили Борре, Эллинг/Маммен, а также Урнес (Сахновка, Киев,
Чернигов). Таким образом, несмотря на отсутствие скандинавских изделий IX в.
на этой территории, здесь, в отличие от севера, очевиден континуитет в потреб-
нос ти высококачественных северных изделий. Характерной чертой скан ди -
навских древностей X–XI в. Южной Руси является их исключительно богатый
контекст (роскошные камерные погребения, вещи из кладов), что, очевидно,
может свидетельствовать о существовании здесь знатных фамилий, которыми
скан динавское происхождение было осознано. В этом отношении весьма
интересна топография этих находок в связи с социальной топографией Киева.
Скандинавские находки Киева происходят преимущественно из киевских
погребений, расположенных в Верхнем городе и районе Иорданской церкви.
Опубликованная В. Н. Зоценко карта, маркирующая топографию этих на -
ходок11, вызывает возражение в одном — привязки некоторых из них к
культурному слою Подола. На сегодняшний день нет ни единой настоящей
скандинавской находки, происходящей из культурного слоя жилых и хозяй -
ственных комплексов Подола X в. Скандинавская атрибуция некоторых вещей
из Замковой горы также весьма проблематична, к тому же упоминаемая без
ссылки фибула также не внушает доверия12.
Таким образом, всё, что нам известно, это вещи из разрушенных курганов,
основная концентрация которых, как уже отмечалось выше, связана с тер-
риторией, занятой на протяжении всего древнерусского времени усадьбами
знати, церквями и монастырями. Отсутствие скандинавских вещей в культурном
слое Подола настораживает и, скорее всего, может быть истолковано тем, что
люди скандинавского происхождения, в большинстве своём, там не проживали.
И это заставляет нас ещё раз вернуться к проблеме топографии Верхнего города.
Топография Киева конца IX–X вв., по предположению В. Н. Зоценко,
представляется следующей. Город состоял из нижней части — Подола, где
проживало большинство населения, Замковой горы, на которой рас полагалась
резиденция и администрация князей, и Верхнего города, большая часть которого
в это время была занята курганным кладбищем горожан. По подсчётам
исследователя, приблизительная площадь этого курганного поля, разделённого
оврагами на три группы, составляла около 60 га. Первая группа, существовавшая
до начала строительной деятельности Владимира Свято сла вича, практически
полностью была занята курганными погребениями, которые перекрыли, по
мнению исследователя, и так называемое «древнейшее городище Киева»,
располагавшееся в VI–VIII вв., а, может быть, и в начале IX в., в северо-западной
части Старокиевской горы. Основными аргументами в пользу такого утвержде-
ния являются погребения №№ 83, 84, 112, 123, вскрытые, по убеждению
исследователя, к западу от развалин Десятинной церкви. Их ямы были опущены
в засыпку рва и насыпь вала, отделявшего городище от остального плато13.
Прежде всего, нужно обратить внимание, что В. Н. Зоценко ошибочно
локализует топографию этих погребений. Так, погребение № 83, согласно
имеющимся данным, найдено в нескольких метрах к востоку от срубного
погребения № 122, открытого под развалинами средней апсиды древней
Десятиной церкви14. На этом же участке было обнаружено погребение № 8415.
О месте погребения № 112 мы знаем только то, что оно было найдено «к се ве ро-
западу от развалин Десятинной церкви»16, а погребение № 123 «у самого юго-
западного угла наружной галереи Десятинной церкви… глубже основания
фундаметов храма»
Существует ещё
несколько показательных примеров связи церквей с предшествующими им
курганами. Могила убитого Олегом Дира, согласно летописи, находилась «за
святою Ориною», сооружённой Ярославом Владимировичем. Ольма (сканд.
Holmi39) имел двор, а впоследствии соорудил церковь «святаго Николу» в
Угорском, на месте могилы Аскольда40. Некто Туры (сканд. yуrir41) имел свою
божницу («Турова божница»), где-то поблизости от Десятинной церкви, где в
X веке располагался языческий курганный могильник42. Практика сооружения
христианских церквей на месте или поблизости от языческих родовых мо-
гильников известна в Дании, где в Эллинге конунг Харальд Синезубый рядом с
большими курганами построил церковь и перенёс туда захоронение своего
отца — короля Горма43. Наиболее ярким примером в Швеции является Вендель,
где на месте родового кладбища знати, функционировавшего с VI по XII в., была
сооружена церковь44. Наконец один такой пример известен в восточной
Исландии, где в Тораринстадире на месте знатных языческих погребений
(найдены серебряные кольцо, монета) около 1000 г. была сооружена деревянная
церковь. Первоначально языческий могильник стал, таким образом, церковным
погостом45. Известно о существовании тесной связи между курганами и
близлежащими дворами, которые представляли собой составные части одаля.
Существовало даже особое обозначение для курганов, ассоциированных с
одалем — «odelshaugen». Нанесение ущерба таким курганам считалось тяжёлым
преступлением46. Как свидетельствуют средневековые источники, место и
значение курганов в конструкции географии культурного ландшафта Скан ди на -
вии трудно переоценить. К примеру, само понятие о старых усадь бах/дво -
рах/деревнях (hцgha byr), как правило, предполагало наличие поблизости
курганов47. Курганы нередко использовались в раннесредневековой юри -
дической практике как свидетельство или доказательств права наследства на
землю или запрета на её продажу. В норвежских средневековых законах
зафиксирован даже специальный термин «hцgadalman», применяемый к чело -
веку, ведущему своё происхождение от того, кто погребён в определённом
кургане
48. Древние представления о континуитете между поколениями —
существенная черта, которая помогает понять, что представлялось историей для
людей, живших в эпоху викингов. Блестящим археологическим отражением
такого континуитета являются могильники определённых знатных родов, такие
как Вендель, Вальсъерде, Туна в Швеции, ведущие своё начало от эпохи
переселения народов до времени раннего средневековья.
Хорошим примером континуитета между курганами с богатым погребальным
инвентарём, усадебной застройкой, близлежащими церквями и их кладбищами
является участок юго-восточной части города Владимира, исследованный в
1988–1989 гг. Я. Е. Боровским и А. П. Калюком. Территория представляет собой
край плато Старокиевской горы, который плавно понижается в направлении с
севера на юг. Максимальная толщина культурных наслоений в данном месте
достигает 2,1 м, однако их сохранность разная. Например, в ходе раскопок было
выяснено, что культурные слои XII–XVIII вв. были уничтожены в ходе
интесивных строительных работ на протяжении последних двух столетий.
Поэтому большинство находок происходит из углублённых в материк объектов.
Относительно хорошо сохранился культурный слой XI в., который содержал
также находки предшествующего времени, например, славянскую керамику
культуры Луки-Райковецкой и более ранние49.
Перезахоронение останков князей, а также сооружение на их месте церквей и
усадеб, свидетельствует о бытовании какой-то устной традиции о родственной
связи между знатными языческими предками и их потомками-христианами.
Любопытно, что в древнем Киеве такие церкви сооружались элитой скан ди нав -
ско го происхождения. Показательным примером является киевский клад, об на ру -
женный в 1903 году в усадьбе Михайловского монастыря. В состав вещей кла да
входили 7 крестовидных серебряных подвесок второй половины X в. (рис. 8:3),
орнаментированныe в южноскандинавском стиле «Хиденсе»74 (рис. 8:1). Со че та -
ние этих украшений с такими поздними и, бесспорно, славянскими укра ше ни я ми
XII–XIII вв., как колты, серьги и браслеты, свидетельствует об их исполь зо вании
на Руси на протяжении не менее 150 лет75, что само по себе интересно. Находка
оставалась непонятной вплоть до 1999 г., когда раскопками Г. Ю. Ивакина под
фундаментами монастыря было выявлено богатое женское погребение в камере,
содержащее фибулу, орнаментированную в таком же стиле76 (рис. 8:2). По
мнению исследователей, курганная группа на данной территории существовала
вплоть до середины XI в., после чего здесь возникла жилая, нерегулярная
застройка77, на месте которой и был основан монастырь. Таким образом, могилы
знатных предков были своего рода преобразователями культурного ланд-
шафта — вокруг них возникали родовые кладбища, богатые усадьбы, церкви и
монастыри. Нужно сказать, что отсутствие скандинавских вещей в культурных
отложениях X в. Подола, как уже отмечалось выше, ставит под сомнение
предположение В. Н. Зоценко о проживании там выходцев из Северной Европы.
Сомнительной также представляется подсчитанная по крайним погре бениям
площадь могильника — 60 га. Скорее всего, речь идёт о ряде групп курганов,
располагавшихся по близости от усадеб. Последние крайне трудно выявить из-за
интенсивной застройки Верхнего города последующего времени. Тем не менее
некотрые из них всё же удаётся вычленить, как это было показано выше, или
локализовать косвенно на основании найденых кладов ювелирных украшений.
К таковым относится клад, обнаруженный в бывшей усадьбе Сикорского,
содержащий шесть скандинавских золотых браслетов трёх раз личных типов78.
Находки кладов на территории могильников неизвестны. Единственным извест -
ным нам исключением является клад, найденый на могильнике в Хельгё в
Средней Швеции (точнее, на его границе вне зоны погребений), местоположение
которого интерпретируется как ритуальное79. Таким образом можно полагать,
что на территории Верхнего города распо ла га лись отдельные усадьбы, возле
которых находились фамильные кладбища. Рас сто яние между отдельными
усадьбами и кладбищами могло быть достаточно большим. Хорошим примером
может быть сравнительный анализ погре баль ного инвентаря двух женских
погребений, найденых в разных частях Верхнего города.
Погребение № 112 было исследовано к северо-западу от Десятинной церкви и
содержало парное погребение в камере80. Среди сохранившихся вещей: сереб -
ряная фибула с длинной иглой (восточно-скандинавское подражание ирланд -
ским застёжкам81), серьги великоморавского типа, широкосерединный перстень
с завязанными концами и чеканным орнаментом, монеты-подвески (младшая —
922–923 гг.), сердоликовые бусы и бронзовый маленький ключик византийского
происхождения
82. Перстень является любопытной находкой. Его орнамент — в
виде кружков, образующих волнистые линии — очень близок орнаменту неко -
торых браслетов, найденых в кладах Готланда и Южной Скандинавии, дати -
рующихся второй половиной X — началом XI вв. Другой такой же перстень был
найден в женском погребении поблизости от Золотых ворот83 (рис. 9). В этом
погребении найдены также серебряные бусы, украшенные зернью, а также
лунница. Обе женщины были несомненно высокого социального статуса и были
захоронены на значительном расстоянии друг от друга приблизительно в одно и
тоже время, на что указывают их украшения. Расположение одного из них у
Золотых Ворот, на значительном расстоянии от Подола, определённо говорит о
том, что здесь же неподалёку находилась и жилая застройка. С другой стороны,
такая топография указывает, что выбор места для строительства «города
Ярослава» был не случаен. Оборонительной стеной в XI в. было обнесено
пространство, маркированное как усадьбами, так и курганами предков. Извест -
ные здесь по летописи купеческие и боярские дворы XII в., следовательно,
обнаруживают континуитет с киевской знатью X в., жившей и хоронившей здесь
своих родственников. Таким образом, топография скандинавских древностей
охватывает, главным образом, территорию Верхнего Киева (с горой Де тин-
кой84), где находились, вероятно, как усадьбы, так и расположенные рядом с
ними курганы выходцев из Северной Европы. Единственным исключением
является ряд скандинавских древностей, происходящих из района Кирилловских
высот, на которых остановимся отдельно.
Скандинавские древности в районе Иорданской церкви
и Кирилловских высот в Киеве
Большая часть находок происходит из разрушенных погребений, выявленных
при случайных обстоятельствах в конце XIX — начале XX вв. Большинство
погребений также было раскопано в это же время археологами-любителями или
же найдено при случайных обстоятельствах. В советское время данный участок
интенсивно застраивался промышленной застройкой, разрушившей остатки
археологических памятников. Поэтому сегодня единственными источниками,
оставшимися в нашем распоряжении, являются летопись, письменные источ-
ники раннего Нового времени, данные карт и нередко противоречивые сведения
первых археологов.
II Киевский могильник был условно выделен М. К. Каргером для группы
раннесредневековых погребений, расположенных на взгорьях вдоль Кирил-
ловской улицы85. Точное название данной местности в древнерусское время
неизвестно, однако в XVII–XVIII вв. она принадлежала территории Иорданского
монастыря, поэтому в современной киевоведческой литературе сущест вует
название этой местности — «у Иорданской церкви».
Иорданский клад. Клад был обнаружен 27 октября 1863 г. на кладбище Иор -
данской церкви при рытье могилы, на глубине двух аршин в глиняном горшке.
Относительно количества вещей существуют разночтения. Г. Ф. Корзухина
называет следующие вещи этого клада:
1) дирхемы 892–893 — 935–936 гг. — 192 (8 с дырочками для подвешивания);
2) перстни серебряные пластинчатые с завязанными концами — 2;
3) привеска серебряная круглая выпуклая с зернеными треугольниками и
полушариками;
4) кусок серебряной проволоки
97.
Данные Корзухиной о вещевом составе клада основаны преимущественно на
заметке Н. Ф. Беляшевского, опубликованной в 1888 г.98 В. Б. Антонович,
однако, упоминает, что в состав клада входили также два серебряных слитка99.
Общий вес клада составлял 1 фунт 37 унц.(?) 78 долей. Как уже упоминалось,
клад был спрятан в горшке «от которого сохранился такой незначительный
кусок, что нельзя судить о форме сосуда». В числе монет находилось
12 подражаний саманидским дирхемам и 1 тахаридская монета 273 г. хиджры100.
Курганы. Археологическое исследование курганов в районе Иорданской
церкви началось с 1872 г., когда на территории пивоваренного завода была
случайно обнаружена «общая похоронная яма, в которую свалено за раз
множество костей, остовы были мужские, женские и детские, черепов общих из
ямы вынуто более 4 тыс.». Среди находок в яме упомянуты
«2 больших меча обоюдоострых с тяжёлыми рукоятями, железный
кинжал, до 30 бронзовых пластинок с серебряной насечкой, украшавших
ремень (через плечо), на котором висел меч. Железный ножик в дере вян ных
ножнах с костяной ручкой, 2 мраморных крестика прямоугольных, один
янтарный крестик, очень маленький, железное кольцо, стеклянное кольцо.
Несколько обломков стеклянных браслетов с эмалью. Разбитый большой
сосуд глиняный (до 2-х футов в диаметре) в виде миски, украшенный
выпуклыми концентрическими линиями»
101
.
Судя по достаточно общему описанию находок, погребения, обнаруженные в
яме, относятся к различному времени — от X до XII вв., и яма, возможно,
представляет собой следы перезахоронения погребений, разрушенных при
постройке или перестройке самой Иорданской церкви, а возможно и каких-то
иных позднесредневековых сооружений в её окрестностях. На это, в частности,
указывают обстоятельства выявленного в том же году у Иорданской церкви
погребения (погребение № 1 по нашей нумерации), вместе с которым найдены:
«фундаменты погреба, медная посуда XVII в., серебряная дощечка с
изображениями, монета Георгия Вильгельма Бранденбургского, всадник,
кольчуга, шишак, обоюдоострый меч, пряжка с иглой древнегерманского
происхождения, точильный камень в оправе, серёжки из золотой и
серебряной проволоки с бусинами, медальон из восточной монеты —
половины VIII или конца IX в.»
102
.
Данное погребение, судя по всему, следует отождествить с погребением 116,
погребальный инвентарь которого в сводке М. К. Каргера приводится не
полностью (названы только меч, украшенный серебрянной насечкой и скан -
динавская кольцевая фибула с длинной иглой)103. Вероятно, именно из этого
погребения происходит меч типа Е, несущий на себе следы серебряной
инкрустации104.
В 1876 г. ещё одно грунтовое погребение было обнаружено в усадьбе Марра.
Описание инвентаря этого погребения в публикациях В. Б. Антоновича
(большой меч, верхняя часть железного шлема, два стремени, восемь нако
нечников стрел, бронзовая с серебряной насечкой пряжка, копьё и топор)105
несколько отличается от приведенного в заметке, сохранившейся в архиве
В. Б. Антоновича: «…у Иорданской церкви при постройке дома в 1876 г.
кладбище: скелет всадника в железном вооружении, бронзовое украшение с
серебряной насечкой, халифская монета VIII в., сосуды с жжёнными че ло -
веческими костями и зерновым хлебом»106. Под тем же годом в заметках
Антоновича даётся более подробное описание находок:
«при постройке кирпичного завода (фундамент) заполнение: кирка, замок,
цепи, ножик, металлическая посеребрённая дощечка с изображением
креста, языческие могилы, скелеты, фибулы для застёгивания корзна на
плече, серебряные и золотые серьги, бусы из зеленоватого стекла,
аббасидский дирхем с ушком халифа Абу-Джафара-аль-Мансура (754–
775), брусок от точильного камня в виде четырёхгранника, сереб ряные
бляшки в виде крестов с орнаментами, белый глиняный сосуд, украшенный
криволинейным орнаментом, жжённые человеческие кости, лошадиные
кости, обоюдоострый меч с головнёй, железная часть шишака, стремена,
наконечники стрел, поясная бронзовая пряжка с серебряной насечкой,
железный наконечник копья, топор»
107
.
Судя по повторяющимся деталям мужского инветаря в этом и в приведенном
выше описаниях, данное погребение (погребение 2 по нашей нумерации),
следует считать парным. Во всяком случае, оснований для разделения этого
погребения на два различных нет (погребения 117 и 125108).
Ещё одно погребение (погребение 117) было раскопано на мысу, отделённом
от мыса, на котором расположено кладбище Иорданского монастыря (погре бе -
ние 3). Под курганом исследована большая яма, содержащая 3 разрушенных кос -
тя ка и богатый погребальный инвентарь, принадлежащий всаднику. В непо сред -
ствен ной близости от этого кургана было раскопано ещё три телоположения в
гро бах. В одном погребении (погребение 4) найдено серебряное кольцо с чер -
нью. Во втором — такое же кольцо, стекло и бусины (погребение 5). В третьем —
небольшой сосуд «с волютообразным орнаментом» (погребение 6)109.
Целый ряд погребений, содержащих остатки трупосожжений, был найден
В. В. Хвойко в 1890-х гг. в усадьбе по улице Кирилловской, 59–61
Погребения были выявлены перед постройкой здания лечебницы, под слоем
намывной земли толщиной 0,5–1,2 м. В одном из них (погребение 7) в кострище
найден полуобожжённый человеческий костяк, возле черепа которого лежало
копьё. Во втором (погребение 8), в кострище кроме пережжённых костей
найдены два раздавленных сосуда, полурасплавленный серебряный ажурный
предмет, согнутый железный ножик, а также оселок. Остатки третьего по гре -
бения (погребение 9) были помещены вместе с золой в глиняную урну. Ещё два
погребения в урнах (погребения 10–11) были исследованы на территории той же
усадьбы, на плато находящейся там же возвышенности. Аналогичное погре -
бение в урне, сверху которой был положен нож, сера и какая-то бронзовая
ажурная застёжка, было выявлено в усадьбе Светославского110. Вещи, проис хо-
дящие из погребений, раскопанных В. В. Хвойко по улице Кирилловской, 59–61,
не сохранились, однако, судя по довоенным инвентарным книгам, в Киевском
историческом музее хранились «глиняная буса-застёжка» (?) (№ 807), каменные
бруски (№ 1131–1133), стеклянные и янтарные бусы (№ 1248–1249), сер -
доликовые бусы (№ 1389–1390), серебряные кольца и пластинки (№ 1423–1424),
три глиняных сосуда-урны (В–9331, 9397, 9495), происходящие из этих
погребений. Возможно, из этих же погребений происходит гончарный сосуд
«курганного типа», ныне хранящийся в фондах Национального исторического
музея Украины (В–4552/146). Из погребения в усадьбе Светославского, в
инвентарных книгах упомянут только сосуд (В–9332).
Несмотря на то, что только 11 погребений более или менее документировано,
нет никаких сомнений в том, что могильник в районе Кирилловских высот
состоял из нескольких групп. Остатки одной из курганных групп, нас чи ты -
вавшей несколько сот погребений, располагались на территории бывшей усадь -
бы братьев Зарембских, в её верхней части, примыкающей к Лукьяновке.
В исследованных и недокументированных В. В. Хвойко подкурганных погре бе -
ни ях найдены серебряные серьги, бусы, украшения с филигранью и сканью,
сереб ряные браслеты, а также стеклянные сосуды (вещи сохранились частично в
фон дах Национального исторического музея Украины: В–3200–3285). Судя по
на ходкам трёхбусинных серебряных серег, а также браслетов, которые могут
быть отнесены к XII–XIII вв., эта группа погребений является одной из самих
поздних. Одно трупоположение в яме было выявлено здесь в 1939 г. П. П. Ку рин-
ным. Однако из-за отсутствия документации его датировка, к сожалению,
невозможна (среди многочисленных стекляных негативов, хранящихся в музее,
удалось отыскать только общий план погребения).
Ещё одна курганная группа располагалась над Иорданской церковью, на
Лысой горе, где в 1960-х гг. было исследовано 16 погребений
111, а также остатки
синхронного жилища
Что касается вопроса о месте скандинавов в урбанизационных процессах
становления города, то здесь неясной остаётся проблема, когда «Гора» и Подол
стали осознаваться как составные элементы едного целого? Согласно денд ро -
хронологическим данным и археологическим находкам, жилые комплексы
Подола возникли на рубеже IX–X вв. В это время никаких административных
центров на Горе не существовало. В начале X в., вероятно, существовали
какие-то усадьбы скандинавов в районе Кирилловских высот, однако в это время
они представляли собой отдельные посёлки в окрестностях Подола. Нужно
сказать, что по количеству ярких находок этого времени Киев несколько
уступает Шестовице, где найдены две византийские печати — уникальные
свидетельства активных административных и торговых контактов с Визан -
тией135. Только около середины и во второй половине X в. на Подоле возникают
ремесленные мастерские, что связано, вероятно, с активным функцио ниро -
ванием Пути из Варяг в Греки. Одновременно с этим процессом совершаются
погребения, а также, возможно, строятся усадьбы киевской знати и выходцев из
Скандинавии. Многие из них обрели высокое социальное положение на службе в
Византии, а также у киевских князей. Вероятно, именно с этого времени «Гора»
и Подол становятся элементами одного цельного организма, причём первая
принимает явно доминирующую и контролирующую функцию по отношению
ко второму. Официальное признание Византией ведущей роли Киева, согласно
договору Руси с Греками, произошло только в 945 г. и было регламентировано
особой статьёй документа, предполагающей наличие у купцов особой грамоты,
выданной «великим князем русским»136.
С принятием христианства, многие представители киевской знати (в том числе
и скандинавской) сооружают на месте родовых приусадебных курганов часовни,
а также каменные церкви. Первоначально языческие, кладбища становятся
церковными погостами, их забытые или заброшенные участки планируются и
застраиваются рядовой застройкой.
http://history.org.u...thenica/3/1.pdf
Сообщение изменено: Вячеслав, 03 Июнь 2016 - 20:51.
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться



 Наверх
Наверх Ответить
Ответить Цитировать
Цитировать