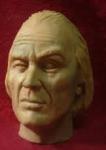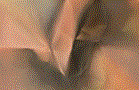Эмиль Паин, Сергей Федюнин. О методологической перезагрузке теории нации
как и в природе, в обществе преобладают смешанные или гибридные явления. Но человечество давно научилось делать выбор и выделять доминирующие тенденции. Например, в реальной жизни не встречается чистое железо, алюминий или сталь — все материалы с примесями, однако домохозяйка, не имеющая ни малейших знаний металловедения, легко делает выбор, покупая «алюминиевую» кастрюльку, если ей нужна более легкая, или «стальную», если предпочитает более прочную (а может быть, более «престижную»). Так же и политическая практика при выборе доминирующих социальных тенденций может опереться, например, на сравнительные социологические исследования. Одно из наиболее авторитетных исследований такого рода было проведено в 43 странах Европы по методике Р. Инглхарта. Оно показало, что во всех этих странах представлены разные социально-ценностные классы, включая два противоположных: «инициативная автономия» (преобладание ценностей индивидуализма и инициативы) и «властная иерархия» (доминирование ценностей послушания, патернализма). Только соотношение этих классов разное. В Северной Европе доминирует первый из названных классов (доля его представителей колеблется от 55% в Финляндии до 74% в Швеции), а в республиках СНГ — второго (от 50% в России до 81% в Азербайджане). В Северной Европе к тому же зафиксирована наивысшая для континента, да и для всего мира, готовность граждан к самоорганизации и их включенность в институты гражданского общества, а в странах СНГ — самые низкие показатели гражданской активности и гражданских ценностей. Все это дает основания утверждать, что страны Северной Европы сегодня — это наиболее яркие примеры гражданских наций, где доминирует гражданская культура (civic culture), а республики СНГ демонстрируют преобладание подданнической культуры, характерной для имперских обществ.
Разумеется, современную Россию, как и другие государства — наследники СССР, нельзя определить как империи по их нынешним формальным политико-правовым параметрам, однако это и не развитые государства-нации, поскольку здесь в той или иной мере сохраняются ярко выраженные признаки империи — «имперский синдром». Россия — составное государство, унаследовавшее от имперской системы прошлых столетий «имперское тело», то есть многочисленные ареалы компактного расселения ранее колонизированных этнических сообществ, обладающих собственными традиционными культурами. Пока горизонтальные гражданские формы связи слабы, воспроизводится «имперская ситуация» параллельного и разобщенного функционирования таких общностей, связанных только через подчинение общему центру. При этом договорные отношения, взаимные обязательства между центром и регионами, характерные для национальных государств федеративного типа, формировались в России в 1990-е годы, а в 2000-е стали слабеть, уступая место возрождавшейся, точнее возрождаемой, имперской иерархии. Исследования «Левада-центра» показывают, что важнейший признак гражданской нации — гражданская субъектность, реализация принципа народного суверенитета — в России не укрепляется. Подавляющее большинство россиян устойчиво отмечают, что они не оказывают какого-либо влияния ни на политическую, ни на социально-экономическую жизнь как во всем государстве, так и в своем регионе, городе или районе. Стремление же формальных граждан России участвовать в политической жизни, влиять на нее падает по сравнению с 1990-ми годами. Важно подчеркнуть, что этот регресс никак не связан с какими-то особенностями русских как этнического большинства страны. Те же русские, в том числе и родившиеся в СССР, прекрасно доказывают свою способность к гражданской активности и демонстрируют способности к освоению либерально-демократических норм в странах, где такие нормы не подавляются властями. Например, в Латвии поддерживаемое прежде всего русским населением политическое объединение «Центр согласия» победило на выборах в латвийский сейм в 2011 году, а его лидер Нил Ушаков является мэром Риги с 2009 года.
Согласно радикально-конструктивистскому подходу Тишкова, концепт «нация» вообще не может быть категорией анализа. Для него это не более чем «метафора», «пустое понятие» и «слово-призрак», а значит необходимо отказаться от его употребления в науке. Любопытно, что для обоснования своего методологического подхода Тишков ссылается на западных ученых, включая Р. Брубейкера. Но если посмотреть на то, что пишет Брубейкер, последовательный конструктивист, испытавший влияние со стороны социологии П. Бурдье, то окажется, что у того подход иной, вовсе не считающий нацию «ложным понятием». Признавая, что «нация является категорией практики, а не (в первую очередь) категорией анализа», Брубейкер предлагает ориентироваться, главным образом, на изучение политик и практик (policies and practices), которые «вытекают» из публичного употребления категории «нация». У Тишкова, в последние годы активно занимающегося продвижением «метафоры» российской нации, никакой связи с переформатированием или отказом от имперских институциональных форм и практик не предполагается. Подобный радикальный релятивизм вызван не столько логикой научного анализа, сколько политической мотивацией различного рода. Так, в случае Тишкова, это солидаризация с современной охранительной идеологией, «защищающей» Россию от невыигрышного сравнения с Западом (мол, «и у нас демократия, государство-нация и верховенство права») и «нормализующей» российскую ситуацию в глобальном контексте.
Обе тенденции, господствующие в современным исследованиях нации и национализма, — чрезмерная концентрация на изучении дискурсов в ущерб вниманию к институтам и сознательный отказ различать имперский и национальный типы политической организации — ведут к игнорированию, пожалуй, одного из центральных вопросов политической науки и ключевой проблемы современной политической практики. А именно, проблемы укоренения и поддержания гражданской демократии. Дело в том, что нация — это не только конструкт и не только производная неких социетальных процессов, но еще и фактор демократического развития.
Тезис о том, что национальное единство (national unity) является единственным предварительным условием демократизации, был высказан и обоснован известным политологом Данквортом Растоу еще в 1970 году. Он подчеркивал, что национальное единство является «предварительным условием демократизации в том смысле, что оно должно предшествовать всем другим стадиям процесса». Имеется в виду процесс становления демократических институтов в государстве и демократического сознания в обществе. Демократия, народное самоуправление возможно лишь после того, как сформируется его субъект — народ, нация, то есть граждане, осознающие как свою принадлежность к определенному сообществу с его политической системой, так и свое место в этой системе в качестве суверена — источника власти.
Реалии нынешнего века дают все больше подтверждений того, что гражданское общество не может существовать чисто виртуально, в отсутствии чувства солидарности его членов и их практического участия. Без государства-нации не получается построить либеральную демократию и демократию вообще, поскольку она «может осуществляться только в пределах четко определенного политического сообщества». Именно поэтому вне развития гражданской нации затруднено, если вообще возможно, развитие демократии: без национальной идентичности, чувства солидарности членов политического сообщества и гражданской культуры демократические институты перестают работать, а ценности свободы и равенства лишаются социальной основы.
По словам экономиста Пола Коллиера, лояльность нации и наличие инструментов гражданского контроля позволяют легитимировать работу государственных институтов, тем самым делая ее более эффективной. Благодаря существованию доверия «по горизонтали» и «по вертикали», люди воспринимают налоги не как выплату дани коррумпированным правителям, а как вложение своей доли в поддержание общественного порядка и благополучия. Будучи специалистом по Африке, Коллиер отмечает, что главная проблема современных африканских стран состоит в том, что их элиты и правительства оказались неспособными создать единую национально-гражданскую идентичность, «перекрывающую» этнические идентификации и создающую условия для доверия к государству и перехода к заботе об общественных, а не узкогрупповых интересах. И наоборот, редкие истории успеха на континенте, как в случае Танзании, связаны с применением на практике национальной модели организации.
сохранение нынешнего эклектического монстра — уже не империи, но еще не нации (по крайней мере, не гражданской нации при наличии некого единого культурного пространства) — представляет собой нарастающую проблему. При этом уже есть методики не метафизического, а вполне конкретного расчета стоимости нарастающих издержек от воспроизводства нынешней политики. Накапливается все больше доказательств того, что Россия уже не может жить так, как жила в эпоху классических империй. И дело не только в том, что внешний мир ей этого не позволяет; ее внутреннее устройство включает в себя обширные пространства, занятые новыми институтами, прежде всего экономическими, которые буквально задыхаются в условиях низкого общественного доверия, подавляемого авторитарным государством.
Многочисленные исследования последних лет подтверждают наличие «цикличной» взаимосвязи между экономическим развитием и общим уровнем межличностного и институционального доверия. Суммируя их результаты, эксперт Л. Бершидский следующим образом описывает эту взаимосвязь: «Если институты и межличностные отношения не приносят благополучия, они не заслуживают доверия. А если людям и институтам нельзя доверять, у них нет никаких стимулов стремиться к благополучию». Это как раз то, что мы видим в России, где люди всячески стараются избегать контактов с государством, во многом живут «гаражной экономикой» и своим «огородом», в массе своей никак не противятся коррупции. В этих условиях, когда граждане не выполняют роли «народа, овладевшего государством» (К. Дойч), т.е. в отсутствии гражданской нации, невозможно даже помыслить становление реальной, а не имитационной демократии, равно как и экономики долгосрочного роста взамен той, что построена на извлечении ренты из добычи природных ресурсов. Мы полагаем, что без гражданско-национальной консолидации российского общества невозможно выйти за рамки описанного А. Эткиндом «супер-экстрактивного государства», в котором население (в глазах власти и в структуре экономики) становится избыточным, или попросту балластом.
Будучи крайне уязвимой в своем «донациональном» состоянии, Россия все же не одинока. Казавшиеся «постнациональными» западные общества и прежде всего страны Западной Европы и США переживают сегодня эрозию демократии и упадок либеральных ценностей. Как только ослабла национально-гражданская идентичность, начался процесс фрагментации, «расползания» общества. «Восстание элит», отбросивших идею нации и общего блага в пользу космополитического сознания и собственного интереса, породило ответную волну в виде беспрецедентного роста популизма (правого и левого) и падения участия граждан в политике. На протяжении многих лет, особенно после экономического кризиса 2008 года, в западных странах углубляется «разрыв доверия» (trust gap) между «информированной частью общества» и «массовым населением» в их отношении к ключевым институтам, таким как образование, СМИ и особенно исполнительная и законодательная власти государства. Эрозия демократии и отказ широких слоев населения в доверии к правящим слоям и артикулируемым ими ценностям являются следствием ослабления чувства сопричастности рядовых граждан и элит в достижении национального процветания. Без укрепления этого чувства сопричастности и восстановления гражданского участия едва ли западные общества, как и, между прочим, Россия, смогут ответить на вызов миграции и растущего разнообразия культур, локальных и групповых идентичностей. Гражданские институты в обществах Европы (и в России, в силу исторических особенностей ее развития в ХХ веке) играют тем более существенную роль в социальной адаптации мигрантов, поскольку механизмы социального контроля — в форме обычаев и традиций, родственных отношений, приходских (церковных) связей — в настоящее время практически утратили свою силу, особенно в городской среде, где и концентрируются мигранты.
Сообщение изменено: альбинос в черном, 20 Май 2017 - 08:31.
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться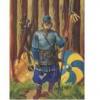




 Наверх
Наверх Ответить
Ответить Цитировать
Цитировать