Спасибо. Заказал на лабиринте. Вы ее всю прочли? Как впечатления?
Войти Создать учётную запись
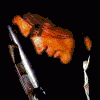
Типы этничностей
#1323

 Опубликовано 05 Апрель 2017 - 14:44
Опубликовано 05 Апрель 2017 - 14:44

I stal sparachnieje ŭščent,
A my tut byli, i my tut budziem,
Pakul isnuje hety śviet.
#1325

 Опубликовано 12 Апрель 2017 - 05:59
Опубликовано 12 Апрель 2017 - 05:59

Eugene_rus, Краки Нифлунг, Ravnur
В книге Сергеева проблема русской нации рассматривается по сути дела впервые. Это начальное, вводное исследование, оно не претендует на всеохватность и скрупулёзность. А так Сергеев очень добросовестный, грамотный автор.
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#1326

 Опубликовано 12 Апрель 2017 - 11:35
Опубликовано 12 Апрель 2017 - 11:35

В книге Сергеева проблема русской нации рассматривается по сути дела впервые. Это начальное, вводное исследование, оно не претендует на всеохватность и скрупулёзность. А так Сергеев очень добросовестный, грамотный автор.
А никто и не говорит, что он подонок
I stal sparachnieje ŭščent,
A my tut byli, i my tut budziem,
Pakul isnuje hety śviet.
#1327

 Опубликовано 06 Май 2017 - 08:23
Опубликовано 06 Май 2017 - 08:23

Просто порой пишет нелепицы. типа берестяных грамот в Полоцке и славян в среднем течении Нёмана в VIII веке.
"Предлагаемая книга не является очередной историей России. Это именно история русской нации. Поэтому читателю, думающему почерпнуть здесь элементарные сведения об отечественном прошлом, лучше обратиться к другим работам, благо их множество"
Моя главная претензия другая. В названии фигурирует словосочетание "русская нация", но глубокого, системного и систематического анализа именно национальной проблематики в книге нет. Анализа исходных понятий, последовательного рассмотрения того, почему и в силу каких причин востребованы или не востребованы те или иные идентичности. Только намётки. Книга хороша в первую очередь обилием шикарного материала для постановки подобных вопросов. Это отправная точка для очень долгого и сложного исследования.
Сообщение изменено: альбинос в черном, 06 Май 2017 - 12:52.
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#1328

 Опубликовано 02 Июнь 2017 - 16:38
Опубликовано 02 Июнь 2017 - 16:38

- сергей сергеев
-
-
Как Российское государство покровительствовало русскому купечеству
М.М. Щербатов (1767):
"В [Соборном] Уложении - глава "10" статья "260" - напечатано, что если российской купец должен чужестранному купцу и Российским, то сперва должно с него долг чужестранного доправить, а Русским людям велеть на нем долг их править после, что еще и многими указами [1671 и 1674 г.] подтверждено... таковое право преимущественное пред природными, мнится, можно отменить, которое само собою со м…ногими неудобствами сопряжено, яко разорение великого числа природных Российских купцов к обогащению чужестранных... тем наипаче, что Российские купцы взаимственным образом нигде подобным правом не пользуются". (Соч. Т. 1. Спб., 1896. Стб. 89 - 90).Честно говоря, даже не знаю, когда этот закон был отменён (и был ли отменён вообще), поскольку в Полное собрание законов РИ все упомянутые акты были включены.
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#1329

 Опубликовано 11 Июнь 2017 - 10:32
Опубликовано 11 Июнь 2017 - 10:32

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кацкари
- "Спасибо" сказали: Karl-Franz
#1330

 Опубликовано 21 Июль 2017 - 16:00
Опубликовано 21 Июль 2017 - 16:00

...но проидет немногим более двух десятилетий, и вроде бы абсолютно беспочвенные «цюрихские беглые» обретут под ногами твердую почву."
Кстати ни у Ленина, ни у Плеханова (который вообще десятелетиями жил в Швейцарии) не было швейцарского гражданства, как и у абсолютного большинства "беглых".
Очевидно что это психологически влияло на их антикапиталистическое мировоззрение. И по этой же причине возможно Ленин так не любил Женеву.
Шанс обрести почву для них был по прежнему только на родине... терять им было нечего кроме своих оков, также как рабочим. Но в отличие от рабочих и крестьян они имели образование.
Может основной двигатель революции и были комплексы образованной но безвластной группы...Хорошо было бороться против собственности тем, у кого её не было и быть не могло. И живя на партийные деньги, Ленин отдавал ли какую то отчетность спонсорам?
- "Спасибо" сказали: альбинос в черном
#1331

 Опубликовано 03 Август 2017 - 08:03
Опубликовано 03 Август 2017 - 08:03

Может основной двигатель революции и были комплексы образованной но безвластной группы...
Образованной, но не безвластной. Левая интеллигенция в последние десятилетия РИ была мощной политической силой.
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#1332

 Опубликовано 03 Август 2017 - 08:04
Опубликовано 03 Август 2017 - 08:04

Всё никак не мог найти сведений о механизме обеспечения воинских частей, расквартированных при Петре в Малороссии, ведь подушная подать на неё не распространялась. Даже у Е.В. Анисимова в его фундаментальной "Податной реформе" об этом ни слова. Но вот, наконец, нашёл:
"Малороссия имела гетманское правление, но главные города ее - Киев, Чернигов, Полтава, Переяславль - заняты были русскими гарнизонами и находились в военном отношении в управлении губернатора, а для содержания войска приписаны были к нему разные великорусские области" (А. Лохвицкий. Губерния. Ее земские и правительственные учреждения. Ч. 1. СПб., 1864. С. 43).
Т.е. та же схема, что и с Прибалтикой, где содержание войск обеспечивалось русскими жителями Сибири.
- "Спасибо" сказали: Краки Нифлунг
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#1333

 Опубликовано 03 Август 2017 - 08:31
Опубликовано 03 Август 2017 - 08:31

Кстати по поводу росс. купцов, платили они налог всего 1-4% в зависимости от гильдии!
сергей сергеев
· 57 мин. ·
Как Российское государство покровительствовало русскому купечеству
М.М. Щербатов (1767):
"В [Соборном] Уложении - глава "10" статья "260" - напечатано, что если российской купец должен чужестранному купцу и Российским, то сперва должно с него долг чужестранного доправить, а Русским людям велеть на нем долг их править после, что еще и многими указами [1671 и 1674 г.] подтверждено... таковое право преимущественное пред природными, мнится, можно отменить, которое само собою со м…ногими неудобствами сопряжено, яко разорение великого числа природных Российских купцов к обогащению чужестранных... тем наипаче, что Российские купцы взаимственным образом нигде подобным правом не пользуются". (Соч. Т. 1. Спб., 1896. Стб. 89 - 90).
Честно говоря, даже не знаю, когда этот закон был отменён (и был ли отменён вообще), поскольку в Полное собрание законов РИ все упомянутые акты были включены.
Причем в гильдию входили целиком по своей совести, никто доход не проверял )
Подушкой податью купцы не облагались.
#1334

 Опубликовано 06 Август 2017 - 17:41
Опубликовано 06 Август 2017 - 17:41

Со времен Петра I до Александра I среди российской политической, культурной и научной элиты было немало иностранцев и лиц нерусского происхождения (балтийских немцев, новых украинских дворян [малороссийских?], польских шляхтичей и т.п.). Многие из них после долгих лет службы в Петербурге и Москве так и не научились говорить по-русски. В этом не было необходимости: языком петербургского двора был французский, а часть провинциального дворянства разговаривала по-немецки.
<...> Восстание 1830-1831 гг. было удачным примером, как один национализм провоцирует и пробуждает другой. В момент вступлення в новейшее время россияне не решили своей собственной проблемы национальной идентичности. Как метко выразился Роман Шпорлюк, если в начале XIX в. поляки были нацией без государства, то россияне были государством без нации. Россия стала многонациональной империей еще до того времени, как сформировалась модерная русская [российская?] нация.
разделены морями или континентами). Зато россияне завоевывали соседние и этнически чуждые им
народы, не будучи сами уверены, что такое собственно "Россия", а что только территории под российским
господством.
Грицак Я.Й. — Нариси Історії України: Формування модерної української нації XIX–XX ст. Київ: Генеза 1996.
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#1335

 Опубликовано 08 Август 2017 - 10:51
Опубликовано 08 Август 2017 - 10:51

"почему выражение «русские люди» должно означать наличие дискурса народа в русской мысли Смутного времени? Ведь в том-то и дело, что «люди» – обозначение множества, а не общности, а вот для обозначения последней до конца 60-х гг. 17 в. в русской письменности понятия найдено не было, т.е. буквально не встречается словосочетание «русский народ», пока западноросс Симеон Полоцкий не написал: «Ликуй Россия, сарматское племя!» (в Западной Руси понятие «русский народ» было известно как минимум с 16 в.)...
Диунов утверждает, что, вплоть до Ивана Грозного, служба московской аристократии имела, как и на Западе, вассальный характер. В качестве доказательства он приводит право отъезда (т.е. возможность для бояр переходить от одного князя к другому). Но, во-первых, вассалитет – это прежде всего письменно зафиксированные договорные взаимообязательные отношения между сеньором и вассалом. Даже в домонгольской Руси ничего подобного не было, договорённости между князьями и боярами не имели юридического характера, более того, они были исключительно устными. Но там, по крайней мере, речь, видимо шла о взаимных обязательствах сторон. В Московский же период, начиная с 15 в., эти договорённости стали скрепляться в некоторых случаях крестоцеловальными записями, которые имели явно односторонний характер – бояре клялись в верности великому князю, но последний никаких прав им гарантировал.
Вот пример такой крестоцеловальной записи, взятой Иваном III с князя Даниила Холмского в 1474 г., – последний не только клянётся в верной службе, но и признаёт, что «осподарь мой князь велики и его дети надо мною по моей вине в казни волен», –разумеется, ни о каких правах и речи не идёт. Такую клятву невозможно представить в устах западного феодала. Кстати, о праве отъезда. Эта самая крестоцеловальная запись была взята с Холмского именно в связи с его неудачной попыткой данное право реализовать, теперь же боярин обязывался, что ни он, ни дети его не покинут московской службы, т.е. формально него отказывался.
Так что, хотя формально право отъезда действовало до 1530-х гг., фактически Москва его не соблюдала уже с Ивана III. Да и ранее пользовались им московские бояре крайне редко, ибо при отъезде, во-первых, терялось право на владение вотчиной, во-вторых, резко понижался служебный статус боярина, т.е., если бы он, положим, захотел вернуться обратно, ему пришлось бы начинать служебную карьеру сначала. Знатность боярина в Москве – и это тоже очень важное отличие от Запада – зависела не только от родовитости как таковой, но и от служебного уровня его рода. В этом смысле Рюриковичи и Гедиминовичи могли быть по службе гораздо ниже каких-нибудь Фёдоровых или Морозовых.
Если в Европе начиная с 14 в. феоды становятся частной собственностью их владельцев, то в Московском государстве верховным земельным собственником был самодержец. К 16 в. владение как поместьем, так и вотчиной обуславливалось государевой службой. По обсуждаемым вопросам у большинства специалистов давным-давно сложился консенсус, о котором то ли знает, то ли не хочет знать мой удивительный критик. Поскольку для него Ключевский не авторитет, приведу краткую и ёмкую цитату, суммирующую указанный консенсус из относительно свежей работы одного из лучших современных отечественных медиевистов: «Принципиальное отличие самосознания русской и европейской знати было в том, что на Западе аристократы видели себя прежде всего независимыми земельными собственниками, а на Руси — "государевыми слугами”» (А.И. Филюшкин. Василий III. М., 2010. С. 64).
"
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#1336

 Опубликовано 09 Август 2017 - 19:38
Опубликовано 09 Август 2017 - 19:38

Л.Клейн:
А главным в моем неприятии является то, что, на мой взгляд, из генетики нельзя прямо заключать о языковых событиях, потому что нет прямой и непреложной зависимости между событиями в жизни языков, культуры и физического строения людей (как антропологического, так и генетического). Они могут совпадать, но часто развиваются разными путями. В каждом отдельном случае предполагаемое совпадение судеб нужно доказывать особо.
Из дискуссии Клейна с генетиками Хааком, Кристеансоном и др.
http://генофонд.рф/?page_id=28008
#1337

 Опубликовано 10 Август 2017 - 10:09
Опубликовано 10 Август 2017 - 10:09

Л.Клейн:
А главным в моем неприятии является то, что, на мой взгляд, из генетики нельзя прямо заключать о языковых событиях, потому что нет прямой и непреложной зависимости между событиями в жизни языков, культуры и физического строения людей (как антропологического, так и генетического). Они могут совпадать, но часто развиваются разными путями. В каждом отдельном случае предполагаемое совпадение судеб нужно доказывать особо.
Из дискуссии Клейна с генетиками Хааком, Кристеансоном и др.
http://генофонд.рф/?page_id=28008
Если бы ув. Л. Клейн почаще бы сам следовал этому правилу, было бы просто прекрасно
- "Спасибо" сказали: tanya17
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#1338

 Опубликовано 10 Август 2017 - 11:03
Опубликовано 10 Август 2017 - 11:03

Насколько я знаю, раньше он ему вообще не следовал)Если бы ув. Л. Клейн почаще бы сам следовал этому правилу, было бы просто прекрасно
Я так понял, что он стал понимать что более сотни лет(что в общем не так и долго) люди просто спекулировать на этих вопросах.
#1339

 Опубликовано 13 Август 2017 - 21:27
Опубликовано 13 Август 2017 - 21:27

Одним из самых значительных последствий петровских преобразований стала перемена в нравах и обычаях. Но семена европейской культуры на российской почве, которые так неукротимо насаживал царь-реформатор, дали причудливые и не всегда удачные всходы. Отвыкая от своего традиционного образа жизни, чужое усваивали поверхностно, потребительски. Насколько неудачен оказался опыт прививки иноземной культуры, подтверждают свидетельства современников, в том числе — иностранцев, наблюдавших внуков и правнуков петровских «птенцов». Ш. Массон в конце XVIII столетия отозвался о русской знати, представителей которой имел возможность наблюдать лично, что цивилизацию в них заменила развращенность. Спустя почти еще полвека, в 1839 году, маркиз де Кюстин писал: «Здесь, в Петербурге, вообще легко обмануться видимостью цивилизации… Я не осуждаю русских за то, каковы они, но я порицаю в них притязание казаться теми же, что и мы. Они еще совершенно не культурны».
Из достижений западной культуры заимствовали в первую очередь то, что делало приятным и комфортным быт, хотели не учиться, а спешили потреблять, тем более что даровой труд крепостных крестьян давал все возможности для удовлетворения любых прихотей. Замечательно точную характеристику типа русского дворянина, каким он сложился к началу XIX века, дает В.О. Ключевский: «С книжкой Вольтера в руках где-нибудь на Поварской или в тульской деревне этот дворянин представлял очень странное явление: усвоенные им манеры, привычки, понятия, чувства, самый язык, на котором он мыслил, — все было чужое, все привозное, а дома у него не было никаких живых органических связей с окружающими… Чужой между своими, он старался стать своим между чужими, и, разумеется, не стал: на Западе, за границей, в нем видели переодетого татарина, а в России на него смотрели как на случайно родившегося в России француза…
ава III. Усадьба и ее обитатели: дворяне и дворовые люди
- "Спасибо" сказали: альбинос в черном
#1340

 Опубликовано 14 Август 2017 - 11:19
Опубликовано 14 Август 2017 - 11:19

Что такое "национальность"?
Это слово в современном словоупотреблении выступает в двух смыслах: как синоним гражданства и как синоним этничности.
Отрывок из книги "Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций" политолога, профессора факультета социологии и политологии МВШСЭН, Владимира Малахова.
Его книга приглашает пересмотреть стереотипы, сложившиеся в отечественной литературе вокруг таких понятий, как «нация», «национальное государство», «национальное гражданство» и «национальная идентичность». Ее главный предмет — природа национальных границ.
«национальность» в современном словоупотреблении выступает в двух смыслах: как синоним гражданства и как синоним этничности. В языке немецкой бюрократии до недавних пор использовалось два разных термина — Nationalität, означающий этническую принадлежность, и Staatsbürgeschaft, означающий государственную принадлежность, то есть гражданство. Во Франции, напротив, слово nationalité означает только одно — гражданство. Так же выглядят и документы международного права. Если в Хартии ООН сказано no one could be deprived of his nationality, то русский перевод этой фразы звучит: «никто не может быть лишен гражданства». В официальном языке Соединенных Штатов «национальность» значит «гражданство», однако в бытовом языке эти слова не равнозначны: в вопросе what is your nationality, обращенном не к иностранцу, а к соотечественнику, имеется в виду этническое происхождение. Еще более выпукло выступает двойственность значения термина «национальность» в российском случае. Граждане России, получавшие паспорт до 1998 года, помнят пятую графу — «национальность», означавшую именно этничность. В нынешних российских паспортах подобного пункта нет, но он сохранился в других документах учета населения. Правда, теперь, заполняя в отделе кадров графу «национальность», мы можем выбирать — указывать ли свою этническую принадлежность или написать «россиянин»/«гражданин России».
В том, как понимается связь между национальностью и гражданством, можно выделить несколько идеальных типов. Они зависят от того:
(1) понимается ли эта связь как «эксклюзивная» или как «инклюзивная»;
(2) понимается ли эта связь как данная от рождения («примордиальная») или как приобретенная в процессе социализации. Таким образом, мы получаем четыре идеальных типа:
(а) Национальность понимается как примордиальная и эксклюзивная. Иллюстрацией может служить Израиль. Принадлежность к еврейской нации определяется либо по крови (этническое происхождение матери согласно галахическому определению еврейства; наличие родственника-еврея в третьем поколении согласно Закону о возвращении), либо по религии (иудейское вероисповедание). Так или иначе, евреем человек рождается, а не становится.
(б) Национальность понимается как примордиальная и инклюзивная. Пример — Османская империя. Принадлежность имперской турецкой нации определялась по рождению. Но полноправным подданным империи можно было стать, приняв ислам и доказав свою верность монарху. Сходным образом обстояло дело в Российской империи, где нерусские по происхождению подданные считались русскими, если крестились в православие.
(в) Национальность понимается как приобретенная, но эксклюзивная. Пример — Франция; национальность «француз» возникает не из факта рождения от родителей, являющихся французами по происхождению или по культуре (например, католиками или людьми, для которых французский язык — родной). Но эта национальность исключает все другие «национальные» (в этническом смысле) принадлежности. Не случайно Франция отказалась присоединиться к Европейской хартии о защите языков «национальных меньшинств».
(г) Национальность понимается как приобретенная и инклюзивная. Примером могут служить США. Быть по национальности «американцем» не означает, что иные национальные (в этническом смысле) идентификации исключены. Американец n’ского происхождения (ирландского, еврейского, польского, греческого и так далее) — норма и факт общественной жизни. Этнические идентичности находят выражение в публичном пространстве (тогда как во Франции эти идентичности считаются приметой частной жизни; в публичном пространстве признаются только «французы»).
Во избежание недоразумений сделаем уточнение, а именно: речь идет об идеальных типах. Поэтому, иллюстрируя наши примеры конкретными странами, мы не должны забывать, что эмпирическая реальность полна нюансов, которые неизбежно ускользают в процессе схематизации.
Транснациональное гражданство
Если гражданство — это не только формально-юридическая принадлежность, но и членство в сообществе, то нельзя не видеть, что в наши дни формируется множество форм членства, не умещающихся в рамки членства в национальном государстве. Носителями новых форм гражданства являются мигранты.
Традиционно присутствие мигрантов в той или иной стране рассматривалось либо сквозь призму «адаптации», либо сквозь призму «диаспоры». В первом случае внимание концентрировалось на том, как мигранты, встраиваясь в социально-экономическую жизнь новой родины и усваивая образцы поведения местного населения, постепенно становятся частью этого населения. Во втором случае, напротив, акцент делали на удержании мигрантами культурных образцов страны происхождения, на формировании ими сетей взаимопомощи, что и влечет за собой появление диаспор. Эти этнические анклавы выступают скорее как своего рода представительства другого государства на территории принимающей страны, чем как ее часть.
Однако начиная с 1990-х годов многие мигрантоведы настаивают на том, что реальное взаимодействие мигрантских групп с принимающим населением и с другими мигрантскими группами не укладывается ни в ту, ни в другую схему. Оперируя схемой адаптации, мы игнорируем устойчивые связи мигрантов с исторической родиной. Отправляясь же от концепции диаспоры, мы гипертрофируем эти связи. Видя в мигрантах «представителей диаспоры», мы не замечаем сложной социальной коммуникации, в структуру которой вовлечены и элементы страны происхождения, и элементы страны пребывания. Аналогичная ситуация складывается и с культурным самоопределением мигрантов — их «идентичностью». Полностью раствориться в новом социокультурном окружении мигрантам удается далеко не всегда, даже если они к такому растворению стремятся. Сохранение исключительной культурной лояльности стране происхождения, без каких-либо изменений в культурном самосознании приезжих — тоже опция из области фантазий. В реальной мигрантской среде формируются гибридные идентичности, в которых сочетаются элементы культуры двух стран.
Поэтому вопрос о том, «где», в каком пространстве (и социальном, и ментальном) находятся мигранты, не следует ставить в виде дизъюнкции: либо в стране пребывания, либо в стране происхождения. Сети взаимодействия, которые выстраиваются в результате миграций, не умещаются ни в одно национальное пространство. Они транснациональны. Этот вывод лег в основание исследовательского подхода, именуемого «транснационализмом».
Процессы, о которых шла речь, могут быть описаны как отрыв гражданства от национальной территории или, если угодно, его «денационализация». Содержательные наблюдения по этому поводу принадлежат Саскии Сассен. Она пишет о недокументированных мигрантах из Сальвадора в Соединенных Штатах. Из Сальвадора их выталкивала гражданская война и отсутствие работы. Война разразилась в 1980-м, но и на протяжении всех 1970-х здесь царило насилие. Выходцы из Сальвадора, оказавшиеся в это время в Америке, внесли ощутимый вклад в ее экономическое процветание; живя в Америке по многу лет, они ощущают себя причастными американскому обществу. И, наконец, они де-факто признаются членами этого общества — их соседями и окружением. Более того, иногда это признание происходит и де-юре — властями. Например, в тот момент, когда им предоставляется легальный статус (пример — «иммиграционная амнистия» 1996 года).
С другой стороны, те же «нелегальные мигранты» из Центральной Америки в США, будучи практически исключенными из гражданства своих стран (ибо опять-таки если гражданство — это членство в политии, то они были де-факто исключены из этого членства — в результате политических преследований, в силу отсутствия социальных прав и так далее), они тем не менее сохраняли связь со своими странами. Например, посылая туда деньги (родственникам или для поддержки той или иной общины, политической организации и так далее).
В сходном положении находятся политические беженцы из Турции, живущие в Германии. Их левые (коммунистические или социалистические) убеждения стали причиной их преследований на родине и в конечном итоге эмиграции. Такие люди стали прибывать в ФРГ в 1960—1970-е годы. Ясно, что за границу их вытолкнула родина. Тем не менее связь с Турцией они сохраняют, в том числе гражданско-политическую. Например, многие из них участвуют в выборах в турецкий парламент. Сохраняя турецкий паспорт, они имеют такое право.
Итак, феномен миграции порождает великое множество стратегий поведения и сетей коммуникации, которые не укладываются в привычные представления об идентичности и лояльности, о включении/исключении, о легальном/нелегальном, о легитимном/нелегитимном.
Постнациональное гражданство?
В течение последней четверти XX века в англоязычной литературе по социальным наукам стали появляться публикации, возвещавшие конец эры национализма и наступление эры «постнационализма». И, соответственно, «постнационального гражданства». Эти работы вкупе с сочинениями на тему «космополитизма» и «космополитического гражданства» составляют на сегодняшний день солидный корпус, с трудом поддающийся обзору.
Существо рассуждений адептов постнационализма сводится к следующему.
Дискурс прав человека стал гегемониальным в организации современного мирового порядка. Это гегемония в грамшианском смысле слова. Речь идет о безальтернативности принципа «прав человека». Он не оспаривается даже теми, кто с ним внутренне не согласен. Установившаяся гегемония не могла не затронуть феномен гражданства.
Первое из изменений в этой сфере может быть описано как отрыв прав от гражданства. Чтобы иметь права, не нужно быть гражданином. Это ведет к тому, что грань между гражданами и негражданами стирается. Иностранцев, постоянно проживающих в либерально-демократических странах, иногда называют denizens — от citizens их отличает разве что отсутствие права голоса на выборах национального уровня. Остальные права — как цивильные, так и социальные — у них есть. Они могут обладать и политическими правами, в частности правом избирать и быть избранными в местные органы власти.
Второе принципиальное изменение, на которое обращают внимание адепты «постнационализма», это формирование транснациональных «режимов справедливости». Субъект правовой защиты в современных условиях — человек (human being), а не гражданин (citizen). А локус защиты прав человека — не только и не столько национальные государства, сколько наднациональные инстанции. Причем их роль растет, поскольку национальные законодательства и суды признают приоритет международного права. Стало быть, в случае нарушения своих прав граждане получают возможность добиваться восстановления справедливости вопреки нежеланию властей государства, гражданами которого они являются. Более того, к числу прав, на защиту которых встают наднациональные институты, относятся и культурные права, то есть право на сохранение культурной самобытности, каковое признается не только за исторически проживающими в конкретной стране меньшинствами, но и за мигрантами.
Отсюда следует, что транснациональные миграции — важнейший фактор, способствующий выходу за пределы «национального гражданства». Сегодняшние мигранты — это не привязанные ни к одной из национальных общностей «кочевники». А коль скоро мировые тенденции указывают именно в этом направлении, в них впору увидеть людей будущего.
Существуют, однако, серьезные основания не согласиться с таким выводом.
Начнем с того, что стремление мигрантов сохранить свою идентичность (о котором они заявляют, требуя «культурных прав») указывает на их связь с исторической родиной, то есть с государством, гражданами которого они являлись до эмиграции. Получается, что свой главный тезис Я. Сойсал иллюстрирует примером, который свидетельствуют скорее об обратном, а именно не об ослаблении национального государства как агента, а о его силе и значимости.
Далее: возможности общественной и политической активности мигрантов (в частности, пространство маневра мигрантских организаций) напрямую зависят от условий того национального государства, на территории которого они действуют.
Еще более весомым контраргументом против «постнационализма» служит то, что на сегодняшний день не существует иных институтов, способных обеспечить социальные права мигрантов, кроме институтов национального государства. Именно поэтому для любого рядового человека предпочтительнее быть гражданином национального государства, чем лишенным корней «номадом».
Наблюдая за полемикой вокруг постнационализма из России, трудно избавиться от ощущения некоей выморочности, надуманности самой проблемы. На фоне того, мягко говоря, плачевного положения, в котором у нас находятся права граждан, ставить вопрос о правах мигрантов в той плоскости, в которой предлагают сторонники «постнационального гражданства», — это в лучшем случае впадать в благодушие. Но мир стремительно меняется. И коль скоро Россия есть часть этого мира, многое из того, что сегодня нам кажется абсолютно иррелевантным, завтра может обрести актуальность.
Следующий аргумент, приводимый адептами «постнационального гражданства», — это разрыв связи между формальной и эмоциональной принадлежностью. А поскольку гражданство — это, среди прочего, определенная идентичность и лояльность, индивиды являются «гражданами» сообществ, границы которых не совпадают с границами государств. Можно быть по паспорту гражданином государства N., но мысленно жить в мире, не имеющем к этому государству никакого отношения. Сообщество идентичности, членом («гражданином») которого индивид себя ощущает, может простираться поверх любых политических границ. А из идентичности вытекают не только привязанности, но и обязательства. Активист того или иного социального движения (экологического, правозащитного и так далее) может строить свою жизнь в соответствии с этими обязательствами (будь то отправка денег единомышленникам или физическое присутствие на мероприятиях в разных странах).
На волне литературы о постнационализме появились такие выражения, как «гендерное гражданство» или «экологическое гражданство». Первое указывает на членство в воображаемом сообществе женщин, приверженных идеям феминизма; второе — на лояльность идеям экологизма («инвайронментализма»).
С чем мы имеем здесь дело? Только ли с семантической инфляцией понятия «гражданство»? Думается, что не только. Сколь бы нереалистичными ни казались позиции авторов, рассуждающих в «постнациональных» терминах, они ухватывают вполне реальную проблему. Это проблема кризиса национального гражданства. Об этом — в заключительной части настоящей главы.
Кризис национального гражданства
Понятие гражданства, как мы видели, указывает не только на формальную принадлежность, но и на принадлежность неформальную, не отражаемую в документах. Оно предполагает не только и не столько статус, сколько идентичность. Гражданство немыслимо без гражданской идентичности и гражданской солидарности, а значит — без политического участия. Последнее, однако, претерпело на рубеже прошлого и нынешнего столетий глубокий кризис.
Этот кризис обусловлен разрушением....
продолжение
https://postnauka.ru/longreads/21601
- "Спасибо" сказали: Eugene_rus
#1341

 Опубликовано 14 Август 2017 - 11:37
Опубликовано 14 Август 2017 - 11:37

Вот на практике это утверждение весьма спорно. Обычно западноевропейцев всей равно прекрасно понимают и имеют отличное отношение в зависимости от формального правового статуса.Понятие гражданства, как мы видели, указывает не только на формальную принадлежность, но и на принадлежность неформальную, не отражаемую в документах. Оно предполагает не только и не столько статус, сколько идентичность. Гражданство немыслимо без гражданской идентичности и гражданской солидарности, а значит — без политического участия. Последнее, однако, претерпело на рубеже прошлого и нынешнего столетий глубокий кризис.Этот кризис обусловлен разрушением....[color=#000000][font=-apple-system']продолжение[/size]
https://postnauka.ru/longreads/21601
Сообщение изменено: Eugene_rus, 14 Август 2017 - 11:40.
#1342

 Опубликовано 17 Декабрь 2017 - 14:36
Опубликовано 17 Декабрь 2017 - 14:36

Историк Михаил Долбилов - о патриотических подъемах в Российской империи
– Каковы были причины массового подъема патриотических настроений в прошлом дореволюционной России – подъема, подобного тому, который мы наблюдаем сегодня в связи с крымскими событиями? И с какого времени тут правильнее вести отсчет? Фраза "Мы – русские, какой восторг!", которую можно считать лаконичным национал-патриотическим лозунгом, принадлежит еще Суворову, это XVIII век…
– С определенного момента традиционный патриотизм начинает сплавляться с национальной идеологией, когда агентом, носителем переживаемых чувств начинает представляться нация, единое сообщество – а не, скажем, имперское дворянство, династия или армия. В этом смысле не только времена Суворова, но, скажем, и война 1812 года с Наполеоном все-таки была лишь прелюдией к эпохе, когда появляется массовое национальное чувство. 1812 год в этом плане – своего рода генеральная репетиция будущих националистических подъемов. Все-таки единого образа нации тогда еще не было, он только складывался. За точку отсчета можно принять, наверное, Крымскую войну 1853-56 годов и ее последствия. Затем нужно отметить восстание 1863-64 годов в западной части империи, на бывших территориях разделенной Речи Посполитой. Цепочку можно продлить балканским кризисом и русско-турецкой войной 1877-78 годов, когда монархия впервые стала объектом давления со стороны панславистски настроенного общественного мнения. Особый эпизод – русско-японская война 1904-05 годов и националистический подъем, испытанный русским обществом тогда, и, конечно, начало Первой мировой войны в 1914 году.
– А было ли во всех этих случаях нечто общее – некие механизмы, схемы, по которым развивался патриотический подъем? И что там было первичным – стихийное движение снизу или целенаправленные усилия властей по культивированию ура-патриотических настроений?
– То, что все эти эмоциональные всплески объединяет, можно назвать тематикой переживания. Я бы здесь выделил три пункта. Первый – это потребность в реванше за некое поражение, за то, что ощущается как историческая несправедливость. Второй пункт – это идея возвращения территорий или вообще чего-то потерянного. Так, после Крымской войны, когда территориальные потери были невелики, чувство возмущения сосредоточилось на демилитаризации Черного моря, навязанной России условиями Парижского мира – ей было запрещено восстанавливать Черноморский флот и укрепления в Севастополе.
В случае с восстанием 1863 года и его подавлением речь шла о "возвращенном русском крае" – эту же терминологию мы слышим и сегодня применительно к Крыму. Области, присоединенные когда-то Екатериной II по итогам разделов Речи Посполитой, воспринимались как "исконно русские", но остающиеся безобразно ополяченными. Православное население, живущее там (которое власти и общественное мнение России считали русским, хотя оно разговаривало на белорусских и украинских диалектах), представлялось угнетенным, стонущим под польским игом. Был дискурс "возвращения в лоно русской семьи", эта риторика звучит и сейчас.
И третий пункт – это защита единоплеменного или единоверного населения каких-то территорий. Это то же самое православное крестьянство западных губерний, или же в случае с русско-турецкой войной – славянские народы Балкан. Что интересно, такие настроения могут воздействовать на сами их объекты. Так, во время июльского кризиса 1914 года Сербия почувствовала себя в силах отвергнуть ультиматум Австро-Венгрии после первых сведений о русских мобилизационных мероприятиях. Это придало сербам невиданный кураж…
– …И подтолкнуло к войне. Массовый патриотизм всегда способствует радикальным решениям?
– Сами по себе патриотические настроения – совсем не безусловный, тотальный яд. Можно даже сказать, что человек, который ни разу в жизни не испытывал пощипывания наворачивающихся на глаза слез гордости в связи с какими-то действиями своей страны, – это человек с неполным эмоциональным опытом. Но в сильном патриотизме всегда есть элемент ксенофобии, потому что к этому чувству начинает примешиваться националистический элемент. Тогда перестает работать известное противопоставление: мол, патриотизм – это любовь к своим, а национализм – это неприязнь к чужим. Всегда важно, к чему приводят патриотические эмоции, не переходят ли они какой-то этический порог.
– А наблюдается ли в таких ситуациях что-то вроде "инфекционного" эффекта? Например, могут ли общественные настроения подтолкнуть политика, принимающего решения и попавшего под влияние национал-патриотической эйфории, к тем или иным действиям? Вот, допустим, Александру II, как известно, нелегко давалось решение о вступлении в войну с Османской империей – но общество настаивало…
– Александр II был, несмотря на свой облик то ли щеголеватого гвардейского офицера-германофила, то ли сдержанного викторианского джентльмена, человеком, способным испытывать горячие патриотические и националистические эмоции. Большую роль здесь сыграла как раз проигранная Крымская война, которую начал его отец, а бесславно заканчивать пришлось уже ему. Эти эмоции видны, в частности, в переписке царя с его возлюбленной, а впоследствии – морганатической женой, княжной Екатериной Долгоруковой. Переписка велась по-французски, но император вставлял в нее разные хлесткие слова и фразы на русском, в основном касавшиеся политики, – "какие скоты англичане", "экие подлецы" и т.д.
Репутация убежденного националиста закрепилась за Александром III, но из писем видно, что отец в этом плане не уступал сыну. Он очень переживал из-за утраты флота на Черном море. Но к началу балканского кризиса 1870-х годов статус России как морской черноморской державы был уже восстановлен. И тем не менее потребность реванша за былое поражение в обществе оставалась. Ее ощущал и царь. Да, он колебался, но в основном из-за финансовых тягот, которые сулила война. Панславистский подъем помог Александру преодолеть возражения советников, но эмоционально он с самого начала был на стороне таких людей, как Иван Аксаков или Владимир Черкасский, славянских комитетов, которые призывали идти освобождать Балканы. Да, это тот случай, когда общественное мнение лидирует в механике патриотического подъема. Но вообще-то в таких случаях общество и политики – сообщающиеся сосуды. Тут в общем-то даже неважно, "кто начал". Эмоциональный консенсус играет огромную роль.
– Патриотический подъем как политический инструмент, по вашему мнению, удобен или опасен для власти? Могут ли такие настроения выйти из-под контроля? И другой момент: а если те плоды и приобретения, по поводу которых возникает эйфория (в нашем случае – Крым), в скором времени окажутся не столь сладкими, не возникнет ли в обществе что-то вроде похмельного синдрома, острое разочарование, идущее на смену подъему?
– После эйфории всегда приходит разочарование, это эмоциональный закон. Одна из опасностей, которую несет патриотическая эйфория, – это ущерб, который она причиняет интеллектуальным способностям элиты. Вот пример периода того же балканского кризиса и русско-турецкой войны: посвященные этим событиям записи из "Дневника писателя" Достоевского, я их недавно перечитывал. Как аналитический текст – это ахинея. Нечто необыкновенно взвинченное, эмоциональное, исполненное патриотических чувств, но по части аналитического видения и размышлений – это горячечные фантазии. Он, к примеру, видит за всем происходящим грандиозный католический заговор. Читать это невозможно без сострадания к гению. Здесь можно упомянуть и другой известный факт: полемику Достоевского с Толстым по поводу эпилога "Анны Карениной". Толстой был тогда одним из немногих, кто остался холоден к панславистскому подъему, и это была одна из причин, по которой эпилог "Анны Карениной" не был опубликован в "Русском вестнике" Михаила Каткова.
В целом мне кажется, что патриотический подъем может быть использован продуктивно скорее не тогда, когда он вызван ликованием по поводу сомнительного приобретения, а тогда, когда он связан со стоически переживаемым чувством утраты. В этом отношении последствия Крымской войны дают интересный пример. Тогда общество, сильно травмированное поражением, в лице целого ряда деятелей, включая самого Александра II, смогло начать Великие реформы. Хотя эти реформы модернизировали Россию, они вовсе не были прозападным предприятием. Наоборот, там было такое послание: сейчас мы покажем Европе! Они так не умеют, так можем только мы, русские! Очень горячая патриотическая эмоция была переплавлена в реформистский импульс. А вот когда патриотизм смыкался с восторгом от ожидавшегося или состоявшегося приобретения, дела шли хуже. И то "похмелье", о котором вы сказали, бывало тяжелым и порождало новый кризис.
I stal sparachnieje ŭščent,
A my tut byli, i my tut budziem,
Pakul isnuje hety śviet.
#1343

 Опубликовано 18 Декабрь 2017 - 16:12
Опубликовано 18 Декабрь 2017 - 16:12

Монгольское завоевание уничтожило ту оболочку племенных делений, которая прикрывала развитие половецкого общества по пути феодализации, и поставило население Дешт-и-Кыпчака в рамки улусной системы как формы феодального развития в степи. Это повлекло культурные изменения – исчезает обычай ставить каменные бабы. Однако существенных трансформаций не было – прослеживается преемственность курганного обряда кочевников от домонгольских времен. XV век - время исчезновения курганных обрядов погребений и всего связанного с ними культа. Дело, очевидно, в трансформации самих кочевников. Процесс смешения кочевников Дешт-и-Кыпчака и сложения новых кочевых образований, начавшийся в XIII в., получил свое завершение в XV в. И, действительно, в XV в. нет половцев-кыпчаков в старом смысле. В Большой Орде кочуют «татары», в Астраханских степях население также называется «татарами», в восточной части Золотой Орды известны казахи, узбеки и мангыты-ногайцы. В этих условиях происходит трансформация половецкого, гузского и другого старого кочевого населения степей Золотой Орды и утеря им ряда определяющих этнических черт. В этом отношении характерно, что кочевые племена половцев, а в более раннее время торков и печенегов, сохраняют свой обряд погребения как этнический признак, только будучи в составе всей орды, всего объединения племен, в составе большой массы родственных им кочевников. Мы знаем, что как только эти кочевники попадают отдельной группой в чуждую им этнически среду, так их этнические признаки и прежде всего курганные обряды погребений исчезают. Так, например, значительные массы печенегов изолированными группами, главным образом в XI в., пересекают Дунай и кочуют в Подунавье. Но курганных погребений этих кочевников в Подунавье мы почти не знаем. То же можно наблюдать и относительно половцев. Бежавшие в XIII в. в Паннонию от монголов отдельные половецкие объединения сразу же утратили свой обряд погребений, в то время как в южнорусских степях в массе, несмотря на монгольское завоевание и те перемещения в степи, которые это завоевание вызвало, они сохранили все основные черты своего обряда.
Фёдоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов / Г. А. Фёдоров-Давыдов. – М. Издание Московского университета, 1966. — 276 с.
#1344

 Опубликовано 17 Январь 2018 - 19:17
Опубликовано 17 Январь 2018 - 19:17

Финикия для финикийцев
Могут ли историки избежать влияния «этнического абсолютизма»
В своей книге «В поисках финикийцев» историк из Оксфорда Джозефин Куинн оспаривает давно прижившиеся в исторической науке представления о Финикийском государстве и населяющем его народе — финикийцах. Куинн показывает, насколько опасно для современного ученого принимать на веру такие укоренившиеся в его собственной культуре и на первый взгляд нейтральные понятия, как, например, «нация» и «национальная идентичность», и объясняет, почему эти понятия сами должны быть объектом, а не инструментом научного исследования. Подробнее об этом читайте в материале историка Юлии Штутиной.
В декабре 2017 года издательство Принстонского университета опубликовало монографию оксфордского историка и археолога Джозефин Куинн под названием «В поисках финикийцев» (“In Search of Phoenicians”. В книге автор объясняет, как в исторической литературе сформировался образ финикийцев, хотя такого народа, скорее всего, никогда не было. Эта интересная работа заслуживает всяческого внимания, поскольку Куинн выявляет клише, которыми обросли историческая наука и некоторые смежные дисциплины за последние двести лет: народ, нация, идентичность, самоопределение.
Джозефин Куинн принадлежит к той же волне античников, что и уже известная русскоязычному читателю Мэри Бирд («SPQR: История Древнего Рима»; М.: Альпина нон-фикшн, 2017). Бирд в предисловии к своей блестящей и пока не переведенной на русский язык книге «Римский триумф» («The Roman Triumph»; Harvard University Press, 2007) пишет, что для нее изучение древней истории в равной степени состоит из «что мы знаем» и «откуда мы знаем». Куинн полностью разделяет эту точку зрения.
Разумеется, это направление в истории античности не исчерпывается двумя авторами, и хотя здесь не место и не время перечислить сколько-нибудь значимое число из них, но заинтересованному читателю мы настоятельно рекомендуем книгу оксфордского профессора Брайна Уорда-Перкинса (Bryan Ward-Perkins) «Падение Рима и конец цивилизации» (“The Fall of Rome and the End of Civilization”. Oxford University Press, 2005) и работу Джонатана Холла (Jonathan Hall) «Эллинство: между национальностью и культурой» (“Hellenicity: Between Ethnicity and Culture”. University of Chicago Press, 2005). Уорд-Перкинс показывает, как легко можно добиться полярных интерпретаций прошлого, руководствуясь разными идеологиями. Холл же обращает внимание на то, как одна и та же концепция, в данном случае единого народа эллинов, виделась в разные времена самим грекам и их исследователям.
Джозефин Куинн занимается финикийцами, возглавляя археологическую экспедицию в Утике (Тунис), а также преподает историю Древнего Рима и Древней Греции в Оксфорде. В предисловии к монографии автор поясняет, что она не спасает своих «подопечных», то есть финикийцев, из тени, в которую их невольно загоняют географические и хронологические соседи — греки и римляне. Напротив, она демонстрирует, как концепция Финикии и финикийцев сформировалась именно у соседей, в то время как сами прославленные мореплаватели и негоцианты не ощущали себя единой нацией и становиться ей не планировали. «Финикийскость» оказалась плодотворной идеей для европейских мыслителей в начале Нового времени, а позже, в эпоху строительства национальных государств и появления национальных исторических наук, вошла в научный обиход на правах едва ли не аксиомы.
Куинн вслед за многими современными исследователями обращается к терминам «эмический» и «этический», придуманным в 1950-х годах лингвистом Кеннетом Пайком. «Эмический» взгляд — это точка зрения человека, находящегося внутри группы, «этический» — позиция наблюдателя вне группы. В книге «В поисках финикийцев» Куинн демонстрирует, насколько трудно выделять «эмическое» на фоне «этического».
Автор напоминает читателям, что до нас дошло имя только одного античного деятеля, который сам называл себя финикийцем. Это — писатель Гелиодор из Эмессы, живший в III-IV веках нашей эры. Все остальные упоминания финикийцев сделаны не финикийцами, а греками, римлянами, иудеями. До нас дошло больше десяти тысяч надписей на финикийском языке, главным образом, вотивных и погребальных. Из этих эпиграфических памятников следует, что жители Тира, Сидона, Карфагена, Кадиса видели себя «сыновьями» своих городов, а также представителями больших семей: известны перечисления 15–17 поколений одного и того же клана. Но никто из них не называл себя финикийцем и, надо полагать, не видел себя частью «большой картины», то есть народа.
Попытки создать что-то вроде национальной истории и мифологии предпринимались карфагенскими политиками между IV и II веками до нашей эры без существенного успеха. На практике эти задачи национального строительства — историческую и мифологическую — до некоторой степени решали иудейские, греческие и римские авторы, которым для удобства рассказа было нужно объединять независимые торговые полисы, населенные носителями финикийского языка, в единый народ.
Термин «финикийцы» мы находим у Геродота, но он применяет его исключительно к выходцам из Тира, при этом ссылаясь на персидские источники, что противоречит внутреннему правилу «отца истории»: он стремился пересказывать важные сведения о народах со слов их представителей, а не через вторые руки. У Гомера слово «финикийцы» применяется к людям определенного рода занятий — искусным морякам, которые торгуют по всей ойкумене дорогими тканями и редкими сосудами. В более поздних источниках, в классическую эпоху, у слова «финикийцы» появляется негативный оттенок, не исключено, что это — отзвук участия Тира, Сидона и других городов в греко-персидских войнах на стороне Персии.
В то же время из античных источников мы знаем, что финикийские политические центры практически никогда не выступали вместе против крупных внешних врагов, зато охотно воевали друг с другом. Например, те же Тир и Сидон регулярно устраивали рейды друг против друга, отбирая куски плодородных равнин вдоль побережья Средиземного моря. Сидонцы помогали Александру Великому осаждать и штурмовать Тир. Единичные находки в литературе и эпиграфике, свидетельствующие, например, о том, что у Тира и Сидона был общий правитель, по мнению Куинн, не выдерживают критики.
А как же «типичные» финикийские произведения декоративно-прикладного искусства: предметы из слоновой кости, металлические и стеклянные сосуды? Их известны сотни, если не тысячи. Но только единицы из них найдены в финикийских контекстах, остальные — за пределами. Непредубежденный анализ этих артефактов показывает, что интенсивные торговля и обмен между приморскими городами-государствами Леванта, Эгейского моря, Северной Африки привели к формированию эклектичного «международного» стиля предметов роскоши. Это значит, что за их созданием стояли не представители определенного народа, а чуткие к интересным веяниям ремесленники, работавшие в самых оживленных торговых городах. То же относится и к архитектуре: в финикийских городах постройки эклектичны, объединяя черты, позаимствованные в Египте, Греции, Персии, Ассирии и так далее, буквально по принципу «чтобы было красиво».
Финикийцы гибко подходили к религии: они почитали своих божеств дома, строили святилища чужим богам на чужбине, переплетали истории греческого Геракла со своим Мелькартом. Джозефин Куинн полагает, что, если бы финикийцам понадобилось выстраивать национальную идентичность вокруг какого-нибудь одного высшего существа, то им точно не стоило бы выбирать Мелькарта, который похож на многих богов средиземноморского ареала, то есть совершенно не уникален.
Пластичность и трудноуловимость финикийцев, как полагает Куинн, хорошо вписывается в теорию «слабого сопротивления» американского антрополога Джеймса Скотта (James C. Scott). Скотт на примере сельских регионов юго-восточной Азии описывал, как крестьяне избегают своих крупных и авторитарных соседей: держатся мелкими группами, стараясь не попадать в поле зрения властей и тем самым уклоняясь от непосильных налогов, принудительного труда и призыва в армию. Финикийцы, пишет Джозефин Куинн, выбрали похожий путь: они отказались от создания крупных государственных образований с вертикальными связями, выбрав горизонтальные («разделяйтесь, чтобы вами не властвовали», как это называл Джеймс Скотт).
Даже когда Карфагеном ненадолго овладели имперские амбиции, правители этого города позаимствовали греческую идеологию города-матери и его колоний: в данном случае карфагенцы объявили себя колонией древнего Тира. Есть все основания полагать, что это было не воспоминание об историческом прошлом, а сознательное политическое действие.
Карфагенский опыт «финикийскости» был успешен недолго. Как только Рим стал гегемоном в Средиземноморье, финикийские города вернулись к прежним удобным горизонтальным связям и больше не претендовали на сколько-нибудь значительную роль в большой политике. Но, как пишет Куинн, история, точнее, отдельные истории финикийцев сохранились в литературе и оказались востребованы накануне Нового времени в Европе, когда начали зарождаться идеи наций.
Так, уже в XVI веке группа английских интеллектуалов выдвинула гипотезу, что первым народом, поселившимся на Британских островах, были финикийцы, а не троянские беженцы, как полагал Гальфрид Монмутский. В эпоху Генриха VIII это была предсказуемая аналогия: финикийцы так же относились к гегемону Средиземноморья — Риму, как протестанты-англичане — к католическому миру. Чуть позже в Ирландии с воодушевлением начали проводить параллели между финикийцами и ирландцами с одной стороны, римлянами и англичанами — с другой.
Куинн не без сарказма отмечает, что узурпация финикийцев англичанами и ирландцами — выдающийся интеллектуальный эксперимент, который не подтвержден ни единым материальным свидетельством. За все время археологических раскопок на Британских островах ученым удалось обнаружить только одну пуническую надпись, состоящую из одного слова — «Макрин». Это имя североафриканского солдата, расквартированного в окрестностях Честера где-то на рубеже I и II веков нашей эры.
Главное достоинство монографии Джозефин Куинн — это попытка соблюсти баланс между сведениями, которые извлечены из собственно финикийских источников, и знаниями, полученными у их соседей, греков и римлян. Исследовательница убеждена, что рожденные XIX веком идеи нации и национальной идентичности пустили слишком глубокие корни в исторической науке, превратившись в «этнический абсолютизм». Если социологи уже упорно развенчивают обе концепции, то историки все еще охотно пользуются старыми наработками, не утруждая себя неудобными вопросами наподобие «откуда мы знаем». Описание человеческого общества не должно быть подобно описанию биологического вида. Для классификации бабочек мнение бабочек не имеет значения, но для истории социума его внутреннее самоощущение так же важно, как и внешние сведения о нем.
Юлия Штутина
Оригинал материала N+1: научные статьи, новости, открытия https://nplus1.ru/material/
- "Спасибо" сказали: альбинос в черном
#1345

 Опубликовано 17 Январь 2018 - 19:34
Опубликовано 17 Январь 2018 - 19:34

Куинн не без сарказма отмечает, что узурпация финикийцев англичанами и ирландцами — выдающийся интеллектуальный эксперимент, который не подтвержден ни единым материальным свидетельством.
Оригинал материала N+1: научные статьи, новости, открытия https://nplus1.ru/material/
Это то, что и называется мифом. На мой взгляд первые стали мофологизировать древние греки, нобилитет которых выводил свою родословную от богов. Мезолитические общества в этом плане выводят происхождение от каких-либо животных или даже деревьев и гор. А затем пошло тоже самое столетия спустя вплоть до новейшего времени, но уже от греков и римлян, финикийцев, сармат, германцев, ариев, скифов и т.д. и т.п. Все это на мой взгляд идентичные процессы в разное время на разных землях.
#1346

 Опубликовано 23 Январь 2018 - 13:52
Опубликовано 23 Январь 2018 - 13:52

Нация - это группа людей, объединенных фантазиями об общем происхождении...
Читать полностью: https://gatoazul.liv...com/538059.html
#1349

 Опубликовано 07 Апрель 2018 - 11:07
Опубликовано 07 Апрель 2018 - 11:07

#1350

 Опубликовано 15 Апрель 2018 - 16:45
Опубликовано 15 Апрель 2018 - 16:45

Альбинос заметил, что ассимиляция-плохое слово, которое лучше заменить на выбор идентичности, а вот Алексей Миллер (авторитет которого как историка и нациеведа повыше, чем у ставропольского математика) на 1:42:40 заметил, что он термин "идентичность" в профессиональной деятельности не использует
Вообще тут вспоминается Мольер (цитата неточная, по памяти)
-Она онемела
-Что это значит?
-Она не может говорить!
Посетителей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться


 Наверх
Наверх








