Войти Создать учётную запись

ВОВ
#151

 Опубликовано 10 Февраль 2014 - 16:35
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 16:35

Я тоже против бездумного мультипостинга любых материалов. Я с уважением отношусь к осетинам, как, впрочем, и к другим народам. Но есть такая пословица: Що занадто, то нездрово. (Что слишком, то нехорошо).
Вот если бы форум был посвящен исключительно осетинскому народу, то, безусловно, важно было бы собрать об осетинах все, как-то структурировать этот материал.
А так вот я наблюдаю, как вы пишете по 50-60 однотипных сообщений в день, и недоумеваю, зачем?
#152

 Опубликовано 10 Февраль 2014 - 16:35
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 16:35

Давайте пишите все что вы думаете?! Покажите свое внутреннее я! Вы же мужчины а не завистницы?
Мужество не в интернете доказывается. Кстати, насколько я помню, года 2 - 3 назад кто-то постоянно постил немцев в формах СС и орденах. Тоже предупредили, так что не в орденах дело.
#153

 Опубликовано 10 Февраль 2014 - 16:41
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 16:41

Не надо раскидываться словесами, если не в состоянии их подтвердить. Да пишу вещи неприятные для национального самолюбия, но это еще далеко не повод заочно определять меня в НСДП
#154

 Опубликовано 11 Февраль 2014 - 05:12
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 05:12

В этой таблице очень не корректные данные по всем народам.
#155

 Опубликовано 11 Февраль 2014 - 05:41
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 05:41

ээээ, я постил, только в темах про народы, но не с умыслом пропаганды, а скорее показать лица 40-х гг. Да и не помню чтоб меня предупреждали
#156

 Опубликовано 11 Февраль 2014 - 08:16
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 08:16

Речь не о вас. Кто-то в теме "немцы" выставлял только эсэсовцев, подбирая только нордических и такой подборкой явно искажая общую антропокартину целого народа.
#157

 Опубликовано 11 Февраль 2014 - 08:18
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 08:18

ну да, и это было)
#158

 Опубликовано 13 Февраль 2014 - 12:42
Опубликовано 13 Февраль 2014 - 12:42

К сожалению или к счастью я Сармата забанил на веки вечные. Он ведь сам так захотел. Его нарушения не были столь критичными, ему даже никто устное предупреждение не выдавал за это, а лишь мягко намекали. Но он сам поствил вопрос ребром не оставив выбора не себе не модераторам. Вольным вольная воля!
#161

 Опубликовано 13 Февраль 2018 - 21:30
Опубликовано 13 Февраль 2018 - 21:30

Неман – река раздора
Михаил Вовк http://warspot.ru/10...an-reka-razdora
Во время Второй мировой войны на территории Западной Белоруссии в остром противостоянии сошлись две антифашистские силы — польская Армия Крайова и отряды советских партизан. Первая стремилась сохранить западнобелорусские земли в составе Польши, вторые — выполняли решение Москвы о борьбе с оккупантами на территории СССР. Разгоревшаяся межпартизанская война втянула в свою орбиту множество людей и привела к немалым жертвам.
«Концепция двух врагов»
Западная Белоруссия вошла в состав Советского Союза осенью 1939 года — в это время на её землях возникли первые польские подпольные группы. Большинство из них подчинялось приказам общепольской националистической военной организации «Служба победе Польши» (позднее — «Союз вооружённой борьбы» (СВБ)), связанной с эмигрантским правительством. Основу подпольных групп составляли солдаты и офицеры Войска Польского, избежавшие плена, а также бывшие полицейские, осадники (польские военные колонисты), лесники, помещики и чиновники довоенной администрации.
Целью СВБ было восстановление Польши в довоенных границах — то есть борьба одновременно и против Третьего рейха, и СССР. Однако выступлению против Москвы мешал её нейтралитет с Лондоном, являвшимся покровителем эмигрантского правительства, а восстание против немецких оккупантов, по мнению польских стратегов, было обречено на провал. Поэтому до тех пор, пока Великобритания не ослабит Гитлера, члены подполья должны были ограничиваться пропагандой, сбором оружия и разведданных (от боевых акций предполагалось воздерживаться). В своих расчётах руководство СВБ исходило из того, что война завершится внутренним разложением Германии и крахом фронта, поэтому планировалось, что подпольная армия поднимет восстание в момент отхода вермахта с территории довоенной Польши.
После нападения Германии на СССР и возобновления дипломатических отношений польского эмигрантского правительства с Москвой ситуация для СВБ почти не изменилась — вопрос территориальной принадлежности «Кресов всходних» (восточных окраин) Речи Посполитой решён не был. Хотя Третий рейх и был объявлен врагом №1, Красная армия рассматривалась польским подпольем лишь в качестве союзника союзников — отказа от концепции «двух врагов» не произошло. В случае вступления советских войск на довоенную польскую территорию без согласования с эмигрантским правительством членам подполья предписывалось оказывать им вооружённое сопротивление. Сотрудничество польских подпольщиков с советскими партизанами было запрещено, проводить акции против немцев разрешалось лишь диверсантам, заброшенным на оккупированную территорию из Англии.
К началу Великой Отечественной войны структура подполья на территории БССР, несмотря на репрессии, проведённые НКВД в отношении местных поляков, в целом была сформирована. Западнобелорусские земли входили в обшар №2, состоявший из четырёх округ (территории довоенных Белостокского, Виленского, Новогрудского и Полесского воеводств). К моменту вооружённого выступления каждая округа должна была выставить одну пехотную дивизию и одну кавалерийскую бригаду в нумерации довоенной польской армии. Вся территория обшара была покрыта конспиративной сетью, в каждой деревне с польским населением предполагалось подготовить от отделения до роты бойцов.
Поражение Красной армии летом 1941 года и приход немцев были с одобрением встречены значительной частью жителей Западной Белоруссии (как поляков, так и белорусов), за два года разочаровавшимися в советской власти. В начале оккупации в органы новой администрации по распоряжению штаба СВБ поступили тысячи жителей Западной Белоруссии — поляки стремились восстановить своё влияние в регионе и подготовить силы к восстанию. Вместе с тем они получили возможность свести счёты со сторонниками советской власти.
«Красные» и «белые»
Летом 1942 года СВБ, переименованный в Армию Крайову (Армию Отечества), приступил к формированию партизанских групп, которые пока не предпринимали активных действий. В это время основными задачами партизан Армии Крайовой (АК) было вооружение, организация и выжидание. Интересно, что местные жители называли их «белыми», помня события Гражданской и Советско-польской войн, в противовес партизанам — «красным».
Немногочисленное на то время советское партизанское движение активных действий в Западной Белоруссии ещё не вело. Выживая в лесах лишь за счёт самообеспечения, «красные» нередко занимались принудительным изъятием продовольствия у крестьян, тем самым настраивая их против советской власти. Нечастые акции против оккупантов и их пособников вызывали ответные репрессии против местных жителей, вынужденных создавать отряды самообороны. Поскольку бо́льшую часть личного состава этих отрядов составляли поляки, они ориентировались на польское эмигрантское правительство.
В феврале 1943 года Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) под руководством 1-го секретаря ЦК Компартии Белоруссии Пантелеймона Пономаренко приказал советским подпольным группам, находившимся западнее довоенной советско-польской границы, активизировать боевую деятельность против оккупантов и их пособников. Что же касается польских националистов (именно они составляли основу немецкой вспомогательной полиции), то их предписывалось разоружать и по возможности включать в состав советских партизанских отрядов. Спустя два месяца СССР разорвал отношения с польским эмигрантским правительством — причиной этому послужило желание поляков провести международное расследование в отношении останков польских офицеров, найденных в Катыни. Так появились предпосылки для начала вооружённого конфликта между польским националистическим подпольем и советскими партизанами.
В мае 1943 года в районе Налибоцкой пущи, окрестностях Лиды на Гродненщине, а также озёр Нарочь и Свирь на западе Витебщины (местах компактного проживания поляков и белорусов-католиков) началось активное формирование отрядов аковской самообороны. Поначалу полякам и ещё немногочисленным в этих местах советским партизанам удалось договориться о разграничении сфер влияния, в июне-июле дело дошло даже до совместных акций против немцев и их пособников. Наиболее известная из них — так называемое Ивенецкое восстание, во время которого польский отряд Каспера Милашевского («Левальда») захватил городок Ивенец в Минской области.
Чтобы предотвратить вывоз польского населения на работы в Германию и освободить арестованных польских подпольщиков из местной тюрьмы, 19 июня 150 аковцев напали на гарнизон, насчитывавший 100 немецких жандармов, 200 служащих Люфтваффе, размещённых в казармах за городом, и 300 местных полицейских, на 80% являвшихся законспирированными бойцами АК. Уже в начале боя полицейские перешли на сторону нападавших. К тому же внезапная атака застала немцев врасплох — силы жандармерии были отрезаны от радиостанции и блокированы пулемётным огнем в разных частях города. Был взорван мост через реку Ивенчик — это не позволило остальным немцам вмешаться в ход боя. Через пять часов после начала атаки город полностью перешёл в руки АК. Потери легионеров составили 3 человека убитыми и 11 ранеными, немцы же только убитыми потеряли 40 человек.
На следующий день поляки покинули Ивенец, в который устремились немцы, находившиеся за рекой. На подступах к городу они были атакованы советскими партизанами из отряда имени Кузнецова бригады имени Чкалова. В бою у деревни Пральники, расположенной на дороге Минск–Ивенец, «красные» прикрыли отход АК из Ивенца, понеся тяжёлые потери. Ответом оккупантов на Ивенецкую акцию стала карательная операция «Герман», приведшая к почти полному уничтожению советских и польских отрядов в Налибоцкой пуще.
На Виленщине летом 1943 года было налажено сотрудничество между польским отрядом «Буря» под командованием Антония Бужинского («Кмицица») и партизанской бригадой имени Ворошилова под руководством Фёдора Маркова. В начале июля стороны провели успешные операции против полиции в деревнях Кобыльники и Вайстома, а также разбили подразделение литовских коллаборационистов во время переправы тех через Вилию.
«Помнят польские паны…»
А вот в районе среднего течения Немана (в окрестностях Лиды) советским и польским партизанам не удалось достичь компромисса. В мае 1943 года, с первых дней появления отрядов самообороны под командованием Чеслава Зайончковского («Рагнара») и Яна Борисевича («Крыси»), начались их столкновения с частями «красных» из бригады имени Кирова. Советские партизаны обложили поборами польские деревни и нередко убивали семьи местных жителей, заподозренных в связях с АК или немцами. За первые полгода своего существования отряд «Рагнара», за счёт добровольцев увеличивший свою численность с 30 до 700 человек, провёл более 25 боёв с «красными» и заставил их покинуть правый берег Немана. Жертвами летних столкновений стали десятки человек с обеих сторон, под контролем поляков оказались город Ивье, посёлок Юратишки, а также значительные территории современных Лидского и Щучинского районов.
Тактика аковцев сводилась к «защите» польских деревень от советских партизан — в ряде населённых пунктов были размещены взводы и роты, объединённые в Наднеманский батальон АК. Наступательные действия легионеров ограничились серией засад на отдельные группы партизан и рейдами на левый берег Немана. Там в ответ на аналогичные действия «красных» в польских деревнях легионеры развернули террор по отношению к сторонникам советской власти и их родственникам. Конфликт быстро приобрёл характер гражданского противостояния, пленных не брала ни одна, ни другая сторона, а расправы над противником проводились с особой жестокостью. Жертвами этой войны только в 1943 году стали несколько тысяч мирных жителей. Противостояние советским партизанам стало для аковцев Лидчины приоритетной задачей.
В конце осени 1943 года между противниками произошло серьёзное столкновение — по числу участников и жертв его можно считать самым крупным в советско-польском партизанском конфликте. 19 ноября 800 бойцов советского партизанского Белостокского соединения Филиппа Капусты, шедшие из района Гродно в Липчанскую пущу, натолкнулись на взвод АК в деревне Бутилы. После 40-минутной перестрелки поляки ушли в находившуюся в 5 км деревню Мотевичи. Поскольку местоположение деревни позволяло полякам контролировать переправы через Неман, в ней стояли целых три роты АК. После часового боя сопротивление легионеров было сломлено, деревня перешла под контроль советских партизан, на лодках и вброд начавших переправу. Одновременно началась расправа над сторонниками АК из числа местных жителей.
Бегство поляков из Мотевичей успокоило «красных», посчитавших их разгром завершённым. Это дало возможность незаметно подойти к деревне всему батальону «Рагнара», не успевшему принять участие в предыдущем столкновении. Перейдя с марша в бой, аковцы атаковали разрозненные группы советских партизан. По польским данным, в результате начавшейся паники соединение Капусты потеряло до 200 человек убитыми и утонувшими. Свои потери Наднеманский батальон оценил в 2 убитых, 1 пленного и нескольких раненых. В советских источниках, напротив, сообщается о 51 убитом и 6 пленных аковцах, а потери партизан оцениваются четырьмя павшими. Так или иначе, сражение окончилось сохранением статус-кво — советские партизаны ушли на левый берег Немана, поляки продолжили контролировать правый.
Рейд Белостокского соединения, как и приход в Западную Белоруссию других советских партизанских частей во второй половине 1943 года, стал следствием постановления ЦК КП(б) Б от 22 июня «О дальнейшем развёртывании партизанского движения в западных областях Белоруссии». Документ предписывал соединениям, подчинявшимся ЦШПД, активизировать борьбу с «белопольскими бандами». В результате за довоенную советско-польскую границу было переброшено 9 партизанских бригад, 10 отрядов и 15 спецгрупп. Численность советских партизан на Новогрудчине и Виленщине выросла с 11 000 до 36 000 человек. Их командирам предписывалось выявлять, разоружать и уничтожать польские «буржуазно-националистические» группы, чьё присутствие в Белоруссии рассматривалось как незаконное вмешательство в дела советского государства.
Во исполнение этого приказа уже в конце августа командование бригады имени Ворошилова приняло решение разоружить отряд «Буря», а его командование расстрелять. 26 августа польские офицеры были приглашены для обсуждения плана совместных операций против оккупантов. Во время переговоров аковцев арестовали и после формального допроса расстреляли. Одновременно были блокированы и рядовые члены отряда, находившиеся на лесной базе всего в 3 км от расположения «красных». Разоружённых поляков доставили в бригаду Маркова, где 80 человек распустили по домам, 50 казнили, а 70 принудительно включили в просоветский польский партизанский отряд имени Бартоша Головацкого. Позднее из-за массового дезертирства были расстреляны ещё 30 человек из состава этого соединения.
После разгрома отряда «Буря» советские партизаны попытались зачистить польские деревни, в которых существовала аковская конспиративная сеть. Были убиты ещё несколько десятков человек, однако полностью очистить территорию от аковского подполья бригаде Маркова не удалось. В начале сентября из уцелевших легионеров и польских крестьян из деревень в окрестностях озера Свирь ротмистр Зыгмунт Шендзеляж («Лупашка») сформировал 5-ю Виленскую бригаду Армии Крайовой. В последующие месяцы её основным противником стали не столько немцы и литовская полиция, сколько партизаны Маркова — к концу года их потери, по советским данным, достигли 150 человек убитыми.
Тем временем разоружение польских отрядов продолжалось. 1 декабря 1943 года силами бригады имени Сталина под командованием полковника Павла Гулевича была ликвидирована Столбцовская группировка АК — возрождённый после операции «Герман» отряд «Левальда», насчитывавший 300 бойцов. Для его переформирования в 1-й батальон 78-го пехотного полка АК с инструкциями из Англии в район Налибоцкой пущи прибыли Адольф Пильх («Гура») и Вацлав Пелка («Вацлав») — их задержание стало одной из важных задач советских разведгрупп. Непосредственным поводом для разоружения стал расстрел поляками в деревне Дубники 10 советских партизан, уличённых в мародёрстве.
Как и в случае с отрядом «Буря», командование поляков было приглашено для переговоров в расположение советских частей, разоружено, но не расстреляно, а переправлено в Москву. Из Лубянской тюрьмы поляки вернулись в ПНР только в 1948 году. Рядовых бойцов отряда разоружили в тот же день на их базе в районе озера Кромань (при этом было убито 10 и ранено 8 аковцев). Всего было обезоружено более 200 человек — часть из них распустили по домам, а часть распределили по советским партизанским отрядам. Интернирования избежали лишь 40 человек, ведших разведку или занимавшихся фуражировкой. Не был арестован и «Гура» — к концу декабря он сумел возродить батальон, доведя его численность до 107 человек (главным образом за счёт дезертиров из полиции местечка Раков). К лету 1944 года в рядах батальона насчитывалось уже 870 бойцов. Как и в случае с «Лупашкой», теперь основным противником аковцев стали советские партизаны.
Немецкий фактор
Противостояние двух антифашистских сил не осталось незамеченным и оккупантами. Узнав о начале межпартизанских боевых действий, немцы предложили полякам свою помощь. После серии переговоров о взаимном ненападении между представителями польского подполья и сотрудниками Абвера и СД функции оккупационной полиции в ряде районов перешли к полякам. В обмен на оружие и боеприпасы легионеры «Гуры», «Рагнара» и «Лупашки» почти полностью свернули борьбу с немцами, сконцентрировавшись на боевых действиях против «красных». Руководство АК в Лондоне резко осудило сотрудничество с нацистами, но на ситуацию на местах повлиять не могло.
Контакты поляков со спецслужбами Рейха не стали секретом и для советской агентуры. Проявления коллаборационизма позволили Москве говорить о «польской профашистской организации», действующей в западных областях БССР. Впрочем, это не помешало советским партизанам вновь выйти на контакт с АК. Упорная борьба польского подполья и его авторитет в католических районах Западной Белоруссии заставил ЦШПД временно отказаться от нападений на легионеров.
В конце 1943 года командир партизанской бригады имени Гастелло Виктор Манохин направил «Лупашке» письмо с предложением уладить все недоразумения. Аковцы ответили согласием и заключили с «красными» временное перемирие, продлившееся чуть более месяца. 2 февраля 1944 года 5-я бригада АК, к тому времени насчитывавшая 200 бойцов, была атакована полуторами тысячами советских партизан из бригад имени Ворошилова и имени Рокоссовского. После боя с немецким подразделением в Ворзянах двумя днями ранее поляки восстанавливали силы на берегах реки Стреча в деревнях Лозово и Радюши Островецкого района Гродненской области.
План советских партизан предусматривал разрыв польской обороны, окружение разрозненных сил бригады, оттеснение их к Стрече и полное уничтожение. Атаке предшествовал визит парламентёров, которые под прикрытием организации нового раунда переговоров должны были выяснить потери и состояние аковцев после недавнего столкновения с немцами. Посчитав силы поляков незначительными, советские партизаны обстреляли 3-й взвод бригады, находившийся в окрестностях деревни Радюши и занимавшийся поиском своего пропавшего бойца. Наткнувшись на огонь «красных», взвод вернулся в деревню. О произошедшем было доложено «Лупашке», который отдал приказ готовиться к обороне.
Главный удар бойцы бригады имени Ворошилова предприняли на Лозово, в которой оборонялось два взвода аковцев. Огонь из станковых пулемётов прижал поляков к земле и не позволил контратаковать. Вместе с тем трассирующие пули подожгли крыши деревенских домов, вызвав пожар, – уже через несколько минут густой дым скрыл оборонявшихся от нападавших. Это позволило полякам организованно отойти к реке и начать переправу, в деревне остался лишь заслон из бойцов 4-го взвода. Основные силы аковцев успешно перешли на противоположный берег и начали отход к деревне Белая Вода, расположенной севернее Радюшей. Последним отступил 4-й взвод.
Партизаны не стали преследовать легионеров, так как из-за наступившей темноты и дыма не заметили их выход из боя. Кроме того, по ошибке они открыли огонь друг по другу — по польским данным, в результате этого погибло несколько человек. Всего же, как утверждают аковцы в своих мемуарах, советская сторона потеряла до 200 человек убитыми и ранеными. Свои потери аковцы оценили в 1 убитого, 1 утонувшего, 6 раненых и нескольких пленных, части которых позднее удалось сбежать. В то же время в советских источниках число потерь среди партизан не указывается, но называется число погибших поляков — 20.
Война без конца
Столкновения польских и советских партизан продолжились и на Немане. В отчёте о боевой и диверсионной работе партизанских формирований Лидской зоны за февраль-март 1944 года сообщается о практически ежедневных боях с аковцами «Рагнара» и «Крыси», чьи подразделения достигли численности в 3000 человек и вновь отстояли «свой» берег Немана. В донесениях, направлявшихся в ЦШПД, отмечалось, что из-за интенсивных боёв с «белополяками» у бойцов осталось лишь по 6-7 патронов на винтовку, и полностью отсутствуют боеприпасы для пулемётов. В апреле интенсивность боёв резко снизилась из-за вспыхнувшей среди поляков эпидемии тифа. Советские партизаны временно приостановили свои действия, но вскоре, получив помощь с «большой земли», повсеместно перешли в наступление на аковцев. Первый удар был нанесён на Виленщине — серьёзные потери понесла 24-я бригада АК, атакованная в своём лагере в районе Браславских озёр.
В ночь с 13 на 14 мая партизаны из бригады имени Сталина напали на 1-ю роту 78-го полка АК в укреплённой деревне Камень, расположенной на самом краю Налибоцкой пущи. В результате ночного боя между сотней аковцев и примерно 800 партизанами населённый пункт был почти полностью уничтожен. Уцелело лишь бетонное здание, в котором держали оборону поляки. Погибли 21 аковец и 20 мирных жителей, ещё 23 поляка были ранены; свои потери советская сторона оценила в 18 человек. По советским данным, полному уничтожению «белопольской банды» помешало известие о приближении к месту боя всего подразделения «Гуры».
Наибольшие потери во время майского наступления «красных» пришлись на долю 4-го батальона 77-го полка АК — так стал называться отряд «Рагнара». В середине мая польское подразделение должно было тремя колоннами перейти на левый берег Немана для уничтожения бригады имени Кирова. Советская разведка сумела раздобыть план операции. В ночь с 17 на 18 мая бойцы бригады имени Кирова устроили засаду на одну из аковских колонн в районе деревни Ольховка. По разным данным, в бою погибло от 23 до 46 поляков и от 8 до 40 советских партизан. От полного уничтожения колонну спасло прибытие подкрепления из отряда «Рагнара», которое открыло огонь из станковых пулемётов для прикрытия отхода уцелевших. Поле боя осталось за «красными», часть Ольховки была сожжена. В ответ через три дня поляки уничтожили деревню Пузино, считавшуюся одной из опорных точек советских партизан. Тем не менее наступление частей АК за Неман было свёрнуто.
В июне аковцы предпринимали лишь небольшие вылазки на другой берег реки, но до крупномасштабных боёв дело не доходило — обе стороны вновь сконцентрировались на борьбе с немцами. 22 июня Красная армия начала операцию «Багратион» по освобождению Белоруссии, и поляки попытались заключить с советскими партизанами соглашение о борьбе против общего врага. Эта инициатива осталась без ответа.
Всего, по неполным данным, отряды АК провели не менее 300 столкновений с советскими партизанами. Эта межпартизанская война завершилась «вничью», стороны нанесли друг другу ряд серьёзных поражений. Точное число жертв не будет известно никогда, однако очевидно, что речь идёт о сотнях бойцов с каждой стороны и тысячах мирных жителей. При этом потери аковцев, скорее всего, были ниже, чем у «красных» — поляки старались избегать крупных боёв, в которых их шансы на победу были бы ниже, чем у противника. Как правило, аковцы действовали из засад, стремясь использовать элемент внезапности и численное превосходство в конкретном месте и в удобный для них момент.
История крупных отрядов АК в Западной Белоруссии, насчитывавших на пике своего существования до 20 000 человек, закончилась в июле 1944 года. Попытка Виленского и Новогрудского округов АК своими силами освободить от немцев Вильнюс до прихода Красной армии закончилась провалом. Командиры отрядов, сражавшихся с советскими партизанами, отказались от участия в штурме, поэтому 17-тысячный немецкий гарнизон атаковали лишь 7000 аковцев.
После взятия Вильнюса войсками 3-го Белорусского фронта поляки были разоружены и интернированы. Те, кто сумел избежать разоружения, видя бесперспективность борьбы с Советским Союзом, перешли на территорию Польши. Именно так поступили отряды «Гуры» и «Лупашки»: в Польше они воевали с немцами, а позже — с просоветским польским правительством. Оставшиеся в Белоруссии отряды «Рагнара» и «Крыси» перешли к террористическим действиям и были уничтожены в результате чекистско-войсковых операций в конце 1944 – начале 1945 годов.
Впрочем, на этом война не закончилась — группы польских «лесных братьев» продолжали действовать до середины 50-х годов. К этому времени значительное количество польского населения Белоруссии было переселено на территорию этнической Польши. Примечательно, что на Волыни и в Галиции, до 1939 года также являвшихся частью Польши, в годы войны также сосуществовали и польское, и советское партизанские движения. Однако конфликтов между поляками и «красными» в западных областях Украины не зафиксировано — их общие усилия были направлены против отрядов Украинской повстанческой армии и подполья Организации украинских националистов.
I stal sparachnieje ŭščent,
A my tut byli, i my tut budziem,
Pakul isnuje hety śviet.
#162

 Опубликовано 13 Февраль 2018 - 21:35
Опубликовано 13 Февраль 2018 - 21:35

Щит и меч для «Острой Брамы»
Летом 1944 года партизаны Армии Крайовой попытались на деле продемонстрировать принадлежность земель Западной Белоруссии и части Литвы к Польше. Смелая попытка штурма литовской столицы Вильнюса привела их сначала к сотрудничеству с Красной армией в борьбе против немцев, а затем к краху польского вооружённого сопротивления.
Сюрприз для «друга друзей»
22 июня 1944 года части Красной армии начали операцию «Багратион» по освобождению Белоруссии от немцев и их союзников. Через неделю после начала наступления они пересекли довоенную советско-польскую границу и устремились на запад. По мнению польского эмигрантского правительства в Лондоне и его вооружённой структуры Армии Крайовой, западнее «старой» границы находились исконно польские земли — присутствие на них советских войск было для поляков неприемлемым. Вместе с тем вступать в открытый конфликт с союзником союзника (Великобритании) для руководства АК было немыслимо. Но ничего не предпринять в сложившейся обстановке поляки также не могли.
Предвидя такую ситуацию, командование АК ещё в конце 1943 года разработало операцию, получившую кодовое название «Буря». В военном отношении она должна была представлять собой комплекс диверсионных и повстанческих действий, последовательно охватывающих территории, освобождаемые Красной армией. Части АК должны были овладевать этими районами в условиях перемещения линии фронта, нанося удары по немецкому арьергарду или тыловому охранению в короткий миг существования «ничьей земли». При этом наступающие советские войска должен был «встречать» уже сформированный административный аппарат, подчинённый эмигрантскому правительству и поддержанный отрядами АК. Польским структурам на местах рекомендовалось с одной стороны, обещать советской стороне совместные действия против немцев, с другой — подвергать сомнению законность нахождения частей Красной армии на освобождённых территориях. В соответствии с этими директивами бойцы АК должны были вести конспиративную работу в советском тылу, сохранять оружие, а в случае ожидаемых арестов вести «самооборону», то есть партизанскую войну.
К началу июня 1944 года «Буря» уже пять месяцев бушевала на землях Западной Украины, однако участвовавшие в ней соединения АК были либо разбиты немецкими войсками и отрядами УПА, либо вошли в состав сформированного в СССР Войска Польского, либо отступили на территорию «коренной» Польши. Несмотря на очевидные неудачи, руководство АК решило продолжить операцию и захватить силами Виленского и Новогрудского округов, действовавших в Западной Белоруссии и Южной Литве, крупнейший город региона — Вильнюс.
Акция, подготовленная в конце июня 1944 года в рамках «Бури», получила название «Остра Брама» (польское название ворот Аушорс, расположенных в центре Вильнюса). Она предусматривала занятие города (гарнизон которого в середине июня насчитывал всего 500 человек) объединёнными силами двух округов ещё до подхода советских войск. Какого-либо сопротивления со стороны немцев и литовских коллаборационистов поляки не ожидали — ставка была сделана на то, что враг оставит город без боя.
Для овладения Вильнюсом два округа, объединённые под общим командованием полковника Александра Крыжановского («Вилька»), должны были выделить пять соединений общей численностью более 10 000 человек. Удары планировалось наносить с севера, востока, юга и запада. Помимо этого, по сигналу восстание должны были поднять законспирированные члены АК, находившиеся в Вильнюсе. Непосредственное командование штурмующими войсками принял подполковник Адам Шидловский («Пляшук»), начать атаку предполагалось 10 июля в 23:00. Незадействованные в операции силы планировалось использовать для нанесения вспомогательных и отвлекающих ударов по отступающим немецким частям.
Между тем в начале июля численность немецких войск в Вильнюсе, объявленном крепостью, значительно увеличилась — в городе были размещены 17 400 солдат вермахта, 60 танков и самоходок, 270 орудий различных типов, а также несколько эскадрилий истребительной авиации. Комендантом Вильнюса был назначен генерал-лейтенант Райнер Штаэль. Готовившаяся атака на город не стала секретом для немецкой службы безопасности (СД), и к началу июля гарнизон был полностью готов к отражению возможного нападения со стороны поляков.
Из лесов — в город
Приказ о начале операции «Буря» в Виленском и Новогрудском округах поступил из Лондона 2 июля, боевые действия охватили все районы, занятые подразделениями АК. Бои с отступавшими немецкими частями (как правило, численностью не более батальона) начались в районах Барановичей, Белицы, Несвижа, Лиды, Ошмян, Гольшан, Клецка, Белицы, Молодечно и Рудницкой пущи.
5 июля советские войска взяли Сморгонь, расположенную всего в 70 км от Вильнюса. На следующий день в связи с быстрым продвижением Красной армии к городу «Вильк» принял решение о переносе начала операции на более ранний срок. Ряд аковских соединений, двигавшихся к городу, к началу восстания просто не успевали, кроме того, приказ о переносе сроков дошёл далеко не до всех командиров бригад. В частности, его не получили комендант городского гарнизона Вильнюса Любослав Гжешовский («Людвиг»), в чьём подчинении находились 2000 человек, командир северного соединения АК Мечислав Потоцкий («Венгельны») и командир 6-й бригады АК Франтишек Копровский («Конар»).
В последний момент отказался участвовать в атаке командир 5-й бригады АК Зыгмунт Шендзеляж («Лупашка») — ещё с осени 1943 года его часть воевала больше с советскими партизанами, чем с немцами и литовской полицией. «Лупашка» опасался возможных столкновений с подразделениями Красной армии и увёл свой отряд в Августовскую пущу, расположенную в сотне километров западнее Вильнюса. Ранее по этой же причине отвёл свои силы на запад и Адольф Пильх («Гура»).
В результате из запланированных 10 000 бойцов к моменту штурма в распоряжении «Вилька» оказалось лишь 4040, объединённых в две группировки — №1 и №3. В группировку №1 под командованием Антония Алеховича («Похорецкого») входили 3-я, 8-я и 13-я виленские бригады АК, отряд разведки Владислава Китковского («Грома»), а также 3-й и 5-й батальоны 77-го пехотного полка, прибывшие из Новогрудчины. В группировку №3 Чеслава Дембицкого («Яремы») входили 9-я бригада, а также 1-й и 6-й батальоны 77-го пехотного полка. На вооружении аковцев находились две противотанковые пушки, а также несколько миномётов и гранатомётов.
Несмотря на незавершённую концентрацию своих сил, в ночь с 6 на 7 июля аковцы пошли в наступление на хорошо укреплённые позиции немцев. При этом атака происходила с наиболее защищённой юго-восточной стороны, откуда немцы ждали подхода Красной армии. Здесь держали оборону несколько тысяч солдат вермахта с сильной артиллерией и танками. Поддержку им оказывала авиация, базировавшаяся в аэропорту Порубанек.
Атака началась из района Бельмонт и расположенного юго-восточнее него кладбища Росса — после прорыва немецкой обороны аковцы должны были выйти к Соборной площади. Первыми без предварительной разведки в бой пошли 1-й и 6-й новогрудские батальоны. Они пересекли железнодорожную ветку Вильнюс-Пабраде и захватили первую линию немецкой обороны в окраинном районе Липувки, однако предпринятая немцами контратака вынудила поляков с большими потерями отойти на прежние позиции. Одновременно 3-й и 5-й батальоны выбили гитлеровцев из района Гуры, но после сильного вражеского артогня поляки покинули и эту позицию. 8-я бригада была остановлена огнём бронепоезда в районе железнодорожной станции Виленская колония, а атаку 9-й бригады пресёк немецкий огонь из дотов, располагавшихся в районе Грибишки.
Небольшого успеха добилась лишь 3-я бригада Гарциана Фруга («Щербеца»), чьи подразделения сумели пробиться к окраинам района Антоколь и надёжно там закрепиться. Остальные аковские части не сумели выполнить поставленной задачи — понеся серьёзные потери, они отступили на исходные рубежи. После начала атаки в самом городе из подполья стали стихийно выходить законспирированные члены АК, однако их попытки помочь наступавшим были быстро пресечены немцами.
Союз поневоле
7 июля около полудня отступающие аковцы, потеряв за несколько часов боёв более 100 человек убитыми и ранеными, встретились с регулярными частями Красной армии, которые подходили к Вильнюсу с севера и востока. Первыми к городу приблизились танкисты 35-й бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса из состава 3-го Белорусского фронта. В 8 часов вечера при поддержке других частей 5-й армии они взломали немецкую оборону. В последующие дни в сражении за Вильнюс приняли участие более 100 000 красноармейцев с сотнями танков и самолётов.
8 июля поляки совместно с Красной армией, на долю которой выпала основная тяжесть боёв за Вильнюс, продолжили штурм. В боях в районе Кальвария особо отличился 2-й батальон 85-го пехотного полка АК под командованием капитана Болеслава Загурного («Яна») — лишь этой части удалось без серьёзных потерь развить наступление и сконцентрировать свои силы для дальнейших ударов по врагу. Оказывая помощь советской 97-й стрелковой дивизии, аковцы овладели целым районом, а двумя днями позднее, переправившись на другой берег реки Нярис (польское название — Вилия), пробились к центру города в районе Замковой горы. При этом полякам удалось поджечь два немецких танка, выведя их из строя. Тяжёлые бои шли на улице Субоч, где находился немецкий бункер — красноармейцы и польские партизаны подавили его совместными усилиями.
Отдельные отряды АК действовали совместно с частями Красной армии и в других районах города. Особо отличился отряд «Виктора», захвативший тюрьму в Лукишках и освободивший большое число арестованных. 9 июля в освобождённой правобережной части Вильнюса аковцы создали свою комендатуру, которую признала и советская сторона. В тот же день стороны начали совместное патрулирование освобождённых городских кварталов.
К 12 июля немецкие войска были выбиты из центра города и рассечены на две части. Получив разрешение на отход, генерал Штаэль вывел свои части из боя в направлении Каунаса.
Утром 13 июля бои за Вильнюс прекратились, бойцы 144-й стрелковой дивизии вывесили на башне Гедимина красный флаг. Чуть ниже него около 11 часов подхорунжий Ежи Енч и капрал Адольф Рихтер подняли польский флаг. Всего в боях за город погибли 500 аковцев, ещё более 1000 были ранены. Красная армия только убитыми потеряла около 3000 человек.
В тот же день под Кравчунами в бой с отступавшими из Вильнюса немцами вступило соединение «Венгельного» (1-я, 4-я, 23-я и 24-я бригады АК — около 2000 человек). Оно не принимало участия в штурме города, поскольку после встречи с частями Красной армии перешло в оперативное подчинение к командиру 277-й стрелковой дивизии генерал-майору Гладышеву и сражалось с немцами северо-западнее литовской столицы.
Около 5 часов утра на переправе через Нярис поляки были атакованы тремя тысячами немцев, которые нанесли удар по расположению 1-й бригады. После часового боя потери бригады составляли 23 человека убитыми (включая командира — Чеслава Громбошевского («Юранда»)) и около 100 ранеными. Во избежание окончательного разгрома поляки отступили, открыв немцам переправу. От гибели 1-ю бригаду спасло прибытие к месту боя остальных бригад аковского соединения и подразделений советской 277-й дивизии. В ходе боя, длившегося до 15 часов дня, союзники сумели отрезать тысячную группировку противника и разгромить её. Немецкие потери оцениваются в 700 человек убитыми и ранеными, а также 300 пленных. Польские — в 79 убитых, 10 пропавших без вести и 35 тяжелораненых. В благодарность за помощь генерал Гладышев вручил «Венгельному» письменную благодарность, в которой отмечалось, что «польские солдаты боролись за овладение Вильнюсом мужественно и заслуживают право пользоваться всеми необходимыми привилегиями».
Мобилизовать и интернировать
После освобождения Вильнюса советское командование вступило в переговоры с аковцами, предписало им покинуть город, и «Вильк» отдал распоряжение о передислокации своих частей за его пределы. В окрестностях Вильнюса он планировал начать формирование армейского корпуса — 19-й пехотной дивизии, Виленской бригады кавалерии и танкового батальона в нумерации довоенной польской армии. Планировалось, что корпус станет самостоятельным польским соединением на восточном фронте, подчинённым эмигрантскому правительству. При этом оружие, амуницию и обмундирование предполагалось получить от СССР.
Проект формирования польских частей «Вильк» намеревался обсудить с командующим 3-м Белорусским фронтом генералом армии Иваном Черняховским. Однако 16 июля, прибыв на встречу с представителями советской стороны, он и его начальник штаба Теодор Цетыс («Слав») были арестованы и отправлены в тюрьму в Лукишках. На следующий день в деревне Богуши в окрестностях Вильнюса были арестованы десятки офицеров высшего и среднего командования АК, приглашённые советской стороной на переговоры.
Операцией по разоружению и интернированию польских партизан руководил заместитель наркома внутренних дел генерал-лейтенант Иван Серов, выполнявший приказ своего начальника Лаврентия Берии. В его распоряжении находились 86-й пограничный полк НКВД и 136-й стрелковый полк внутренних войск, которые были переброшены под Вильнюс за пару дней до начала антиаковской операции. В последующие дни численность группировки НКВД возросла до 12 000 человек.
Несмотря на то, что операция осуществлялась буквально «с колёс», она была тщательно спланирована и прошла без единого выстрела. В предыдущие месяцы советская разведка получала от своих агентов (в том числе и в рядах АК) исчерпывающие донесения о целях и задачах польского националистического подполья на восточных окраинах довоенной Польши. Межпартизанская война, вспыхнувшая в Западной Белоруссии летом 1943 года, убедила руководство советских силовых структур в необходимости ликвидировать структуры Армии Крайовой. Её руководителей было решено интернировать, а рядовой состав включить в ряды 1-й армии Войска Польского, сформированной в СССР. Реализация этой стратегии была возложена на органы НКВД.
В последующие дни разоружению и интернированию подверглись ещё около 4000 рядовых аковцев, участвовавших в штурме Вильнюса. После известия об аресте своих командиров они попытались укрыться в Рудницкой пуще — лесном массиве, расположенном южнее литовской столицы. Во время марша туда многие аковские части были окружены войсками внутренних войск и без боя сложили оружие. В дальнейшем рядовой состав был отделён от офицеров и отправлен в лагерь для военнопленных в Медниках — там бывшим аковцам предложили вступить в Войско Польское. После массового отказа пленных отправили под Калугу, где из них попытались создать регулярную часть Красной армии — 361-й запасной стрелковый полк. Однако аковцы отказались принимать присягу, и были отправлены на лесоповал в Рязанскую область. Офицерский состав после двух-трёхлетнего пребывания в Лубянской тюрьме был либо возвращён в Польскую Народную Республику, либо отправлен в советские лагеря.
По данным НКВД, всего в конце июня – начале августа 1944 года на Виленщине было задержано около 7000 бойцов АК, захвачено 5500 винтовок, 370 автоматов, 270 ручных и станковых пулемётов, 13 орудий, 7 радиостанций.
Между тем чекистско-войсковая операция по ликвидации аковского подполья конечной цели не достигла. Ареста избежали как многие офицеры среднего командного состава АК, так и несколько тысяч рядовых бойцов — им удалось достичь Рудницкой пущи и разбиться на небольшие группы, неуловимые для НКВД. Кроме того, из лагеря в Медниках из-за ненадлежащей охраны удалось бежать почти четверти заключённых. Вскоре эти люди составили основу польского антисоветского подполья в Западной Белоруссии, борьба с которым длилась до середины 50-х годов.
I stal sparachnieje ŭščent,
A my tut byli, i my tut budziem,
Pakul isnuje hety śviet.
#163

 Опубликовано 08 Декабрь 2018 - 09:50
Опубликовано 08 Декабрь 2018 - 09:50

Такой вопрос - были ли на других фронтах, у других воюющих сторон подвиги, аналогичные совершенному Александром Матросовым? Да, я в курсе, что он закрыл, вероятно, не амбразуру, а вентиляционное отверстие. Но подобных поступков было множество и кроме Матросова. И в моей области тоже.
Было ли что-то подобное в Армии Крайовой, у французов, американцев (мб на Окинаве?), у Вермахта?
#166

 Опубликовано 08 Декабрь 2018 - 12:22
Опубликовано 08 Декабрь 2018 - 12:22

тут надо разделить сами факты подвигов и случаи и степени раздутия подвигов или и даже просто случайностей или придуманых "подвигов". Сравнивать можно только сравниваемые вещи. Опять же (кроме того), феномен спайки штрафбата-зградотряда надо учитывать. Там не только такие "подвиги" должны были получаться
#167

 Опубликовано 08 Декабрь 2018 - 15:31
Опубликовано 08 Декабрь 2018 - 15:31

тут надо разделить сами факты подвигов и случаи и степени раздутия подвигов или и даже просто случайностей или придуманых "подвигов". Сравнивать можно только сравниваемые вещи. Опять же (кроме того), феномен спайки штрафбата-зградотряда надо учитывать. Там не только такие "подвиги" должны были получаться
Как и преувеличивать их роль не следует. Встречал мнение, что в матросовцы могли записывать тех, кто оказался ближе всех к уничтоженной огневой точке. Не знаю, насколько оно обосновано.
Есть и такие донесения, к примеру:
"Я все видел своими глазами. Впереди неожиданно появились Римма Шершнева и еще один паренек. Его тут же подкосила фашистская пуля. А Римма пробежала метров пятнадцать - двадцать, упала. Мгновение - и она уже ползла к дзоту. Снова вскочила и что-то крикнула нам, бросила гранату, а еще через минуту бросилась на амбразуру, и фашистский пулемет умолк. На какое-то мгновение партизаны застыли в изумлении. Потом с неистовым "Ур-рра-а!" рванулись вперед. Я подбежал к дзоту, залез на него. Гляжу - наша Римма безжизненно повисла на вражеском пулемете, закрыв собой смертельный прямоугольник амбразуры. Я осторожно подтащил ее наверх, на купол дзота. Смотрю, еще дышит"
Но мне всегда казалось, что ствол пулемета не выступает за границы укрепления (поэтому и повиснуть на нем затруднительно) и заблокировать огонь из него телом невозможно (из-за скорострельности).
Короче, единственное, что мне удалось нагуглить - это северокорейский случай подобный.
#169

 Опубликовано 10 Май 2019 - 11:32
Опубликовано 10 Май 2019 - 11:32

Алексей Исаев – о том, кто внес решающий вклад в победу во Второй мировой войне
Автор хоть и был замечен в компании всяких пучкинистов-гоблинистов, вроде бы достаточно объективен.
I stal sparachnieje ŭščent,
A my tut byli, i my tut budziem,
Pakul isnuje hety śviet.
#170

 Опубликовано 10 Май 2019 - 11:47
Опубликовано 10 Май 2019 - 11:47

Что бы дать оценку Второй Мировой войне необходимо отказаться от идеологического понятия ВОВ, а ход Второй Мировой рассматривать в полном контексте. Например, как тогда расчитывать "вклад" Советского Союза до "вероломного" нападения? В балансе это будут цифры со знаком минус. впрочем это и есть причина, зачем ввели понятие ВОВ.
#171

 Опубликовано 10 Май 2019 - 12:05
Опубликовано 10 Май 2019 - 12:05

Ну ВОВ vs ВМВ это классика.
Люблю рассказывать скрепным россиянам про тысячи белорусов в армии Андерса, принимавшие участие и в битве под Монте-Кассино в Италии и операции Маркет Гарден в Нидерландах и т.д. И про то, как их перед этим несколько лет советы "утюжили" в Сибири. А потом те, кто вернулся домой попали под репрессии и лишились всех преференций ветеранов войны. Недавно даже книга по ним вышла и выставка в музее войны:


I stal sparachnieje ŭščent,
A my tut byli, i my tut budziem,
Pakul isnuje hety śviet.
#173

 Опубликовано 10 Май 2019 - 12:26
Опубликовано 10 Май 2019 - 12:26

А чем первые дни отличаются от других? Бомбёжками городов? Так советских бомбардировок было больше, учитывая сколько потребовалось немцам времени на оккупацию территории страны и сколько потребовалось потом советам.
Наоборот, 1941 это ещё не тотальный голод и реквизиции, советские окруженцы ещё не сколотились в партизаны, а соответственно нет и карательных немецких мероприятий. Хуже всего в первые дни было евреям, но большинство погибнет в лагерях, а не в первые дни.
Вчера я выкладывал воспоминания одного красного партизана родом из Урала, там есть и такое про 1941:
Глубокое — небольшое местечко блистало чистотой. Был настоящий жаркий летний день. На улицах наводили порядок евреи, работая метлами, лопатами и другим несложным оборудованием. У каждого из них на одежде были нашиты на груди и на спине большие, жёлтые, шестиконечные звезды Давида. Каждому встречному немецкому чину — а последние здесь были выхоленные тыловики, большей частью немолодые, отъевшиеся на белорусских харчах чиновники, ходившие по городку, как у себя дома, ничего не опасаясь, с махоньким пистолетом на поясе — евреи подобострастно вскидывали руку в гитлеровском приветствии и громко кричали: «Хайль Гитлер!» Так их вымуштровало местное начальство гебитскомиссариата. Войной тут и не пахло, солдат было мало и даже каски они не носили, ограничиваясь пилотками.
... Выслушав мою историю, он стал расспрашивать о моих дальнейших планах. Я-то надеялся у него, как у советского человека, значительно старшего, бывшего председателя, получить совет, что делать дальше? Я откровенно признался, что не знаю, как быть, и надеюсь на его советы. Но из его советов, кроме как снова явиться к немцам, я ничего полезного не услышал. Заявив ему, что возвращаться в лагерь для военнопленных у меня нет никакого желания, что подохнуть от голода и холода лучше на воле, чем за колючей проволокой. Я дал ему понять, что жду от него чего-то другого. Так в разговорах прошёл ужин, затем, сославшись на поздний час и что «утро вечера мудренее», он предложил лечь спать.
Утром проснувшись, я понял, из хаты этого предателя я уже никуда не уйду. Два дюжих молодца, по разговору белорусы, доставили меня на немецкий пост в Полоцке по эту сторону Двины.
Допрос, на моё счастье, происходил без рукоприкладства: видимо, я у них был не первый, и они уже знали, как со мной поступить. Единственное что я услышал в качестве угрозы — это фразу: «Повесить бы тебя на этой верёвке!» Так выразился один из допрашивающих, когда в моём мешке, кроме традиционных продуктов, был обнаружен кусок верёвки, которой я собирался связать плот для переправы через Двину, а когда понял, что Двину на плоту не форсировать, забыл её выбросить из мешка.
...Приближалось 25-е декабря — Рождество Христово у католиков («Боже Народзэне» по-польски). Началась пора больших праздников. На Западной Белоруссии часть населения исповедовала православную веру и ходила в православные церкви, а другая часть исповедовала католическую веру — официальную религию Речи Посполитой (панской Польши) — и посещала католические церкви — костёлы. И тех и других было предостаточно в местечках. Несмотря на то, что шла война, пока сельское население ещё не почувствовало её тягот; боёв здесь не было, немцы проехали остановившись только помыться в ручье и пошутить с панёнками (девушками), в местечках их было также мало, все дела вершили войт и солтусы, полиция была тоже только в местечках, на хутора наезжала редко. Парни не были мобилизованы в Красную Армию и сидели по хатам. Вечеринок, правда, не было, но на посиделки собирались, а некоторые даже играли свадьбы. Никто не знал, то будет дальше: то ли вернутся Советы, так недолго существовавшие здесь и не успевшие ничего изменить в жизненном укладе деревенского населения, то ли будет снова Польша, то ли будет Германия, то ли ещё что.
А пока все заводили брагу и гнали самогон, готовясь к праздникам, которые тут следуют длинной чередой: сначала польское, т.е. католическое Рождество — 25-го декабря, затем польский Новый год — 1-е января, затем православное Рождество, затем православный Новый год (по старому стилю), затем польское крещение, затем православное крещение. И все ходят друг к другу в гости. Православные к католикам, те к православным, и в результате все пьянствуют несколько недель подряд.
У всех ещё было и зерно, и картошка, хрюкали в хлеву свиньи, доились коровы, кудахтали куры, как будто войны и не бывало. Вот в такой обстановке я ушёл от Глинских и попал «с корабля на бал», В каждой хате меня, как и всех приходящих, сажали за стол, келишек (стаканчик) с горелкой оббегал всех по кругу, каждый пил за здоровье соседа по столу и закусывал драниками (блины из тёртой картошки) с салом. Кто был побогаче, ставили на стол клёцки с дَушами (шарики из тёртой картошки с начинкой в виде шкварок, мяса и специй) или другие белорусские яства.
Когда люди поднапивались, развязывались языки, а что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Приходилось много выслушивать весьма не лестных замечаний в адрес Советов, которые тут были недолго, но по себе оставили далеко не очень хорошие воспоминания. Кое-кого раскулачили и отправили в Сибирь, причём далеко не кулаков (Глинского и его брата не тронули?), кое-где начали создавать колхозы. Понаехало из Советской (Восточной) Белоруссии большое количество всевозможных начальников («Заготскот», «Заготзерно» и др. Заготы), причём в качестве их приехали исключительно евреи, как наиболее пронырливый народ. Поэтому меня часто спрашивали, что у нас в России одни только евреи в начальниках?
I stal sparachnieje ŭščent,
A my tut byli, i my tut budziem,
Pakul isnuje hety śviet.
#174

 Опубликовано 10 Май 2019 - 13:05
Опубликовано 10 Май 2019 - 13:05

Основные потери это те, кто в 1941 году проходил службу или в первые дни после нападения успел быть мобилизован в Красную Армию, голод, холокост, карательные операции немцев и партизан, вывоз на работы в Германию и немецкая мобилизация в коллаборационистские формирования, потом ещё одна массовая советская мобилизация 1944 года чуть ли не прямо с печи на фронт (типа и так всю войню просидели, пока другие отдувались).
Потери Красной Армии в первые дни войны и потери среди мирного населения республики в первые дни войны это разные вещи. Наоборот, в той же Бресткой крепости сидели подразделения сформированные в РСФСР и укомплектованные с большего там же, потому что местным не доверяли.
Для крестьян, как основной массы населения, первые дни были ещё цветочками. Ягодки ещё впереди. Вот эти ягодки, действительно выводят на первое место. Что там такого "преподают в российской системе образования" про это мне неизвестно, но почитал бы. Вдруг проспал срыв покровов.
I stal sparachnieje ŭščent,
A my tut byli, i my tut budziem,
Pakul isnuje hety śviet.
#175

 Опубликовано 10 Май 2019 - 15:14
Опубликовано 10 Май 2019 - 15:14

Я в техническом вузе учился, а потому история как хобби и не более была.
Помню это со школы и от преподов.
Но знаю это и по родной дедов кой деревне, откуда помешал статью на БС про Поплавский лес.
Но прадед мой это все как-то пережил без эвакуации.
#176

 Опубликовано 10 Май 2019 - 15:27
Опубликовано 10 Май 2019 - 15:27

В первые дни досталось Красной Армии. Вся же гражданская мемуаристика это что-то типа "пришли первые немцы, помылись, спросили остались ли коммунисты, взяли яиц и сала, и пошли дальше".
Карать было особо не за что, крестьянство это материальная база, советская партизанка и подполье не были налажены. Массовое насилие в отношении гражданского населения это уже познее.
I stal sparachnieje ŭščent,
A my tut byli, i my tut budziem,
Pakul isnuje hety śviet.
#178

 Опубликовано 10 Май 2019 - 15:35
Опубликовано 10 Май 2019 - 15:35

Количество сожжёных деревень согласно статистике Национального архива РБ:
1941 - 240
1942 - 979
1943 - 4317
1944 - 1389
Ясно. Просто такое бытует мнение даже, что якобы беларусов чуть ли не в половину в ВОВ сократилось из-за вывоза и уничтожения.
Сократилось, демографические потери просто катастрофические во всех смыслах, но точно не в 1941. Чем хуже было немцам на войне, чем активней были партизаны, тем хуже было и крестьянам на оккупированых землях, как своего рода заложникам ситуации и чужих разборок.
Не дашь еды партизанам - возможно они тебя убьют, отдашь - убьют немцы, если узнают.
I stal sparachnieje ŭščent,
A my tut byli, i my tut budziem,
Pakul isnuje hety śviet.
#179

 Опубликовано 10 Май 2019 - 16:19
Опубликовано 10 Май 2019 - 16:19

Но знаю это и по родной дедов кой деревне, откуда помешал статью на БС про Поплавский лес.
Но прадед мой это все как-то пережил без эвакуации.
Мой прадед был мобилизован в первые дни войны, т.к. работал на заводе, попал в плен в августе и умер в немецком концлагере в Германии. Его кузены, которые остались дома все пережили войну. Другой 75-летний прапрадед был избит красными партизанами за отказ отдать коня, в конце марта 1944, перед посевной, за несколько месяцев до конца немецкой оккупации. Коня всё равно забрали, прапрадед через несколько дней умер.
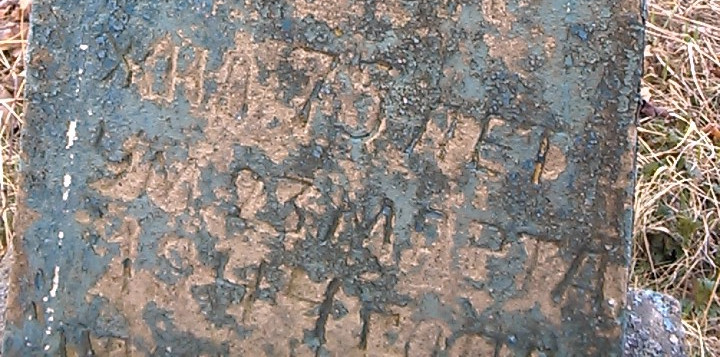
Вот тут я постил, как люди хоть крестами старались себя уберечь: https://www.balto-sl...e=4#entry314143
I stal sparachnieje ŭščent,
A my tut byli, i my tut budziem,
Pakul isnuje hety śviet.
Ответить в эту тему

Посетителей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться


 Наверх
Наверх Ответить
Ответить Цитировать
Цитировать










