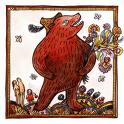И. В. Манзура (Университет «Высшая антропологическая школа», Кишинев) ingvarmnsr6@gmail.com
ФАНТОМ МИГРАЦИЙ В ПОЗДНЕЙ ПРЕИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (V–III ТЫС. ДО Н. Э.)
За последние годы миграционная концепция в исследованиях по энеолиту и раннему бронзовому веку Европы приобрела размах, сопоставимый с уровнем 70–80-х гг. прошлого века. На археологических картах вновь увлеченно проводятся маршруты протяженных перемещений племен и народов, соединяющие Волго-Уральский регион и Предкавказье с отдаленными пространствами Юго-Восточной и Центральной Европы. Как одно из следствий этого миграционного «ренессанса» возобновились оживленные споры о творческом наследии Марии Гимбутас, наиболее последовательно отстаивавшей идеи о значимости внешних воздействий на культурные изменения на различных европейских территориях. В литературе обсуждаются количество миграционных волн, их характер, направление и последствия в тех или иных регионах. Одним из основных стимулов, обусловивших возросший интерес к миграционным интерпретационным моделям, безусловно, можно считать достаточно интенсивные палеогенетические исследования, позволяющие проследить связь между отдаленными областями Европы на уровне отдельных индивидов или их групп. 22 Нетрудно заметить, что в некоторых эпизодах выводы, основанные на естественно-научных методах, противоречат результатам традиционных археологических построений, что вносит определенную сумятицу в наше понимание культурно-исторических процессов древности. В связи с этим интересно установить, в каких случаях сочетание археологических и естественно-научных исследований способно подтвердить или, наоборот, опровергнуть перемещения носителей различных культурных традиций, когда мы сталкиваемся, скорее, со своего рода иллюзией предполагаемых миграций, их фантомом. Выявить такие случаи можно по нескольким хронологическим срезам, начиная с середины V и заканчивая началом III тыс. до н. э. Согласно концепции М. Гимбутас, первая значительная миграционная волна, направленная из ареала хвалынско-среднестоговской культурно-исторической области, приходится на вторую половину V тыс. до н. э. Важнейшим результатом этой волны явилось разрушение процветающих раннеземледельческих культур Карпато-Балканского региона. Вместе с тем обращает на себя внимание крайне незначительное число свидетельств постулируемого вторжения, к тому же весьма спорного характера. В данном случае мы действительно сталкиваемся с ситуацией, когда культурный коллапс, по крайней мере, на Восточных Балканах, сопровождается минимальными и крайне изолированными признаками внешнего воздействия. Более того, именно в это время наблюдается ощутимое влияние из области земледельческих культур в степной зоне, выраженное в импорте вещей и сырья, в области технологий, в социальной и даже идеологической сфере. Такое влияние осуществлялось, прежде всего, посредством протяженных обменных цепочек, а не вследствие каких-либо миграций, хотя присутствие каких-то выходцев из земледельческой среды также не исключается. В дополнение к этому, как показывают анализы ДНК энеолитического населения на Балканах, его генетический профиль вполне соответствует местным неолитическим популяциям, восходящим к древним земледельцам Малой Азии, при практически полном отсутствии индивидов из восточно-европейских степей. В конце V и первой четверти IV тыс. до н. э. в Азово-Черноморском регионе и на Восточных Балканах отмечается период латентного развития, обозначаемый как «степной хиатус» (по Ю. Я. Рассамакину) и «балканские темные века». Возникшие затем в степи образования позднего энеолита отличаются значительным разнообразием материальной культуры и обрядовых традиций, тогда как балканские объединения этого времени во многом демонстрируют возрождение прежних энеолитических стандартов, хотя и сильно трансформированных. При этом носители балканской культуры Чернавода I, памятники которой распространены в Северо-Западном Причерноморье, по своим генетическим признакам обнаруживают устойчивую связь с предшествующим балканским населением. Таким образом, на данном хронологическом отрезке совокупные показатели археологии и палеогенетики свидетельствуют об отсутствии каких-то значительных перемещений древнего населения. В середине IV тыс. до н. э., по мнению М. Гимбутас, новая миграционная волна, зародившаяся в ареале майкопской культуры на Северном Кавказе, вызвала очередную культурную трансформацию в Юго-Восточной Европе, что, в частности, выразилось в появлении усатовской культуры и культурного блока Болераз-Чернавода III. При нынешнем уровне наших знаний вряд ли можно заподозрить какую-либо связь между блоком Болераз-Чернавода III и майкопской культурой, поскольку эти объединения различны буквально по всем параметрам. Определенное структурное сходство между усатовской и майкопской культурой, заметное, в сущности, лишь на уровне обрядовых признаков, также не позволяет предполагать их родство. Можно считать установленным, что формирование усатовской культуры происходило на основе балканской культуры Чернавода I при существенном участии позднетрипольской культуры и, скорее всего, традиций типа Болераз-Чернавода III. В среде носителей усатовской культуры, за одним исключением, отсутствуют гаплогруппы, характерные для степных скотоводов и древних обитателей Предкавказья. В силу этого данный миграционный эпизод вряд ли имел место в начале бронзового века Восточной и Юго-Восточной Европы, если судить по результатам археологических и палеогенетических изысканий. Вместе с тем широкомасштабные миграционные процессы, на которые до недавнего времени не обращали особого внимания, можно предполагать в последней четверти IV тыс. до н. э. В этот период от степей Предкавказья до Северных Балкан распространяется своеобразная серия погребальных комплексов, обозначаемых как тип Животиловка-Волчанск, 23 по Ю. Я. Рассамакину. Главным отличительным признаком этой группы памятников является на редкость унифицированный погребальный обряд и крайне разнообразный инвентарь, сочетающий элементы майкопской, усатовской и позднетрипольской культур, причем иногда в рамках одного погребального комплекса. Именно для данного времени чрезвычайно трудно провести рубежи между различными территориальными группами, что резко контрастирует с предшествующим периодом с его четко очерченными культурными границами. К сожалению, палеогенетические исследования для этого типа памятников пока не проводились, хотя по археологическим данным можно вполне допустить активные передвижения населения как в западном, так и в восточном направлении. В самом конце IV и начале III тыс. до н. э. произошла, по-видимому, действительно массовая миграция населения, связанного с ямной культурой. Палеогенетические исследования на территории Северо-Западного Причерноморья, Нижнего Подунавья и Восточной Фракии однозначно указывают на присутствие значительного количества восточного населения в этих регионах. Однако с позиций археологии мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией, рассматривая ее в сравнении с событиями раннего энеолита. Если в V тысячелетии исчезновение развитых земледельческих культур сопровождалось, по сути, эфемерными признаками возможной миграции, то в начале III тыс., несмотря на многочисленные свидетельства проникновения носителей ямных традиций, местное культурное развитие в Юго-Восточной Европе не прервалось, что однозначно демонстрируют исследования на территории Румынии, Болгарии, Сербии и Венгрии. Наличие ямной культуры на этих территориях выглядит неким эпизодом, который никак не сказался на процессах культурной трансформации на этих территориях, основывавшихся на локальных традициях. Еще более удивительной выглядит ситуация далее к северу, в Богемии и на равнинах Польши и Германии. Здесь в начале III тыс. возникает культура шнуровой керамики, знаменуя своим появлением очевидный культурный разрыв с предшествующими традициями. Некоторые генетики утверждают, что данный феномен сформировался на основе ямной культуры, но последняя на территории Центральной Европы, в общем, отсутствует, да и археологически связь между этими культурами выглядит довольно проблематичной. По всей видимости, в данном случае мы имеем дело не с реальной миграцией, а лишь с ее фантомом, вызванным к жизни недостаточно критической интерпретацией палеогенетических свидетельств. Это, конечно же, не означает вероятности присутствия в ареале культуры шнуровой керамики каких-то индивидов, связанных с ямной культурой, но истоки этого явления, по-видимому, следует искать в иной культурной среде.
Энеолит и бронзовый век Циркумпонтийского региона: культурные процессы и взаимодействия (к 100-летию со дня рождения Н. Я. Мерперта). Тезисы докладов конференции. – М.: ИА РАН, 2022
Манзура, конечно, хитер. Там, где палеогенетика подтвердила отсутствие миграций он ее хвалит, а там, где палеогенетика подтвердила присутствие миграции он говорит, что это "недостаточно критичная интерпретация". 
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться




 Наверх
Наверх