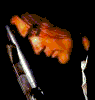Это - Ваши личные домыслы. А где фактические аргументы? Парламент? Есть и в России и в Британии. Суд? Есть и там и тут. Университеты, общества филателистов, зеленые и муниципальные органы власти есть и там и тут. Попробуйте доказать, что в Британии эти институты носят этнический характер, а в России - нет?
Мы сейчас рассматриваем проблему в исторической перспективе, поэтому нужно рассуждать не абстрактно и в общем, а указывать, о каком конкретно историческом периоде идёт речь. Я уже говорил не один раз, что современный Запад сильно отличается от Запада эпохи Нового времени.
Прежде всего, нужно иметь в виду, что по общепринятому мнению современные европейские нации сформировались в эпоху буржуазных революций. Установление буржуазного строя сопровождалось всплеском национализма, расцветом национального чувства во всех его аспектах и проявлениях. В России же не было ни буржуазной революции, ни капитализма с таким его политическим атрибутом как национальное государство. Уже одно только это весьма компрометирует попытки уподобления этнических процессов, протекавших в России, этническим процессам, протекавшим на Западе. В частности, сложно говорить о парламенте, о суде, о местном самоуправлении как институтах, которые успешно функционируют в России. По большому счёту, этих институтов в России нет, и под их вывеской существуют структуры авторитарной власти.
Что касается конкретно Англии, то многие исследователи подчеркивают важнейшую историческую миссию парламента как центра, способствовавшего формированию единого английского языка, культуры и политическому сплочению нации.
«Тема патриотизма, национального своеобразия Англии неизменно присутствовала в парламентской риторике. В «оркестровке» отдельных сессий она могла распадаться на несколько самостоятельных мотивов, которые в итоге сливались в мощный гимн, прославлявший исключительность богоизбранной английской нации. Тексты церемониальных речей и записи дебатов позволяют выделить в парламентской риторике мотив, непосредственно связанный с национальной идентификацией. Это тезис об уникальности английской политической системы, представлявшей в глазах парламентариев идеальное воплощение так называемой «смешанной монархии». Спикеры эксплуатировали тему национальной исключительности англичан, привилегией которых было самим творить законы, которым впоследствии им придётся подчиняться. Одним из постоянных мотивов, звучавших в официальных парламентских речах, была тема свобод, присущих англичанам в большей степени, чем другим народам. Концепция свободы трактовалась весьма широко, она подразумевала право безбоязненно исповедовать истинную веру, право владеть собственностью, защищённое от любых посягательств, а также могла включать комплекс политических свобод, в том числе парламентских привилегий, таких как свобода слова и свобода депутатов от ареста. Симптоматично, что технические привилегии, дарованные парламентариям, трактовались спикерами в расширительном смысле, как с вобода всех подданных королевы, которых депутаты представляли в парламенте. Лексика «рабства» и «свободы», мрачные образы, призванные мобилизовать депутатов на защиту свободы высказываться, были явными симптомами того, что корпоративные представления о парламентской привилегии могли постепенно трансформироваться в политический миф о свободах всей английской нации».
Самоидентификация английской нации в парламентских дебатах второй половины XVI – начала XVII в. // Этносы и «нации» в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время. СПб., 2015. С. 161-179.
Другой важный нюанс – деятельность интеллигенции. Рассматривается, например, в работе Джеральда Ньюмана «The Rise of English Nationalism: A Cultural History, 1740-1830». Его тезис состоит в основном в следующем: Национализм в Англии основывался на атаке против феодализма, против прежнего социального порядка, в котором поощрялась и высоко ценилась космополитичная культура франкофильской аристократии. Французская культура использовалась для исключения низших классов из управления государством, и это вызывало сопротивление в массах. Патриотизм был механизмом, через который низшие классы демонстрировали свою привязанность к местной культуре, которую они создали в качестве альтернативы космополитической культуре элит. Но сопротивление никогда бы не было успешным, если бы художники, интеллектуалы и писатели не внесли в него свой вклад, превознося ценность английской культуры. Они сыграли колоссальную роль, поскольку пропагандируя национальные ценности, они мобилизовали нацию против культурного вторжения чужаков. Ньюман даёт эскиз эволюции английской элиты, которая являла собой резкий контраст массам в начале 18-го века, а затем трансформировалась в националистическую группу и слилась с низшими классами. Французская революция привела к возникновению националистической идеологии сначала во Франции, а затем и в других частях Европы. Английская аристократия, которая была франкофильской до революции, пребывала в поисках новой идентичности; всё, что ассоциировалось с Францией, стало неприемлемо. В итоге она пришла к выводу, что на самом деле принадлежит к английской нации. По мнению Ньюмана, интеллектуалы, художники и т.п. сыграли первостепенную роль в процессе выработки комплексной культурной идентичности англичанина. Их роль была двоякой: во-первых, они критиковали и иногда протестовали против космополитического мироощущения аристократов. Это способствовало трансформации мировоззрения элиты. Во-вторых, низшие классы узнали от них, что именно они, а не аристократы, являются людьми, по-настоящему репрезентующими английский характер.
Ничего подобного, опять же, не было в России. Российская интеллигенция не была национально ориентирована. Я уже об этом писал не один раз.
Сергей Сергеев. Была ли в Российской империи русская нация?"Кричащий разрыв между высоким уровнем образования и низким социальным статусом вызывал негатив по отношению к наличному обществу и государству. Неудивительно, что определяющим идеологическим и нравственно-психологическим интеллигентским трендом стало — в разных вариациях — резкое и практически тотальное неприятие правящего режима и всех его действий, по сути, холодная (а иногда и «горячая») война против него.
Этой «военной» психологией объясняется тот зашкаливающий уровень нетерпимости к инакомыслящим, который отмечали многие современники в интеллигентской среде. Там подвергались остракизму не только интеллектуалы, недвусмысленно поставившие свои знания и способности на службу самодержавию, но и всякий, кто в указанном тренде хотя бы усомнился или попытался критически отнестись к тем или иным догматам освободительного движения. «Если ты не с нами, так ты подлец!» — такую довольно точную формулу «либерального деспотизма» вывели его оппоненты. В определенном смысле неофициальная интеллигентская «цензура» была не менее свирепой, чем правительственная, являясь, по сути, зеркальным отражением последней, так же как вообще интеллигентская нетерпимость «зеркалит» самодержавный произвол. Более того, это касается самой культуры интеллигентского мышления, пронизанного безответственным утопизмом, о чем остроумно написал в дневнике В.О. Ключевский: «Русский мыслящий человек мыслит, как русский царь правит; последний при каждом столкновении с неприятным законом говорит: “Я выше закона”, и отвергает старый закон, не улаживая столкновения. Русский мыслящий человек при встрече с вопросом, не поддающимся его привычным воззрениям, но возбуждаемый логикой, здравым смыслом, говорит: “Я выше логики” и отвергает самый вопрос, не разрешая его. Произволу власти соответствует произвол мысли».
Указанной «военной» психологией объясняется и то, что интеллигенция в подавляющем большинстве стала видеть естественных союзников в своем противостоянии самодержавию в нерусских народах империи, борющихся за свои права, и потому отрицательно относилась к теории и практике русификации империи, к идее русского доминирования как таковой, проповедуя и практикуя последовательный интернационализм.
Таким образом, тот слой, который в большинстве европейских стран вырабатывал националистический дискурс и нес его «в народ», в случае России сосредоточился почти исключительно на требованиях социальной справедливости, надеясь найти отклик своим радикально эгалитаристским лозунгам в крестьянской общинной архаике, воспринимаемой интеллигентами как зародыш русского социализма. Первая попытка оказалась провальной: крестьяне вязали агитаторов и сдавали их полиции, но проидет немногим более двух десятилетий, и вроде бы абсолютно беспочвенные «цюрихские беглые» обретут под ногами твердую почву."
Сообщение изменено: альбинос в черном, 29 Апрель 2016 - 18:30.
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться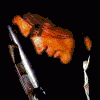




 Наверх
Наверх