Войти Создать учётную запись

Новые публикации по славянской мифологии
#1

 Опубликовано 22 Январь 2017 - 10:00
Опубликовано 22 Январь 2017 - 10:00

Кутарев О.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА РОДА И РОЖАНИЦ В СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ: ИНТЕРПРЕТАЦИИ Б.А. РЫБАКОВА И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ
Аннотация. Научное изучение таких персонажей славянской мифологии, как Род и Рожаницы насчитывает уже более 150 лет. Кажется, за такой период вполне должно было сложиться и распространиться правильное представление о них. Однако соответствует ли истине наиболее часто встречаемый сегодня подход, предложенный в 1980-е гг. академиком Б.А. Рыбаковым, массово поддержанный значительными кругами неоязычников? Анализируя древнерусские источники, фольклор и исследования предшествующих Рыбакову учёных, автор пытается ответить на этот вопрос, рассматривая выводы известного академика относительно Рода и Рожаниц.
Ключевые слова: Род и Рожаницы, славянская мифология, русское неоязычество, Б.А. Рыбаков, «Язычество древних славян», родноверие.
Крупнейшим в России славянским неоязыческим течением является родноверие. Несмотря на порой весьма значительные различия в родноверческих общинах, которые могут выражаться как в отношении к текстовым источникам, так и к пантеону, обрядам, духовным практикам, существуют принципы, единые практически для всех родноверов. Прежде всего это их опора в привлечении научных источников на работы Бориса Александровича Рыбакова (1908-2001), академика и крупного исследователя язычества древних славян и Древней Руси.
Между тем в научной славистике творчество Б.А. Рыбакова уже с выхода его основных работ[1] было воспринято с большой осторожностью. Со временем появилось множество критических замечаний; несомненной заслугой учёного перед наукой были признаны лишь освоение и систематизация значительного археологического, этнографического и т.д. материала[2], а также его критические исследования таких поздних подделок как, например, «Велесова книга»[3]. Однако для родноверов именно выводы главных трудов Рыбакова имели решающее значение. Совпадение времени распространения и получения известности его работ с распадом СССР создало ситуацию, при которой главным источником многих первых неоязыческих течений, возникавших как раз в этот период[4], стали основные труды академика Рыбакова.
[С. 171]
Одним из важнейших вопросов, в которых выводы Бориса Александровича не нашли поддержки в научном мире, является реконструкция славянского пантеона. При этом его весьма спорные, а подчас и вовсе противоречащие предшествующей и последующей науке выводы ложатся в основу родноверческих верований. В данной статье это будет рассмотрено на примере подхода Рыбакова к Роду и Рожаницам, персонажам славянской мифологии, исследования которых производились ещё с середины XIX века. Взгляды Рыбакова попробуем рассмотреть на фоне предшествующих ему исследований (не затрагивая более поздних), стараясь выявить их основания. Заметим, что если рассматривать и последующие работы, то в них обнаружится целый ряд критических мнений о выводах академика; но нас интересует не обзор критической литературы, а то, чем отличались представления Рыбакова от выводов его предшественников (и многих учёных после него), и каковы основания таких его взглядов. Выделив различные взгляды на проблему и выявив между ними различия, постараемся по возможности определить, какой из взглядов наиболее обоснован.
* * *
Впервые Род и Рожаницы упоминаются в древнерусских текстах (хотя многими отмечается возможное заимствование фрагментов этих текстов у южных славян)[5]. Самыми старыми из них общепризнанно (в том числе и Рыбаковым) считаются «Слово некоего христолюбца» и «Слово об идолах»[6], представляющие собой поучения против язычества и относящиеся разными исследователями[7] к XI–XIV вв. Они сходным образом упоминают Рода и Рожаниц, например, в «Слове об идолах»: «…требу кладёт и творит и славянский народ – Вилам, Мокоши, Диве, Перуну, Хорсу, Роду и Рожаницам»[8]. В течение последующих столетий на Руси появляется несколько других текстов, упоминающих этих персонажей славянской мифологии. Но такие поучения почти не добавляют никаких новых данных о сущности Рода и Рожаниц; по сути, они лишь воспроизводят то, что уже известно[9] по этим двум «Словам»: что Роду и Рожаницам приносили в жертву пищу и почитали их наряду с другими языческими персонажами – божествами, Вилами и т. д., иногда лишь позволяя себе весьма неумело сравнить их с божествами из других мифологий (семитской, египетской, греческой). Среди древних памятников, упоминающих о Роде, выделяется лишь один, сообщающий оригинальную информацию. Это комментарий к Евангелию XV в. под названием «О вдуновенiи духа в человѣка», сообщающий: «Вдуновение бессмертное нестареющее единый производит вседержитель, который один бессмертен и непогибающих творец <…>; это не Род, сидя на воздухе, мечет на землю груды, и в том рождаются дети <…>. Всем Творец Бог, а не Род»[10]. Таким образом, этот текст указывает на ошибочность (с точки зрения христианства) языческого представления о том, что Род порождает души, которые он посылает с «воздуха» вниз с «грудами», т.е., по мнению Рыбакова (многими исследователями разделённому), с каплями дождя[11].
Другой пласт интересующих нас сведений в средневековых текстах касается связи данных персонажей с астрологией[12] (которую переводили словом «рожествословие»[13]) и судьбой. В том же «Слове об идолах» в одном ряду стоит «халдѣйскаiа астрономиiа и родопочитание»[14]; и вообще, как убедительно показывает В. Й. Мансикка, «известен ряд случаев, когда греческие слова τύχη и είμαρμένη (дословно «судьба» и «рок, фатум, обречённость» – О.К.) переводились словами «род» и «роженици»; словом «рожаници», кроме того, часто передавали равносильные им γένεσις и γενεαλογία (дословно с греч. «происхождение, зарождение» и «родословная» – О.К.)»; «вместо действительно существовавших славянских «идолов» в роде и роженицах, <…> быть может, правильнее видеть чисто филологическое явление, попытку передать τύχη, fortuna, понятие
[С. 172]
судьбы на славянском языке»[15] – во всяком случае, иногда мы можем это утверждать наверняка. Рода и Рожаниц почитали на другой день после Рождества[16] и Рождества Богородицы[17], причём в течение нескольких веков выходили поучения, осуждающие приношения каш и различной выпечки в этот день, посвящённые Рожаницам[18]. По сути, это все прямые данные, которые можно почерпнуть из древнерусских текстов. Стоит подчеркнуть, что Род и Рожаницы известны только по текстам, осуждающим двоеверие, и нет никаких упоминаний об их идолах, о клятвах ими и т.п., что отмечает и сам Рыбаков[19].
Дополнительные сведения доносит до нас фольклор, причём не только восточных и южных, но даже, хотя и в меньшей степени, западных славян. Ян Махал пишет о Рожаницах в славянском мире: «Их также называли Судицы («дающие судьбу»), Судженицы, Суженицы (хорватск.), Соженицы, Суженицы (словенск.), Суджженици (болгарск.) или Судички (чешск.). Болгары имеют свои собственные названия для них, а именно: Наречницы (нарок, «судьба»), или они зовут их Орисницы, Урисницы, Уресицы»[20], сходны с ними русские Доля и Удельницы и сербская Среча[21], также – Живицы, Деклицы и т.д.; таким образом, их почитание предстаёт «одним из остатков древности общеславянской»[22]. Согласно фольклорным источникам, известно, что это женщины, часто одетые в белое, иногда со свечами в руках и венками на головах, а «чехи верят, что после того, как нашлют глубокий сон на родившую женщину, Богини судьбы кладут ребёнка на стол и решают его судьбу. Обычно являются три Богини, и третья и самая старшая из них – самая могущественная; но упоминаются также одна, четыре, пять, семь или девять, с повелительницей во главе[23]. Их решения часто противоречат друг другу, но что скажет последняя, то и сбудется. Основные вопросы, которые они решают, как долго ребёнок будет жить, будет ли он богатым или бедным и что будет причиной его смерти. Согласно широко распространённому поверью, первая прядёт, вторая отмеряет, а третья обрезает нить, чья длина означает длительность жизни новорождённого»[24]. Подобное представление, известное славянскому народному творчеству (ср. у Пушкина «Три девицы под окном / Пряли поздно вечерком..»[25]), имеет явную параллель в индоевропейской мифологии. Богинями судьбы у германцев являются три «норны, те, что приходят ко всякому младенцу, родившемуся на свет, и наделяют его судьбою»[26]. Тот же архетип обнаруживают римские парки и их аналоги – греческие мойры, о которых Гесиод пишет, что их три, что «людям определяют они при рожденье несчастье и счастье»[27], и о которых также есть представление как о пряхах. При этом роль Рожаниц связана не только с судьбой: они являются также и предками, олицетворяющими прародительниц и дающими особое покровительство женщинам. Это представление также имеет аналоги: «подобным образом римские юноны (защитницы женщин) были первоначально душами умерших, а идизы скандинавской мифологии – духами умерших матерей, которые стали распорядительницами судьбы»[28]. Таким образом, присоединилось «со временем в сознании обличителей к основному астрологическому значению рода и рождениц и понятие умерших предков, культ которых имел чрезвычайно большое распространение среди славян <…>: род и рожденицы казались обличителю идентичными с умершими родственниками»[29]. В этой связи стоит отметить немалое сходство в почитании таких персонажей как Род, Домовой и, например, болгарский Стопан – всем им приносились в жертву трапезы, все они считались распорядителями судеб своих потомков, и в почитании всех их можно без труда найти (а в случае Рода – справедливо предположить) образ умершего предка[30].
Подведём первые итоги. Род и Рожаницы предстают, прежде всего, олицетворением судьбы, при этом Род, вероятно, в языческих представлениях давал людям душу, а Рожаницы – судьбу. Кроме того, им ставится
[С. 173]
трапеза и выказывается соответствующее уважение; таким образом, Род – это совокупность предков, обожествлённый род человека, и создатель души.
Теперь, рассмотрев вкратце сведения, которые предоставляют нам старые тексты и фольклор, исследуем представление о Роде и Рожаницах у Рыбакова. Он пишет о них довольно много и посвящает только им почти две главы (из десяти) в «Язычестве древних славян»[31]. Справедливо его цитирование Гальковского, который утверждал, что вопрос Рода и Рожаниц является одним из наиболее запутанных и сложных, однако странно, что, выделяя общие тенденции в его изучении, он замечает лишь подход к Роду как к Домовому (полное тождество которых он справедливо отрицает[32]), почему-то не пытаясь проанализировать, скажем, мнение В.Л. Комаровича, что «Род – совокупность предков данной семьи»[33], – Рыбаков критикует совсем иные его положения[34]. Подвергая критике замечание, что Рожаниц сближали с астрологией, и отмечая, что в данном случае мы имеем дело с омонимом, Рыбаков, тем не менее, даже не допускает мысли, будто подобное свойство могло быть одним из атрибутов Рожаниц, этой омонимией лишь подтверждающееся[35].
Одним из основных аргументов Рыбакова в пользу понимания «Рода как значительного славянского божества»[36] является пресловутая «периодизация» автора «Слова об идолах», которая сообщает, что «славяне начали трапезу ставить Роду и Рожаницам, прежде Перуна, бога их. А прежде того клали требы упырям и берегиням»[37]. Из этой на самом деле ничем не примечательной фразы, которая в «Слове об идолах» не получает никакого развития, Рыбаков делает довольно значительные выводы. Так, он выстраивает картину, по которой им чётко обозначаются исторические периоды, социальные формации, технологические достижения. Доверившись одной лишь фразе, Рыбаков начинает исследовать материал уже только в тех её пределах, какие только что сам обрисовал, забыв и о том, что есть иные источники, и о том, что к самой этой «периодизации» нужно вначале подойти критически. Между тем уже за несколько десятилетий до этого Е.В. Аничков практически бесспорно доказал, что признанная самим же Рыбаковым пестрота и мозаичность текста[38] объясняются обилием вставок и позднейших дополнений[39]. Но Рыбаков продолжает видеть внутреннюю логику сквозь «незавершённость, как бы черновой вид “Слова”»[40]. Он сразу же понимает из этих строк, что упырям и берегиням поклонялись именно в эпоху мезолита и неолита, что это были олицетворяющие соответственно зло и добро начала, хотя тут же признаёт, что у нас почти нет даже близких нам по времени данных об этих существах. Что же касается мезолита, то к нему рано применять даже праиндоевропейскую религию[41], и самые её основы известны нам плохо. Но Рыбаков продолжает развивать свою идею в I и VIII главах «Язычества древних славян», не особенно привлекая по теме хоть какие-нибудь источники. То же касается и Рода, доминирующего, по мнению Рыбакова, божества в период перехода «от присваивающего хозяйства к производящему»[42], т.е. от начала неолита до почти исторического времени, когда только, по мнению Рыбакова, и утвердился главным богом Перун. Между тем уже Прокопий Кесарийский в первой половине VI в. отмечает: славяне «считают, что один только бог, творец молнии, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды»[43]. Однако Рыбаков скорее считает творцом молнии не Перуна, а Рода; он выдвигает и множество других оригинальных – но оправданных ли? – предположений, вместо доказательств лишь добавляя, что так «могло быть». В итоге Рыбаков приходит-таки к выводу, что Род – божество «Вселенной, всей природы и плодородия», а Рожаницы занимают то же место, которое в греческой мифологии занимали покорные Зевсу мойры. При этом Рожаниц только две, поскольку
[С. 174]
лишь такой пример автор сумел отыскать в известных ему археологических материалах[44]. Чтобы подтвердить факт важности Рода, Рыбаков замечает, что монотеистическое христианство противопоставляло ему единого Бога. Но кого ещё, кроме единого Бога, могло противопоставить любому языческому божеству христианство?
Достойно уважения то, что в отличие от многих иных авторов Рыбаков уделяет большее внимание именно Роду, а не Рожаницам, несмотря на то, что Род, по сути, неизвестен из фольклорных и этнографических материалов, что делает этот материал более сложным для заключений. Но выводы Рыбакова крайне спорны. Академик говорит, что важную роль в объяснении свойств и функций Рода может сыграть «разветвлённый комплекс древнерусских слов, содержащих корень “род”»[45], но при этом ассоциирует его с водой, природой, красным цветом и даже шаровыми молниями, так и не приходя к самому очевидному выводу – что Род мог быть богом… рода. Так Рыбакову было бы ещё логичнее подойти к справедливому выводу, что Род – также и Родитель. Весьма сомнительно его заключение относительно связи символики 6-спицевого колеса с Родом – по сути, он не приводит ни одного довода в пользу этого, кроме того, что данный символ относился к свету и главному божеству, которым в ходе очередной спекуляции Рыбакова стал вдруг Род. Столь же необоснованным выглядит и сопоставление «главного» восточнославянского бога Рода с главным божеством западнославянского полабского племени руян Свянтовитом, которого академик рассматривает не на основании текстов Гельмольда и Саксона Грамматика, достоверно описавших его почитание[46], а опираясь на собственные трактовки знаменитого Збручского идола. Что касается Збручского идола, то даже и его соотнесение со Свянтовитом не является доказанным, с чем соглашается и сам Рыбаков[47], не говоря уже о том, чтобы сближать его с Родом. Тем не менее несколько страниц Рыбаков посвящает изучению этого (возможно, неславянского или даже поддельного[48]) идола в качестве Рода.
Обращаясь к иным идолам, Рыбаков говорит уже о Рожаницах, настаивая на своём мнении, что их было две, хотя фольклор показывает разное их количество и доминирующим вариантом является тройка. В итоге академик называет Рожаницами распространённый тип двойного идола, не обращая внимания на то, что у этих «Рожаниц» есть усы[49]. В качестве доказательства их двойственности академик ссылается лишь на сибирские и греческие мифы, едва ли на самом деле могущие содержать сведения о Роде и Рожаницах. Единственным здравым предположением, впрочем, также требующим дальнейших исследований, является мысль о том, что культ Рода и Рожаниц мог иметь, кроме прочего, и аграрную сущность[50]. Весьма сомнительно также мнение Бориса Александровича относительно идентификации Рожаниц как богинь Лады, Лели и т. д.[51].
Усы
Возникает справедливый вопрос: если Род был главным божеством славян, то почему, даже если и можно объяснить исключительностью его свойств отсутствие ему идолов, он нигде не был упомянут как главный? Почему он упомянут только в русских источниках? Почему молчат о нём летописи, почему его вовсе нет в фольклоре (в отличие от Рожаниц), почему он не упомянут ни в каких внешних источниках, как тот же Перун, почему не видно его проявлений в культе христианских святых или, наоборот, в поздней демонологии?
Как мы видим, Рыбаков абсолютизирует Рода и возвышает до него Рожаниц; если его взгляды на Рожаниц не столь далеки от принятых, то возвышение Рода как минимум беспочвенно. Рыбаков расходится и с научным большинством, и с довольно очевидными данными фольклора.
На представление о Роде и Рожаницах как о распорядителях судеб и вместе с тем как на олицетворение предков и всего рода указывает значительное число авторов, начиная с самых ранних исследований, – напри-
[С. 175]
мер, И.И. Срезневского 1855 г.[52] (в то время как в 1850-е и началось их научное изучение)[53]. До Рыбакова по данному вопросу подобное мнение высказывали, например, А.Н. Веселовский[54], А.Н. Соболев[55], Ян Махал[56], Е.В. Аничков[57], В.Л. Комарович[58], М. Гимбутас[59] и др. Из учёных, писавших об этом позже, можно отметить, например. В.В. Иванова и В.Н. Топорова[60], В.Я. Петрухина[61], Л.С. Клейна[62].
Напоследок стоит сделать оговорку, что, хотя Прокопий Кесарийский писал, что «судьбы они (славяне – О.К.) не знают и вообще не признают», он затем сам же отмечает, что они «производят и гадания»[63]. И как мы видим теперь, «не без смысла, конечно, Прокопий заметил, что славяне судьбы не признают, а признают благость и силу Провидения Божьего»[64], что судьба у них не является слепой и механической, а олицетворена некими божествами, а именно Родом и Рожаницами, чего так и не признал Рыбаков, выстроивший оригинальную, но в целом безосновательную теорию о Роде как абсолютном и высшем боге славянского язычества.
Библиографический список
Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь. – М., 2009.
Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха. Гл. XIII. Судьба-Доля в народных представлениях славян // Отделение русского языка и словесности. – СПб. – 1890. – Т. 46. – № 6. – С. 172–261.
Гайдуков А.В. Легитимность славянского неоязычества: особенности взаимоотношения с государственной властью // Герценовские чтения: Актуальные проблемы социальных наук. – СПб., 2004. – С. 274–278.
Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. – М., 2013.
Зубов Н.И. Научные фантомы славянского Олимпа // Живая старина. – М., 1995. – № 3 (7). – С. 46-48.
Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. – СПб, 2004.
Комарович В.Л. Культ Рода и земли в княжеской среде XI-XIII вв. // Труды отдела древнерусской литературы. – Т. XVI. – Л., 1960. – С. 84–104.
Мансикка В.Й. Религия восточных славян. – М., 2005.
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981.
Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М., 1987.
Славянская мифология. Энциклопедический словарь. – М., 1995.
Срезневский И.И. Роженицы у славян и других языческих народов. – М., 1855.
Что думают учёные о «Велесовой книге» / Сост. О.В. Творогов, А.А. Алексеев. – СПб., 2004.
Máchal J. Slavic Mythology // Mythology of all races. – Vol. III. Celtic and Slavic Mythology. / ed. by L.H. Gray. – Boston, 1918. – P. 215–330.
__________________
1 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981; Его же: Язычество Древней Руси. – М., 1987. Данные работы вышли огромными тиражами и имеют переиздания.
2 См., напр.: Егоров В. Б. Когда возникла Киевская Русь? // История в подробностях. – 2012. – № 3. – С. 32–43; Клейн Л. С. Академик Рыбаков и партийная линия // Троицкий вариант. – 2011. – № 73. – С. 14; Новосельцев А.П. «Мир истории» или миф истории? // Вопросы истории. – 1993. – № 1. – С. 23–32, и др.; при желании можно перечислить множество статей и книг, критикующих те или иные выводы Бориса Александровича.
3 Буганов В.И., Жуковская Л.П., Рыбаков Б.А. Мнимая «древнейшая летопись» // Что думают ученые о «Велесовой книге» / Сост. О.В. Творогов, А.А. Алексеев. – СПб., 2004. – С. 38-46.
4 Гайдуков А. В. Легитимность славянского неоязычества: особенности взаимоотношения с государственной властью // Герценовские чтения: Актуальные проблемы социальных наук. – СПб., 2004. – С. 274–278.
[С. 176]
5 Срезневский И.И. Роженицы у славян и других языческих народов. – М., 1855. – С. 10; Мансикка В.Й. Религия восточных славян. – М., 2005. – С. 142 и др.
6 «Слово об идолах» – условное сокращение (напр., у Е. В. Аничкова); его полное название «Слово святого Григорья, iзобрѣтено въ толцѣхъ о томъ, како первое погани суще языци кланялися ідоломъ i требы им клали; то i нынѣ творятъ» // Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. – М., 2013. – С. 281–299. То же касается и «Слова некоего христолюбца» – «Слово некоѣго Христолюбца, и ревнителя по правой вѣрѣ» // Там же. С. 300–312.
7 См., напр.: Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь. – М., 2009. – С. 190, 199; Мансикка В.Й. Указ. соч. С. 142.
8 Пер. с др.-рус. наш. В оригинале: «требоу кладоуть и творять, и словеньскыи языкъ, Виламъ, и Мокошьи, Дивѣ, Пероуноу, Хърсоу, Родоу, и Рожаници» // Гальковский Н.М. Указ. соч. – С. 287.
9 См., напр.: «Слово Iсаiя пророка истолковано святымъ Иоаном Златаоустом о поставляющихъ второую трапезу Роду и Рожаницамъ» // Гальковский Н.М. Указ. соч. С. 348–355; «Слово нѣкоего Христолюбца и наказанiи отца духовного» // Срезневский И.И. Древние памятники. Известия Императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности. – Т. 10, вып. 7. – СПб., 1863. – С. 699–700; Аничков Е.В. Указ. соч. С. 125–152 и др.
10 Пер. с др.-рус. наш. В оригинале: «Вдуновение бесмртное нестарѣюще единъ вдымаетъ вседръжитель, иже единъ безсмртенъ и непогибающихъ творецъ <…>; то ти не Родъ, сѣдя на вздусѣ мечеть на землю груды и в том ражаются дѣти <…>. Всѣмъ бо есть Творецъ Богъ, а не Родъ» // Гальковский Н.М. Указ. соч. С. 360–362.
11 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981. – С. 450. Стоит отметить, что другие авторы (напр. В.Я. Петрухин и др.) имеют иную точку зрения в определении «груд» в данном тексте.
12 Срезневский И.И. Роженицы у славян и других языческих народов. – М., 1855. – С. 9.
13 Мансикка В.Й. Указ. соч. – С. 145.
14 Гальковский Н.М., Указ. соч. – С. 288.
15 Мансикка В.Й. Указ. соч. – С. 134–135.
16 Гальковский Н.М. Указ. соч. – С. 114–115.
17 Зубов Н.И. Научные фантомы славянского Олимпа // Живая старина. – М., 1995. – № 3 (7). – С. 46–48.
18 Мансикка В.Й. Указ. соч. – С. 140–141.
19 Рыбаков Б.А. Указ. соч. – С. 442.
20 Пер. с англ. наш. В оригинале: «they were also called Sudice («Givers of Fate»), Sudjenice, Sujenice (Croatian), Sojenice, Sujenice (Slovenian), Sudženici (Bulgarian), or Sudičky (Bohemian). The Bulgarians have their own name for them, viz. Narŭčnici (narok, «destiny») or they call them Orisnici, Urisnici, Uresici» // Máchal J. Slavic Mythology // Mythology of all races. – Vol. III. Celtic and Slavic Mythology. / ed. by L. H. Gray. – Boston, 1918. – P. 250.
21 Ibid. – P. 251–252.
22 Срезневский И.И. Указ. соч. – С. 10–21.
23 Бывает также, что их две, или даже одна на каждого человека. См.: Там же.
24 Máchal J. Op. cit. – P. 250–251.
25 Пушкин А. С. Сказка о царе Салтане // Пушкин А.С. Сочинения: в 2-х т. – Т. 1. – М., 1982. – С. 339.
26 Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. – Л., 1970. – С. 23 («Видение Гюльви», 15).
27 Гесиод. Теогония // Гесиод. Полное собрание текстов. – М., 2001. – С. 27 (Строки 218–219).
28 Máchal J. Указ. соч. – С. 249.
29 Мансикка В. Й. Указ. соч. – С. 135.
30 Máchal J. Указ. соч. – С. 238–240.
31 Рыбаков Б. А. Указ. соч. – С. 438–470 («Глава восьмая. Род и рожаницы»).
32 Там же. – С. 438–441.
33 Там же. – С. 439.
34 Стоит отметить, что формат статьи не позволяет рассмотреть детально все аспекты воззрений на Рода и Рожаниц в науке. Напр., Рыбаков вслед за Комаровичем считает, что данный культ был общественным и общенародным (см. там же. – С. 439–440), в то время как Н.М. Гальковский отмечает: «почитание же рода и рожаниц было делом семейным, частным» (Гальковский Н.М. Указ. соч. – С. 120); подобных взглядов можно выделить много.
35 Рыбаков Б.А. Указ. соч. – С. 441.
36 Там же. – С. 443.
37 Пер. с др.-рус. наш. В оригинале: «словенѣ начали тряпезу ставити, родоу и рожаницямъ, переже перуона бога ихъ. А преже того клали требы оупиремь и берегынямъ» // Гальковский Н.М. Указ. соч. – С. 288–289).
[С. 177]
38 Рыбаков Б. А. Указ. соч. – С. 11–12.
39 Аничков Е. В. Указ соч. – С. 101–120.
40 Рыбаков Б. А. Указ. соч. – С. 12.
41 Элиаде М. История веры и религиозных идей. – М., 2002. – С. 174–178.
42 Рыбаков Б. А. Указ. соч. – С. 20.
43 Прокопий из Кесарии. Война с готами. – М., 1950. – С. 297.
44 Рыбаков Б. А. Указ. соч. – С. 24.
45 Там же. – С. 451.
46 Гельмольд из Босау. Славянская хроника. I. 52, II. 12 // Адам Бременский, Гельмольд из Босау, Арнольд Любекский. Славянские хроники. – М., 2011. – С. 213, 278; Saxo Grammaticus. Gesta Danorum. – Hauniae, 1931. – T. 1. XIV. 39. – С. 464–467.
47 Рыбаков Б. А. Указ. соч. – С. 462.
48 Комар А., Хамайко Н. Збручский идол: памятник эпохи романтизма? // Ruthenica. – Київ, 2011. – Том X. – C. 166–217.
49 Рыбаков Б. А. Указ. соч. – С. 465.
50 Там же. – С. 469.
51 Там же. – С. 465–470.
52 Срезневский И.И. Указ. соч.
53 Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. – СПб., 2004. – С. 182–183.
54 Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха. Гл. XIII. Судьба-Доля в народных представлениях славян // Отделение русского языка и словесности. – 1890. – Т. 46, № 6. – С. 172–261.
55 Соболев А.Н. Загробный мир по древнерусским представлениям. – Сергиев Посад, 1913. – С. 75–85.
56 Máchal J. Указ. соч.
57 Аничков Е.В. Указ соч. – С. 215–218.
58 Комарович В.Л. Культ Рода и земли в княжеской среде XI–XIII вв. // Труды отдела древнерусской литературы. – Т. XVI. – Л., 1960. – С. 84–104.
59 Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна. – М., 2008. – С. 207.
60 Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Род // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. – М., 1995. – С. 335.
61 Петрухин В. Я. Древняя Русь. Народ. Князья. Религия // Из истории русской культуры. – М., 2000. – Т. 1. – С. 236–243.
62 Клейн Л.С. Указ. соч. – С. 182–196.
63 Прокопий из Кесарии. Указ. соч. – С. 297.
64 Срезневский И. И. Указ. соч. – С. 14.
Религиоведение. 2013. №4. С. 170-177. ISSN 2072-8662
http://slav-drevnost...com/134651.html
#2

 Опубликовано 22 Январь 2017 - 16:14
Опубликовано 22 Январь 2017 - 16:14

Аннотация. В статье рассматривается образ Дажьбога — значимого славянского божества языческой эпохи. Большое количество исследований, посвящённых ему полностью или частично, не снимают всех противоречий, которые вытекают из общепринятых его трактовок согласно первоисточникам (прежде всего «Повести временных лет» и «Слове о полку Игореве», а также южнославянскому фольклору). В частности, вопросы вызывает приписывание Дажьбогу солярной природы: если он был богом солнца, то почему в древней Руси почитался и второй солярный бог, Хорс? Автор предлагает новый взгляд на эту проблему, основанный, прежде всего, на сравнительном подходе — сопоставлении с другими индоевропейскими мифологиями (германской, индийской, греческой, балтийской и т.д.). На базе альтернативного прочтения первоисточников и сопоставлений в другом свете рассматривается и этимология имени Дажьбога. В итоге вырисовывается совершенно новый взгляд на Дажьбога, прежде никогда не представленный в науке, хотя отдельные его предпосылки высказывались ранее рядом крупных учёных — как в области этимологии имени, так и в функциональном ключе. Автор пытается ответить на вопрос — мог ли быть Дажьбог развитием индоевропейского Дьеуса, Бога-Отца Сияющего Неба?
Ключевые слова: славянская мифология, славянское язычество, Дажьбог, Дьеус-Патер, Небо-Отец, сравнительная мифология, славянский пантеон, солнечные боги, Хорс, Сварог.
Abstract. This article examines the image of Dazbog a meaningful Slavic deity of the pagan era. Many researches, fully or partially dedicated to him, do not eliminate all contradictions, which result from the universally accepted interpretations according to the primary sources (first and foremost «Primary Chronicle», «The Tale of Igor’s Campaign», and also the Southern Slavic folklore). Another questionable fact is the attribution of the solar nature to Dazbog: if he was considered a god of sun, then why in Ancient Rus was worshiped another solar god Hors? The author suggests a new outlook upon this issue, which is mostly based on the comparative approach — comparison with the other Indo-European mythologies (Germanic, Indian, Greek, Baltic, etc.) Basing on the alternative reading of the primary sources, the author reviews the etymology of Dazbog. As a result, it results in a completely different idea about Dazbog, who was never presented in science, although several of his prerequisites were earlier proposed by the number of accomplished scholars regarding the area of etymology of his name, and from functional perspective. The author attempts to answer the question — could or could not Dazbog become a development of Dyeu, the Indo-European God of the Shining Sky?
Key words: comparative mythology, God of Shining Sky, Dyeu Ph2ter, Dazbog , Slavic paganism, Slavic mythology, Slavic pantheon, solar gods, Hors, Svarog.
Общеизвестно, что первоисточники по славянской языческой религии крайне скудны. Мы можем найти в средневековых памятниках лишь краткие описания обрядов, например, похоронных [53, с. 166] или почитания некоторых божеств [53, с. 102–103], отрывочные сведения о восстаниях народа против христианства [2, с. 48–49, 84, 123; 12, с. 172–173], фрагментарные описания праздников [64, p. 494–496]. Авторы, в большинстве своём христианские (и в незначительной степени мусульманские) не скрывая, часто осуждают описываемое, отмечая в отдельных случаях лишь самые нелицеприятные подробности, а возможно и выдумывая какие-то детали [3, с. 361]. Очевидно, что главной их целью было осуждение «поганых», как называет язычников древнерусская литература, а не объективное описание тех или иных религиозных феноменов; тем не менее, других источников по славянскому язычеству почти нет.
Если же говорить о высшей мифологии, то есть содержащей мифы о божествах, то ситуация выглядит ещё печальнее. Мотивы, которые можно было бы отнести к ней, можно перечислить по пальцам, при этом многие учёные отказывают и им в славянском происхождении, пытаясь проследить возможности того или иного заимствования, литературного конструирования и т.д. Например, в древнерусской «Повести временных лет» (далее ПВЛ), киевском памятнике начала XII в.[37], в статье за 1071 год приводится описание восстания волхвов, поддержанного сотнями людей. Два волхва из Ярославля убивали знатных женщин, заявляя, что это поможет справиться с царящим в северной Руси голодом. Против них в Белоозеро выступил киевский тысяцкий Янь Вышатич, который, прежде чем подвергнуть побеждённых волхвов каре, решил расспросить их. «Они же сказали: “Мы двое знаем, как сотворён человек”. Он же спросил: “Как?” Они же отвечали: “Бог мылся в бане и вспотел, отёрся ветошкой и бросил её с небес на землю. И заспорил сатана с Богом, кому из неё сотворить человека. И сотворил дьявол человека, а Бог душу в него вложил. Вот почему, если умрёт человек, – в землю идет тело, а душа к Богу”. Сказал им Янь: “Поистине прельстил вас дьявол: какому богу веруете?” Те же ответили: “Антихристу” Он же спросил их: “Где же он?” Они же сказали: “Сидит в бездне”. Сказал им Янь: “Какой это Бог, коли сидит в бездне? Это бес, а Бог восседает на небесах, на престоле, славимый ангелами..”»[37, с. 217]. Этот диалог даёт иллюстрацию типичного описания языческих представлений, где главная задача – их осуждение. Трудно представить, чтобы волхвы называли своих божеств неизвестным их мифологии Антихристом; также трудно понять, почему Бог, который бросил ветошку с неба, где он мылся, находится в «бездне» и т.д. Но даже здесь выделяются некоторые фрагменты, могущие восходить к реальному диалогу – это мотив творения первых людей посредством пота божества, находящий параллели в мифах индоевропейских народов. Так, в исландской «Младшей Эдде», наиболее богатом мифами у германских народов источнике, первым существом был великан Имир. «И сказывают, что, заснув, он вспотел, и под левой рукой у него выросли мужчина и женщина»[46, с. 23], ставшие предками рода великанов. Подобные мотивы известны и индийским Ведам: Сущее «подумало: “Да стану я многочисленным, да вырасту я!” Оно сотворило жар. Жар подумал: “Да стану я многочисленным, да вырасту я!” Он сотворил воду. Поэтому когда человек горюет или потеет, то это из жара рождается вода. Эта вода подумала: “Да стану я многочисленной, да вырасту я!” Она сотворила пищу. Поэтому, где бы ни шел дождь, там бывает обильная пища. Это из воды рождается пища для питания. И у этих существ есть три породы: рожденные из яйца, рожденные от живых, рожденные из ростка..»[55, c. 340], ср. также [55, с. 351]. Однако, основной научной тенденцией в XIX–начале XX вв. при анализе данной мифологемы ПВЛ была поддержка мнения, что миф имеет богомильское происхождение [9, с. 93–94] – то есть возник в христианской еретической среде, несмотря на то, что единственными тому доказательствами были наличие дуалистических представлений у богомилов (противостоящие друг другу Бог и дьявол оба участвовали в творении и влияли на мир), и хронологическое совпадение периода написания ПВЛ с распространением этой ереси. Лишь позднее возникла обратная тенденция «возвращения» славянской интерпретации мифологемы; блестящее рассмотрение соответствующего материала А.М. Золотарёвым позволило ему сделать следующие выводы: «поразительное сходство дуалистических мифов по всему земному шару исключает их заимствование с Балкан восточными славянами, финнами и сибирскими народами. <…> Задолго до знакомства с болгарскими ересями космогонические мифы восточных славян и их соседей строились на дуалистической основе», но «теми же причинами объясняется, вероятно, успех и распространение дуалистических апокрифов на Руси и их влияние на народное творчество»[16, с. 281; 26]. Возвращение веры в возможность славянского происхождения многих аспектов старого язычества последние десятилетия можно считать тенденцией. В качестве примера бегло рассмотрим подходы к этимологии имени древнерусского божества Мокошь. Если в начале XX в. наиболее крупные исследователи предполагали иноязычное происхождение теонима [3, с. 440; 9, с. 24; 30, с. 295], то позднее доминировать стала версия об основе в нём славянского корня «мок-», в значении «мокрая»; а сама богиня из статуса заимствованной обрела статус пра- или во всяком случае общеславянской [32, с. 398; 57, с. 3.640; 30, с. 310–311; 29, с. 99–100].
В свете вышесказанного, и того факта, что уже в XIX в. были известны и исследованы все доступные сегодня первоисточники по высшей мифологии славян [11, с. 37], представляется не только возможным и плодотворным, но даже и необходимым обращение также к другим областям знаний, могущих дать новые факты для познания славянской культуры. Наряду с археологией, фольклором и этнографией, важнейшую роль здесь играет и сравнительное религиоведение и языкознание. В настоящей статье мы рассмотрим Дажьбога – одного из значимых богов славянской мифологии и постараемся предложить его новую интерпретацию.
У восточных славян Дажьбог относится к числу наиболее часто упоминаемых источниками божеств. ПВЛ, самый старый древнерусский памятник, содержащий теонимы (имена богов) и описания культа, сообщает в статье за 980 год: «и стал Владимир княжить в Киеве один и поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, и Даждьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими»[37, с. 127] (cр. с библейскими строками, например, Пс. 105:36–38). В 988 году при крещении Руси, Владимир «повелел повергнуть идолы – одни изрубить, а другие сжечь», и после описаний поругания идола Перуна [37, с. 161–163] ПВЛ больше не упоминает ни одного из перечисленных богов кроме Дажьбога. В статье за 1114 год по Ипатьевскому списку говорится, что в Египте вскоре после мирового потопа стал царствовать «Феоста, которого и Сварогом называли египтяне. Когда царствовал этот Феост в Египте, в годы правления его упали клещи с неба, и начали ковать оружие, а до того палицами и камнями бились. Тот же Феоста закон издал о том, чтобы женщины выходили замуж за одного мужчину и вели себя воздержанно, а кто впадёт в прелюбодеяние, тех казнить повелевал. Поэтому и прозвали его бог Сварог. Прежде же женщины сходились с кем хотели, точно скот. Когда женщина рождала ребёнка, она отдавала его тому, кто ей был люб: “Это твоё дитя”. Тот же, устроив празднество, брал себе ребёнка. Феост же этот обычай уничтожил и повелел одному мужчине иметь одну жену и женщине за одного мужа выходить, если же кто преступит этот закон, да ввергнут его в печь огненную. Того ради прозвали его Сварогом и чтили его египтяне. И после него царствовал сын его, по имени Солнце, которого называют Дажьбогом, 7 тысяч и 400 и 70 дней, что составляет двадцать с половиной лет. Не умели ведь египтяне иначе считать: одни по луне считали, а другие днями годы считали; число двенадцать месяцев узнали потом, когда начали люди дань давать царям. Солнце царь, сын Сварогов, иначе Дажьбог, был могучим мужем. Услышав от кого-то о некоей богатой и родовитой египтянке и о человеке некоем, восхотевшем сойтись с ней, искал её, желая схватить. Не хотел он закон отца своего Сварога нарушить. Взяв с собой нескольких мужей и узнав час, в который она прелюбодействует, ночью застиг её и не нашел мужа с ней, а её застал лежащей с другим мужчиной, которого она возжелала. Схватил её, подверг пытке и послал водить её по земле египетской на позор, а того прелюбодея обезглавил. И настало непорочное житье по всей египетской земле, и все восхваляли его»[37, с. 309–311]. Однако, этот текст – однозначно не является оригинальной русской мифологией; большая его часть византийского происхождения. Выделенные жирным цитаты восходят к древнеславянскому переводу «Хронографии» грека Иоанна Малалы́; по замечанию О.В. Творогова, крупнейшего исследователя и переводчика древнерусской литературы, пассаж о богах статьи 1114 года ПВЛ это «свободный пересказ главы 23 первой книги Хроники Малалы, главы 1 второй книги и главы 4 четвёртой книги»[37, с. 523] (см. перевод II.1 «Хронографии»: [1, с. 230]; за помощь с переводом с греческого глав I.23 и IV.4 автор хотел бы выразить благодарность А.С. Досаеву. См. также: [30, с. 89–94]). Иоанн Малала жил в VI в., а перевод его произведения на славянский был сделан около X в. у южных славян[52]. При этом интересующее нас «отождествление Гефеста со Сварогом, а Гелиоса (Солнца) с Даждьбогом принадлежит не составителю русского компилятивного хронографа, <…> и тем более не летописцу, включившему фрагмент из Хронографии Малалы в летописную статью 1114 г., <…> а восходит к какой-то древней (если не первоначальной) редакции перевода Хронографии Малалы»[51; 37, с. 523–524]; о возможности южнославянского происхождения вставок о Свароге и Дажьбоге (и соответственно, южнославянском их культе) писал и Г. Ловмянский. Малала придерживался эвгемеризма при толковании персонажей библейской и античной мифологии: боги представали у него великими героями древности, которых затем обожествили из невежества. Как видно, количество самостоятельных славянских вставок в цитату греческого текста невелико, и для мифологических реконструкций использовать их трудно. По сути, оригинальными являются лишь сообщение о ввержении в печь в качестве наказания (хотя Солнце наказал прелюбодеев иначе), и само соотнесение Феоста (у Иоанна Малалы – Гефест) со Сварогом, а его сына Солнца (Гелиос у Малалы) с Дажьбогом. Бесспорно, однако, что если книжник пошёл на такую замену, то эти имена должны были что-то значить для славянского читателя [29, с. 78].
Феоста, несомненно, это лишь древнерусский инвариант имени Гефеста. Ввержение в печь можно объяснить связью восточнославянского образа Сварога/Сварожича с огнём. В древнерусских текстовых памятниках встречается такое соотнесение, например: «и огневи Сварожицю молятся» в «Слове об идолах»[9, с. 287] XI–XII в.[36, с. 155]; «огневися молять зовуще его Сварожичем» в «Слове христолюбца»[9, с. 305, 307] XI в.[36, с. 153] Форма Сварог не упоминается в текстах нигде кроме приведённой статьи 1114 года ПВЛ, хотя новгородские говоры знают слово «сварог» как старое название огня, а также кузнечика [44, с. 214]. Теоним «Сварожич» может означать либо патроним (ср. современное окончание отчеств на «-ич») сына Сварога, либо, для тех времён, деминутив (уменьшительно-ласкательную форму) имени Сварог (в значении «маленький Сварог»)[63, s. 148–149]. С Дажьбогом Сварожич не обязательно идентичен [11, с. 160], хотя такие предположения существуют [19; 54, с. 527]. Мы скептически относимся к подобному отождествлению в восточнославянской культуре, где вполне очевидно, что Сварожич равен Огню, а Дажьбог к Огню не имеет прямого отношения. По всей видимости, А. Брюкнер был прав относительно восточнославянского понимания имени Сварожич как деминутива. Всё вышесказанное, с учётом соотнесения и автором статьи ПВЛ 1114 года со Сварогом Гефеста, позволяет нам очень основательно предполагать, что Сварог был славянским богом кузнечного ремесла, связанным с печью и стихией огня; в то время как собственно огонь называли Сварожич. Теоним Сварожич известен и ряду западнославянских древностей: [53, с. 102–103; 19] и т.д.; как и большинство божеств полабских славян, он имел черты военного бога и оракула (в случае с полабским Сварожичем гипотеза о тождестве с Дажьбогом выглядит допустимой; в таком случае, в отличие от восточнославянского Сварожича, это может быть патроним). Представляется, однако, что его рассмотрение уведёт нас в сторону от древнерусского (отличающегося) понимания Сварога и Сварожича. Завершая рассмотрение Сварога, отметим, что популярная теория о родстве санскритского svarga («небо») со славянским теонимом является почти невозможной с лингвистической точки зрения [30, с. 297; 57, с. 3.569–570]. Другая весомая теория выводит имя Сварога из понятия «свара», т.е. ссора, распря, связывая это как раз с функцией наказывающего бога [57, с. 3.569; 11, с. 157]. Предпочтительной же нужно назвать этимологию, выводимую слово из корня «вар», в значении «кипение, варево»[9, с. 16], (отсюда же простонародное сварганить в значении «изготовить» – ср. функцию кузнеца, создающего изделие из сырья).
А по какому признаку было сделано в ПВЛ, 1114 соотнесение славянского Дажьбога с Гелиосом, греческим богом солнца? Частым в науке взглядом на это является предположение о функциональном их тождестве, что подчёркивается цитатой «Солнце царь»[9, с. 21; 29, с. 80]. Однако там же говорится – «сын Сварогов, иначе Дажьбог» (у Малалы – «сын Гефестов»). На наш взгляд, подобное соотнесение могло быть сделано не только по принципу тождества функции, но и по принципу тождества родства; т.е., как и Гелиос у Малалы приходился сыном Гефесту, Дажьбог в славянской мифологии был сыном Сварога. Данное предположение, не менее допустимое, чем гипотеза тождества функций, неоднократно высказывалось и ранее крупными славистами [30, с. 93; 29, с. 81; 11, с. 156–157; 72, s. 24–30]. Таким образом, Дажьбог вовсе не обязательно должен быть богом солнца.
Этим можно решить известную сложность классической интерпретации славянского пантеона. Дело в том, что уже упоминаемый в перечне божеств ПВЛ Хорс (980 год) также обычно определятся как солярный (солнечный) бог. Прежде всего это связано с контекстом упоминания Хорса в другом древнерусском памятнике XII в., эпосе «Слово о полку Игореве» (далее СПИ)[45]: «Всеслав-князь людям суд правил, князьям города рядил, а сам ночью волком рыскал: из Киева до рассвета дорыскивал до Тмуторокани, великому Хорсу волком путь перебегал»[45, с. 42–43]. Само имя Хорс, преимущественно выводимое из иранских языков (перс. xuršēt, осет. хур), также значит собственно «(сияющее) солнце». Интерпретация Хорса в качестве солярного божества поддержана значительным кругом выдающихся исследователей [57, с. 4.267; 29, с. 97–98; 6, с. 9–96; 25, с. 242–243] и является доминирующей, хотя альтернативные версии также существуют. Так, А. Брюкнер и некоторые другие поддерживали версию лунной природы Хорса, при этом теоним выводился из славянского харс (ср. хиреть), «истощённый» (аллюзия на постоянно «худеющий» месяц)[29, с. 97; 11, с. 167; 6, с. 22–27]. В новейшей работе А.А. Бескова, посвящённой этой проблеме, снова производится попытка представить образ Хорса как месяца, подкреплённая, по нашему мнению, очень слабо [4]. М.А. Васильев на основании множества фактов смог «надёжно постулировать то, что в восточнославянском язычестве Хорс являлся специально солярным божеством, богом Солнца»; «хотя почти каждое из приведённых источниковых свидетельств по отдельности может быть оспорено, но взятые в своей целостности, совокупности они образуют для Хорса убедительный “солярный вектор”» [6, с. 71, 54], По-настоящему «разгромленной» сегодня выглядит теория, сопоставляющая имя Хорса с герм. hruss, «лошадь»[6, с. 20]. Формат статьи не позволяет сполна рассмотреть проблематику его функций; однако, ссылаясь на указанные работы, отметим нашу поддержку теорий о солярной природе Хорса.
В таком случае не вполне ясно, зачем относительно небогатому высшему восточнославянскому пантеону был нужен второй солярный бог, каким часто видят Дажьбога. Исследователи пытались как-то объяснить эту особенность, например, немного разделяя их функции в рамках солнечного образа: «отношение Хорса к Дажьбогу довольно точно определяется аналогией с Гелиосом и Аполлоном у греков»[41, с. 433; 40, с. 444]. «Но в греческой мифологии такое наложение и разделение функций – результат длительного развития и возвышения Аполлона: он вначале не был богом солнца»[25, с. 243]. «На ранних этапах развития древнегреческой религии Аполлон являлся божеством жестоким и мрачным, а одной из его древнейших функций была функция губителя. Солярная же природа стала приписываться этому богу довольно поздно: лишь с V в. до н.э. появились тексты, где между Аполлоном и Гелиосом-Солнцем ставился знак равенства»[6, с. 57–58]. Другие авторы отождествляли Дажьбога и Хорса, часто ссылаясь на «соседство» двух имён в списке богов 980 года и отсутствие лишь между их именами союза «и» в Лаврентьевской редакции ПВЛ. «Это действительно любопытная подробность, но нельзя переоценивать её значимость. В конце концов, в Ипатьевской летописи имена разделены», а также известно «апокрифическое “Слово и откровение святых апостол”, где имена Хорса и Дыя также не разделены ни точкой, ни союзом и. Однако же, отождествить эту пару божеств ещё никто не предлагал! Вообще, подобные случаи написания имён древнерусских божеств в поучениях против язычества не являются уникальными»: «напр., “Слово св. Григория”: “пероуноу хърсоу. и мокоши. и виламъ” (список Новгородской Софийской библиотеки), “пероуноу. хорсоу мокоши. Виламъ” (Чудовский список)» и т.п.[4, с. 111] Сторонники тождества порой определяли Хорса как иранский, а Дажьбога – как славянский вариант одного персонажа [54, с. 515; 29, с. 98–101; 6, с. 28–29]. Но в таком случае непонятно, зачем автору летописи понадобилось приводить два имени одного божества; нужно возразить и насчёт сугубо иранской природы Хорса. Каким бы ни было происхождение его имени, сам Хорс определённо был богом, которому поклонялись славяне; он «слишком часто присутствует в летописях, поучениях, апокрифах и других древнерусских текстах <…>, видимо, почитался и у южных славян»[25, с. 243]. Его культ был славянам понятен, и ещё в течение нескольких столетий после крещения в поучениях против язычества осуждался и запрещался, заслуживая отдельных реплик и особого внимания. «Если строго подходить к терминологии, нельзя говорить и о его <…> заимствовании славянами у иранцев. Перед нами ситуация естественного “врастания” культа Хорса в восточнославянское язычество (через механизм ассимиляции иранцев, т.е. в конечном счёте их трансформации на уровне этнического самосознания в этнических славян), естественного вхождения его в качестве органической составной части в собственно восточнославянские языческие верования». Такие «иранизмы могут оказаться не столько заимствованиями, сколько реликтами иранской речи в языке населения, перешедшего на славянскую речь» (в последнем случае М.А. Васильев цитирует В.Н. Топорова)[6, с. 71–72]. Древность Хорса в славянской культуре может подтверждаться и в случае верности гипотез, по которым ряд понятий связан с Хорсом, например, не имеющие сегодня общепризнанной этимологии слова «хороший»[33], «хоровод»[41, с. 434] (но [25, с. 92]) и т.д.; куда более спорны варианты этимологии «хорватов» у А.С. Фаминцына [56, с. 213–214] или корня «крес» (например, кресало) у М.Е. Соколова [6, с. 20–21]. М. Фасмер утверждает невозможность данной этимологии у слова «хороший», поскольку «полногласная форма Хоросъ не засвидетельствована»[57, с. 4.267], однако существует и такой вариант написания в древнерусских текстах, в частности, в древнем «Житии князя Владимира» XII–XIII вв.[36, с. 199–200]: (в родительном падеже) «Хъроса»[56, с. 206; 30, с. 86; 9, с. 19; 11, с. 166; 25, с. 242]. Кроме того, сторонником такой связи выступил крупный лингвист и мифолог В.Н. Топоров: «..русское слово, которое действительно связывалось исследователями с именем Хорса – хоро́ший. Сама эта связь теперь представляется несомненной, несмотря на оценку её как «невероятной» у Фасмера <…>. Несомненно и направление словопроизводства: “Хорс > хороший”»[54, с. 524].
Мало того, в СПИ снова упоминается и Дажьбог (почему бы, если он – то же самое, что и Хорс?), причём в ином контексте: дважды в выражении «Даж(д)ь-божий внук» (в первом случае написание «Даждь-Божа внука», во втором – «Дажь-Божа внука», как и в ПВЛ [45, с. 39]). Не вполне ясно, кто имеется в виду под его внуком, наиболее часто предполагается, что это эпитет либо князей [11, с. 164], либо всего древнерусского народа [56, с. 212, 222; 9, с. 21; 29, с. 101; 17]. Между тем, отдельно упоминается и Солнце, персонифицированное и в определённом контексте могущее быть прочитанным как божество. Жена главного героя, Игоря «Ярославна с утра плачет в Путивле на стене, причитая: “Светлое и трёсветлое солнце! Для всех ты тепло и прекрасно! Почему же, владыко, простёрло горячие свои лучи на воинов лады? В поле безводном жаждой им луки стянуло”»[45, с. 43]. «Ладо» здесь означает супруга, переживая за которого обращается к Солнцу героиня эпоса. Как видно, в отличие от Хорса, солярная природа Дажьбога по СПИ никак не проявляется, зато можно дополнить его образ мифологемой некого предка, «деда» (которая, напротив, не читается у Хорса). По мнению Э.М. Шусторовича, причина именно такого соотнесения в ПВЛ, 1114 греческих божеств со Сварогом и прежде всего Дажьбогом, была в том, чтобы включить происхождение русского народа в библейскую историю: поскольку род правителей (античные боги в эвгемеристичной трактовке) у Малалы восходит к сыновьям Ноя, «русские (Дажьбожи внуки) через Гелиоса-Дажьбога, Гефеста-Сварога и т.д. состоят в родстве со всеми другими народами и с праотцем Ноем, а Русь получает свое место в мировой истории»[61].
Любопытно, что в восточнославянском фольклоре персонифицированное солнце часто предстаёт в женском образе: «в русских сказках и свадебных песнях “красным солнышком” называют невесту, а жениха – месяцем <…>. Более того, солнце в русском обряде надевает сарафан и кокошник. Можно добавить, что в русском языке “солнце” – среднего рода лишь в результате прибавления уменьшительно-ласкательного суффикса, а древняя форма – женского рода: “солънь”»[25, с. 85]. Это представление имеет широкие параллели в североевропейской мифологии. В упомянутой исландской «Младшей Эдде» говорится, что у некого человека «было двое детей. Они были так светлы и прекрасны, что он назвал Месяцем сына своего, а дочь – Солнцем. <…> Но богов прогневала их гордыня, и они водворили брата с сестрою на небо, повелев Солнцу править конями, впряжёнными в колесницу солнца», и аналогично, «Месяц управляет ходом звёзд, и ему подчиняются новолуние и полнолуние». За обоими по небу гонятся волки [46, с. 27–28]; ср. в славянских источниках, ПВЛ, 1065: «солнце изменилось и не стало светлым, но было как месяц, о таком солнце невежды говорят, что оно съедаемо»[37, с. 205]; сербский Номоканон 1262 г.: «егда оубо погибнеть лоуна или слнце, глаголють: влькодлаци лоуноу изѣдоше или слнце»[30, с. 105; 6, с. 24]. В народных песнях балтских народов (латышей, литовцев) богиня солнца Сауле часто выходит замуж за бога месяца Менесса или Менуо [18; 11, с. 168]. Однако, и в соседних, и в славянской традиции пол персонифицированного солнца варьируется от сюжета к сюжету.
Дажьбог упоминается также в ряде поучений против язычества (далее ППЯ, выше, в связи с Огнём-Сварожичем были процитированы два наиболее значимых из них – «Слово христолюбца» и «Слово об идолах»). Впрочем, эти тексты, созданные в целях просветительской борьбы с теми или иными актуальными культами раннехристианского времени [3, с. 63–64, 295–297, 302–304], не добавляют собственно мифологической информации о боге – он встречается здесь в списках персонажей, которых почитают «христиане, двоеверно живущие», «невежи». Вот типичный пример упоминания Дажьбога в ППЯ: «а другие веруют в Стрибога, Дажьбога и Переплута..» («Слово отца Иоанна Златоуста о том, како первое погании веровали в идолы»[9, с. 324], XI или XIII в.[36, с. 159]). Любопытно, что Дажьбог (как и Стрибог) упоминается в ППЯ заметно реже, чем, скажем, Перун или Хорс, но это легко объяснимо. «В этих именах всуе упоминается слово “Бог”», которое могло нести неверную в христианско-просветительском контексте коннотацию [30, с. 138]. В некоторых ППЯ, как например, «Слове некого христолюбца» упомянуты все божества из капища Владимира кроме Дажьбога и Стрибога, что подтверждает это предположение [9, с. 305]. Бесспорно, всего лишь копируя ПВЛ, 980 упоминает Дажьбога и одно из «Житий князя Владимира» [30, с. 84–85] и ряд иных, позднейших памятников (например, Густынская летопись XVII в. [9, с. 557–565; 30, с. 115–117]). Все эти тексты не дают Дажьбогу никаких новых характеристик.
Дажьбог знаком также фольклору – он упоминается в нескольких новгородских поговорках, например: «покучись Дажьбогу, управит понемногу» и т.д.[47, с. 79–82] Как «ей-богу» могли пониматься слова «Даж(ь)бо», «Дажба» в отдельных регионах вплоть до XIX в. (например, «авось-те Дажба, глаза лопни!» у рязанцев, «Дажба из даждь Бог»[30, с. 295; 25, с. 241–244]). Кроме того, у многих славянских народов известны личные имена, сходные с этим теонимом: Даж(д)ьбог у восточных славян, Dadzbog, Daczbog и т.д. у поляков, в то время как некоторые южнославянские антропонимы происходят от имени демона Дабы (Daba, Dabic и т.д.), сопоставляемым с этим же образом. Косвенно это указывает на обширный некогда культ Дажьбога, ведь «личные имена, содержащие теоним, не редки в славянской ономастике»[6, с. 70–71; 32, с. 394–395; 47, с. 79–82]. Возможно, связана с Дажьбогом полабская богиня Подага, мельком упомянутая в XII в.[12, с. 248; 11, с. 164; 41, с. 375; 56, с. 224–226] Славянский мир знает немало и географических объектов, чьё название иногда в точности совпадает с именем бога (например, почитаемая гора Dajbog у сербов).
В целом, касаясь южнославянского материала, необходимо выделить одну важную тенденцию. В 1941 году крупный сербский славист В. Чайканович выпускает работу «О сербском верховном боге» (в переизданиях «О верховном боге в старой сербской религии»)[71]. Поскольку эта книга никогда не переводилась на русский и непосредственно касается нашего исследования, остановимся на ней подробнее. Работа построена на южнославянском фольклоре и сравнительной мифологии (прежде всего привлекается греческий и германский материал). Сербскому народному наследию известны, во-первых, две сказки о неком Дабоге [67; 68], который, вполне в русле дуалистических представлений (наподобие упомянутых богомильских), противостоит Богу небесному (христианскому), почти не уступая ему [30, с. 295; 54, с. 528; 9, с. 20–21; 32, с. 395; 56, с. 222; 29, с. 362]; есть «следы этого персонажа в эпических песнях о кралевиче Марко»[19]. Далее, в других преданиях известен хромой Даба, чьё имя исследователь видит как уменьшительную форму имени Дабог [71, с. 395–409, 440–450], сам же этот Даба – «волчий пастырь», т.е. вождь волков и оборотень. Сопоставляя почитание Дабога и Дабы с культом ряда сербских святых (прежде всего св. Саввы, св. Мартина и св. Георгия), ряда славянских богов (например, Святовида, Триглава и Чернобога, которых исследователь необоснованно отождествляет) и богов других народов (прежде всего германского Одина и греческого Гермеса), автор в итоге приходит к выводу, что в основании их лежит один и тот же архетип: хтонического бога загробного мира, чье имя у сербов в языческую пору и было Дабог. Цитируя автора: Дабог «стоял во главе нашего пантеона, и до конца языческой эпохи был нашим верховным богом, summus deus, <…> он был национальный бог, родоначальник целого народа, <…> великий бог мёртвых»[71, с. 440–441] (пер. с сербского наш). При этом в сербской религии ему приписывали такие функции как: пастух, волк (оборотень), психопомп (проводник душ умерших) или страж загробного мира, покровитель богатства и шахт, торговли, дарователь судьбы, родоначальник, мессия, любовник и т.д.[71, с. 448–453] На наш взгляд, методология автора чрезвычайно спорная, поскольку, обнаруживая те или иные черты сходства у самых разных персонажей, он сразу же отождествляет их с «сербским верховным богом», усложняя его образ; между тем как в действительности нет доказательств даже существования такого бога у сербов. К гипотезам Чайкановича следует относиться крайне осторожно [11, с. 163].
Однако указанная работа стала одним из фундаментов южнославянского исследования славянского пантеона. Например, уже на рубеже XX–XXI вв. македонский учёный Н. Чаусидис старался объяснить «проблему двойственности» образа Дажьбога у славян, с одной стороны выделяя распространённый взгляд на его солярную природу, а с другой отмечая хтонического Дабога сербского фольклора. Пытаясь решить этот вопрос, в итоге исследователь приходит к совершенно неверному, на наш взгляд выводу: что и восточнославянский Дажьбог на самом деле был хтоническим антагонистом небесного Солнце-царя, который являлся отдельным персонажем; их отождествление произошло якобы на непонимании переводчиков и переписчиков славянской цитаты «Хронографии» Малалы. В качестве сопоставления автор приводит зерванизм, иранское учение, где Зерван (сопоставлен со Сварогом) порождает светлого и положительного Ахура-Мазду (=Солнце-царь, по мысли Чаусидиса), и негативного тёмного Ангро-Майнью (=Да(жь)бог)[72, s. 23–42] (о негативном облике Дажьбога ранее говорил и В.В. Мартынов, который к тому же выводил имя Дажьбога из др.-иран. duš- или duž- «плохой, злой»[31, с. 71]). Смысл и обоснование этой гипотезы, на наш взгляд, совершенно неудовлетворительны: вряд ли образованный автор ПВЛ знал о зерванизме, и тем более, пытался передать его учение путём трансляции «Хронографии» Малалы, чей перевод выполнен на высоком уровне и достаточно точен [59]. Труднообъяснимым тогда кажется пребывание Дажьбога в капище Владимира, тем более рядом с Хорсом (ПВЛ, 980), практически незаметная роль в славянской мифологии Сварога и т.д.
Представляется, что имена Дажьбога и Дабога действительно родственны и представляют собой инвариант одного общего истока: [32, с. 395], но [30, с. 295]. Но если Дажьбог был описан текстами высокого средневековья, которые, возможно, фиксировали ещё живое его языческое почитание, то у сербов фольклорные упоминания о Дабоге относятся к XIX в., где исконный облик культа не мог сохраниться. В. Чайканович и сам предполагает, что прежний верховный бог в новой вере мог быть низведён в демонологию, став антагонистом и сменив своё амплуа [71, с. 395–405]. Видимо, «в фольклоре сербо-хорватский Дабог стал врагом Господа Бога <…> как старейший из сонма дьяволов, он скрывается под эвфемизмом “старик”»; «Дабо превратился у сербов-христиан в дьявола» [11, с. 163; 25, с. 241]. Поэтому можно предположить, что имя Дабога действительно сохранилось у сербов как память о некогда главном языческом божестве, позже закрепившись за образом хтонического антагониста нового верховного Бога, поменяв свои функции до полярно противоположных. Этому могло способствовать и некоторое созвучие его имени с понятием «дьявол». Таким образом, сербский фольклор может дать нам в изучении Дажьбога только то, что этот бог почитался и у южных славян (значительный аргумент в пользу ещё праславянского его почитания), где играл роль одного из верховных, или и вовсе главного.
Помимо этого, в качестве примера народной памяти о Дажьбоге иногда приводят две украинские народные песни: «Помiж трьомя дорогами» и «Ой ти, соловейку», где фигурирует Дажьбог, в первом случае встречающий на рассвете жениха, направляющегося на собственную свадьбу, а во втором высылающий соловья отмыкать лето и замыкать зиму [54, с. 527–528; 19]. Мы полагаем, что в данном случае речь идёт о вторичном проникновении в фольклор мифологического персонажа уже из литературы при отсутствии преемственности. За это говорит очень поздняя запись песен (которых всего две) и в ряде случаев – молодость информаторов; самая ранняя запись принадлежит 1924 году, поздняя – 1970-му [54, с. 574–575]. Тем более это относится к якобы «Дажьбогову» камню из Минской области, описанному этнографами в 1980-е [69, с. 64–69]: хотя сам культ может быть традиционным, имя Дажьбога явно было приписано позднее искусственно не на народной, а на литературной основе [15, с. 79].
Полюбили Дажьбога и авторы текстов-подделок в области славянских древностей. В сербских «народных» песнях Иванова дня, изданных М. Милошевичем в 1869 году, упоминается Дажьбог в окружении других богов и псевдобогов различных славянских народов: Сварога, Коледы, Полеля, Поревита, Живы и т.д.[70, С.3] Вышедшие им вслед в Болгарии (1874, 1881) два сборника якобы народных песен «Вед Словена»[65; 66] (подделка С. Верковича или И. Гологанова [25, с. 115]) также упоминают Дажьбога, например в [65], VI.482, добавляя ему в компанию как различных персонажей славянской мифологии, так и выдуманных фальсификатором (иногда по аналогии с индийскими богами) существ. В «Велесовой книге», якобы созданной в IX в.[8, с. 6] (на самом деле написана Ю.П. Миролюбовым в 1950-е годы [50, с. 244–252]) выражение «дажьбожьи внуки» даётся как устойчивый эпитет славян ([8], дощечки 1, 3а, 7б, 19, 24б – явно в подражание «Слову о полку Игореве»), а сам Дажьбог (упоминается отдельно ещё примерно на 20 дощечках ([8], дощечки 4а, 6є, 8, 31–33 и т.д.) здесь лишь один из многих персонажей в богатом фантазиями автора мире. Позднейшие подделки [25, с. 115–130] 1990-х годов («Славяно-Арийские Веды» А.Ю. Хиневича, «Книга Коляды» А.И. Асова и др.) поддерживают эту тенденцию, превращая Дажьбога в доисторического космонавта и т.д., например: [42, с. 25]). О поддельности их см. также [27].
Итак, подлинные источники не позволяют уверенно определить Дажьбога солнечным божеством. Они сообщают, что он мог быть сыном Сварога, и являлся, перефразируя СПИ, «дедом», то есть предком для княжеской династии или всего древнерусского народа. Широкое распространение и долгая память о нём в христианское время с высокой вероятностью подтверждает ещё праславянское почитание Дажьбога и его огромную роль в высшей мифологии славян [32, с. 395; 19]. Однако если Дажьбог не определяется прежде всего солярностью, то какие функции он мог выполнять?
Обратимся к этимологии его имени. По одной из распространённых теорий, оно означает «бог-даятель» [30, с. 294–295; 9, с. 20–21; 32, с. 395; 11, с. 163; 19; 57, с. 1.482], др.-рус. даж(д)ь – императив от «дать», и «бог» (т.е. дословно – «Дай-бог»), причём слово бог возводится к иранскому bhaga – «богатство», и согласно гипотезе Р.О. Якобсона, поддержанной рядом учёных, Дажьбога стоит понимать «подателем богатств», благ [62, с. 617] (ниже мы вернёмся к рассмотрению данной теории).
Предполагалось также происхождение части «Дажь-» от санскр. и перс. dag(h(as)) или балтского degu с одинаковым значением «жечь»[56, с. 223; 9, с. 20; 11, с. 164]. Мы, однако, склоняемся к другому, также распространённому толкованию теонима. Его сторонниками выступали такие исследователи как А.Н. Афанасьев, И.И. Срезневский, Ф.И. Буслаев, А.С. Фаминцын, Б.А. Рыбаков, Л.С. Клейн [25, с. 242] и другие. Первая часть имени объясняется ими как притяжательное прилагательное от исчезнувшего славянского слова дагъ (ср. готское dags, нем. tag и др.), «день, свет». И.И. Срезневский считал доказательством существования такого слова сохранившееся в хорутанском языке однокоренное «дъжница» – ранняя заря [47, с. 79–82], но [57, с. 1.482]. Получается Дажьбог – «дневной, светлый бог».
Однако, и само праславянское «день» является производным. В конечном итоге оно происходит от праиндоевропейского *dyeu или *dei (значок * перед корнем или словом означает, что исторических записей его неизвестно и речь идёт о гипотетической реконструкции), которое означало «сияние», и «мифопоэтические» производные от него. Здесь имеется в виду теория мифологического или мифопоэтического мышления: «всякое высказывание, содержащее в себе материал для абстрактных понятий, будет на уровне архаического общества и архаического языка неизбежно выражено только в форме тропа. Сколько-нибудь событийно развёрнутое высказывание неизбежно должно будет принять форму мифа, т.е. высказывания, в котором общая мысль передаётся через частное, но такое частное, которое является выражением общего, т.е. через тропы определённого семантического поля либо, чаще, его части – семантического ряда или пучка» [14, с. 28]. Об этом же писали К. Леви-Строс, Я.Э. Голосовкер, О.М. Фрейденберг, Е.А. Торчинов и др. Итак, индоевропейскими тропами, производными от *dyeu (и омонимичными ему) предполагают: «небо», «солнце», «божество», «день»[22]. Нельзя не заметить, насколько удачно эти значения согласуются со сказанным выше о Дажьбоге. Сделав этот первый шаг в сравнительную индоевропеистику, попробуем развить этимологию и сопоставления имени.
Около 7000 лет назад предки славянской, балтской, германской, кельтской, италийской (романской), греческой, армянской, индоарийской и некоторых других языковых ветвей индоевропейской семьи ещё были одной культурной общностью с относительно едиными языком и религией, которую принято называть праиндоевропейской (далее ПИЕ религия)[43, с. 18; 35, с. 41]. Несмотря на отсутствие текстовых памятников того периода, эта идеология (как и праиндоевропейский язык) реконструируется путём сопоставления мифологий исторических индоевропейских народов, показывающих чрезвычайно близкое сходство в ряде мотивов, которое невозможно объяснить иначе как единством происхождения от общего корня.
Верховным божеством в ПИЕ религии, согласно реконструкциям, был *Tieu(s)-Pater [10, с. 791–792]. Первая часть его имени – и есть та самая основа *dyeu, означающая, видимо, изначально троп «сияющий», а позже ставшая эпитетом-синонимом для «неба». Вторая часть имени, исконно значащая «питающий», аналогичным образом обрела основное значение «отец». Небо-Отец, Дьеус-Патер, по всей видимости, первоначально нёс функцию плодородного персонифицированного неба, его супругой логично выступала (G)hem—Mater (Земля-Мать); от первой части его имени произошли слова греч. θεός (theos), лат. deus со значением «бог», а также санскр. dina, англ. day («день») и т.д. Однако позже, вероятно уже на этапе распада индоевропейской общности (длящегося в течение около 4000 лет вплоть до разделения балтов и славян примерно в середине I тысячелетия до н.э.[43, с. 18–19]), Небо-Отец начал в отдельных случаях сливаться, а в отдельных – противопоставляться и расходиться с богом грозы, чьё имя иногда реконструируют как праиндоевропейское *Per(k)uno [10, с. 792–794].
В итоге мы получаем несколько инвариантов верховных богов в разных индоевропейских мифологиях. Если у греков и римлян Зевс и Юпитер (ср. Tieus(-Pater)) это и Небо-Отец и Громовержец, то в индийской мифологии мы наоборот, видим конфликт верховного для эпохи Ригведы, XV–X вв. до н.э.[23, с. 375–376] Громовержца Индры (в Индии изначальный корень Громовержца относится к другому богу грозы и дождя – Парджанье [10, с. 795–796]) с заменяемым и вытесняемым им богом неба Дьяус-Питой (санскр. Dyauṣpitṛ), не имеющим черт бога грозы, но выступающим супругом Земли-Матери Притхиви [23, с. 190]. Имя громовержца у греков можно проследить в словах βροντή (bronte) и особенно κεραυνοί (kerauno), означающих гром и молнию, встречающихся в эпитетах Зевса, что вновь доказывает слияние архетипов Неба и Грозы в греческой мифологии. Индра же в Ригведе IV.18.12–13 «уничтожил отца, схватив его за ногу»[39, с. 381]; а по предыдущей сукте (IV.17.1, 4) видно, что это мог быть Дьяус: «ты велик, о Индра. Это за тобой Земля (и) Небо (Притхиви и Дьяус) с готовностью признали власть <…> Небо (Дьяус) считается твоим родителем, отцом прекрасного сына. Создатель Индры – это лучший творец»[39, с. 378]; противостояние Дьяуса и Индры читается по многим гимнам Ригведы. Аналогично, Зевс (сменивший через свергнутого им отца Кроноса царствующего Небо-Отца Урана) в гневе убил молнией Язиона ((T)ieus ?), с которым, согласно Одиссее (V.125–128) возлежала Земля-Мать Деметра [34, с. 59]. Германский Тиу (ср. Tieu), известный исландским источникам как Тюр, по мнению исследователей назван одним из верховных богов германцев уже Тацитом, сравнившим в «Германии» (гл. 9) его с Марсом [49, с. 462–463, 846], между тем как в связи с Громовержцем Тором упомянута «Ёрд, мать Тора»[46, с. 56] – дословно её имя значит «земля», а один из эпитетов, Фьёргюн, связан с основой *Perkuno [48, с. 36, 113; 46, с. 92, 163, 230]. Кельтский Таранис даёт этимологическую перекличку как с хеттским Тархуном (Тешубом) и германским Тором, так и балтским Перкунасом и славянским Перуном – всё это божества грозы. В то же время, праиндоевропейский корень неба у кельтов сохранился в имени ирландского Дагды, «доброго бога». Крупнейший отечественный кельтолог, Н.С. Широкова отмечает: «“Всеотец”. Этим именем Дагда напоминает Диспатера, которого, по утверждению Цезаря, галлы считали своим отцом» (см. ниже) и сопоставляет его ещё с хтоническим Донном (ср. Дабог), и в то же время солнцем; а также богом-царём ирландцев Нуаду [60, с. 305–319]. Любопытно, что В.П. Калыгин сравнивал Дагду и Дажьбога по функциям и этимологии. Имя Дагда «восходит к пракельт. *dago-dēvo “хороший бог” (в смысле совершенства, полноты)», а его эпитет – «Всеотец» коррелирует с «дажьбожьими внуками» СПИ. О Дагде исследователь утверждает, что «он в конечном счёте является ирландской “модификацией” индоевропейского Дьяуса»[24, с. 66].
Наиболее же близкими славянам в индоевропейской семье выступают балты. Представляется, что т.н. гипотеза балто-славянской общности (II–I тыс. до н.э.) на сегодняшний день является наиболее популярной; она гласит, что славянские и балтские языки происходят от одного балтославянского праязыка (аналогично – народы) [13]. Несмотря на крайнюю скудость и отрывочность сведений об их язычестве в средние века, его остатков на удивление много в богатом фольклоре латышей и литовцев [18]. Колоссальный пласт архаики сохранили дайны – короткие эпические песни, в большом количестве (сотни тысяч) собранные этнографами в XIX–XX вв. Значимым богом их религии выступает Перкунас, бог грозы, чьё имя явно перекликается со славянским громовержцем Перуном. Его противником часто выступает Велняс или Велс, слившийся после христианизации с дьяволом, а до этого – выступающий в роли владыки загробного мира и покровителя скота (ср. у славян ПВЛ, 907 год: «..клялись те своим оружием и Перуном, своим богом, и Волосом, богом скота» [37, с. 85], см. также 971 год [37, с. 123] и «внук Велесов» СПИ [45, с. 37]). В разных комбинациях часто разыгрываются свадьбы, или последующие за ними измены среди уже упоминавшихся Менуо (бог-Месяц) и Сауле (богиня-Солнце); иногда их заменяют неназванные «дочери» или «сыны» тех или иных озвученных персонажей. Среди божеств присутствует и Земес-Мате (дословно с латышского «Земля-Мать»), хтоническая богиня. Переклички со славянскими Мокошью и Рожаницами дают такие балтские богини как Лайма, Декла и Карта, связанные с судьбой и женской долей («Деклицы» как эпитет Рожаниц известен и славянам; в ряде южнославянских языков это слово значит «девочка»)[28]. Подобно славянскому Сварогу, у балтов кузнецом выступает Кальвис или Телявель; имеет черты сходства со Стрибогом бог ветров Вейопатис. Обширные параллели проводятся и с другими индоевропейскими язычествами.
Однако, в балтской мифологии «первое место занимает бог Диевас, обитающий на небе, главный среди богов. <…> В некотором отношении к богу (подчинение, зависимость, но иногда – предшествование во времени, ср. латыш. Vecais Tevs, “старый отец”) находится громовержец Перкунас»[18]. Здесь мы видим типичную для «потомков» ПИЕ религии борьбу между Небом-Отцом (Диевас, ср. Tieus) и Громовержцем (Перкунас) за первенство; кроме вариативности «кто кому отец», в дайнах она может проявляться и, например, в том, кто выступает супругом по отношению к Земес-Мате, (вспоминается славянская фольклорная Мать Сыра-Земля). Всё это, как представляется, выглядит вполне логичным и объяснимым; балтийская мифология предстаёт для нас стержнем типичной индоевропейской религии, и славянские параллели, иногда доходящие даже до почти полного тождества имён, не вызывают удивления. Странно другое.
«Стоило бы предположить у славян такую же подспудную борьбу громовержца за старшинство в пантеоне с богом неба, какую у греков Зевс вёл с Хроносом, а у индоариев Индра (а может быть, ещё замещённый им позже Парджанья) с Дьяусом»[25, с. 139]; а у балтов Перкунас с Диевасом. Если для индоевропейцев имеет место противостояние Неба-Отца и Громовержца в том случае, если они не слились (как у греков и римлян), и наши культурные и «генетические» соседи балты (как и германцы и кельты) не отождествили их, то почему при очевидности параллелей верховных богов балтов славянским (Перкунас–Перун; Вельняс–Велес и т.д.) мы не видим буквально напрашивающейся параллели Диевасу? Где тот самый Небо-Отец, ставший преемником праиндоевропейского Дьеус-Патера, у славян?!?
Этот вопрос поднимался несколькими учёными. Некоторые западнославянские исследователи, прежде всего Г. Ловмянский, предполагали на эту роль Сварога и Перуна ([29], ему возражал, например: [11, с. 160]). Но несомненно, что Перун – именно Громовержец, и в славянских источниках мы не видим его роли отца. В СПИ, где Перун вообще не упоминается, славяне или князья – «дажьбожьи внуки». Что касается Сварога, действительно имеющего черты отца (ПВЛ, 1114), то его теоним упоминается в указанной форме лишь один раз, что было бы странно для верховного бога. В других вариациях – Сварожич – речь в случае восточных славян явно идёт об Огне, в случае же полабских (западных) об одном из многих военных богов-оракулов. Распространённость корня сваро- даёт возможность предполагать праславянский образ [32, с. 394–395], но для признания его верховным – крепких оснований нет. Представляется, что Г. Ловмянский (к тому же во многом отождествлявший со Сварогом Перуна) сам «возвысил» Сварога, пытаясь развить свою не получившую признания концепцию о славянском прамонотеизме [4, с. 54; 25, с. 47].
Другие исследователи считали, что на эту роль может претендовать Стрибог, представляя этимологию его имени как «отец-бог»[7; 40, с. 431, 439, 446–447; 41, с. 432]. Но, как замечает В.Н. Топоров, «сейчас, видимо, нужно отказаться (или во всяком случае серьёзно пересмотреть) от выведения первого элемента этого имени из слова, обозначающего отца (и.-е. *patri>слав. stri), как это делалось многими и толковать stri— как императив от глагола stьrti “простирать”, “распространять”, как это и предлагал в своих работах Р.О. Якобсон»[54, с. 529; 57, с. 3.777]. К тому же, функции Стрибога довольно прозрачны: по цитате СПИ «ветры, Стрибожьи внуки»[45, с. 38] выявляется его функция как бога, связанного с атмосферой.
Нетрудно заметить, что ни у Сварога, ни у Перуна, ни у Стрибога нет никакой корреляции имени с основой *Tieus, которая видится в данном случае основной. Из персонажей славянской мифологии она есть у Дива и Дия (Дыя), которых нужно разделять. Так, в СПИ (и только там) упоминается Див: «встрепенулся Див, кличет на вершине дерева, велит прислушаться земле неведомой», «уже бросился Див на землю»[45, с. 37, 40]. Единого мнения о природе Дива – нету, но божеством учёные его характеризуют крайне редко: или это демон, или же, чаще, мифологическая или даже обычная птица [47, с. 110‒114]. Что касается Дыя, то скорее всего это слово литературного происхождения. Н.М. Гальковский приводит ряд неоспоримых примеров из древнеславянской переводной литературы, когда это имя используется в качестве варианта передачи имени Зевс, который часто у греков назывался также Δίας (Dias, например, в той же кн. I «Хронографии» Малалы: Ζεύς ον Δίαν, «Зеоусъ его же и Дыя наричют» и т.д.). «Итак, Дий или Дый – бог дождя и неба, т.е. Зевс. Впрочем, у нас это слово употреблялось в значении языческого бога вообще. Наши предки Дию не поклонялись. На наш Олимп Дий попал благодаря знакомству древних книжников с византийской исторической литературой»[9, с. 11–12]. Уточняя, можно предположить, что славяне сохраняли инвариант этого корня как индоевропейское слово «божественное» (ср. слав. «диво» и *Tieu), но не считали именем, и вообще, вспоминали его лишь столкнувшись со сходными словами чужих языков. Аналогично, в исландской «Младшей Эдде» боги однажды называются «дии»[46, с. 162], однако это имя – лишь одно из малоупотребимых, позабытых эпитетов.
И вот здесь мы предлагаем вернуться к Дажьбогу. Обращаясь к его описаниям по источникам, необходимо упоминание «главного для древнерусских книжников признака Сварога и Дажьбога: в первую очередь здесь выступает функция покровительства, царствования. Именно это важно в хронике Малалы для эллинских богов, и, очевидно, именно этим признаком должен был бы руководствоваться и тот древний книжник, который искал <…> соответствия античным персонажам. Нам известен только один бог, который в древнерусском предании о языческой мифологии мог претендовать на эту роль – это Дажьбог, которого “Слово о полку Игореве” (источник в данном случае независимый) называет покровителем русичей (точнее говоря, русичи в нем названы внуками Дажьбога)»[17]. Итак, всё сходится. Славянский Небо-Отец Дажьбог становится предком «дажьбожьих внуков», он правит своим народом. Вспомним помимо соотнесения с царём во фрагменте «Хронографии» и возможное главенство сербского Дабога, чей образ после христианизации был превращён в антагониста – наподобие того, как в римской мифологии имя Диспатера (ср. Tieus—Pater) оказалось лишь эпитетом владыки «низшего мира» хтонического Плутона (греч. Аида) вследствие, очевидно, абсолютизации Юпитера. Любопытно, что согласно Цезарю («Записки о галльской войне», VI.18), «галлы все считают себя потомками отца Дита и говорят, что таково учение друидов» (в лат. оригинале: лат. Dite patre [58, с. 127]; ср. роль предка у Дажьбога и Дабога), подобные индоевропейские параллели можно продолжать. Мы уже видели, насколько похожи функциональные описания Дажьбога и Tieus—Pater, вопрос остаётся за этимологией.
Не будучи специалистом в данной области, мы обратились к крупному индоевропеисту Вяч.Вс. Иванову, который в личной беседе сказал нам, что подобная реконструкция не лишена сложностей, хотя и возможна для рассмотрения. Основа Дажь- коррелирует с Tieus-, а «-бог» могло заменить «-отца» (-Pater), тем не менее, сохранившись как функция в мифологии («дажьбожьи внуки» СПИ), определённое созвучие есть у «деда» и «Даждь-» (здесь мы говорим не о родстве этих слов, а скорее о возможных вариантах народной этимологии). Повторим уже приведённую цепочку: имя Дажьбога происходит от праславянского *дагъ (день); в то время как само слово «день» несомненно, восходит к праиндоевропейскому Tieus. Вот схема нашей реконструкции:
праиндоевропейское *Tieus > праславянское *дагъ (день) > праславянское Дажь-
Общепризнанная связь славянского «бог» с иранским «bhaga» не вызывает у нас нареканий. Дажьбог распределяет блага, а его имя можно толковать как «Даятель-бог»; у Р.О. Якобсона и его стронников в значении «Дающий богаство»[62, с. 617; 11, с. 169; 54, с. 526–531]. Тем не менее, весьма разумным кажется замечание Л.В. Соколовой: «..этимология имени Дажьбога, предложенная ещё Д.Н. Дубенским: <…> “дающий бог”. <…> Г. Крек, Ягич, Якобсон <…> вторую [часть теонима – О.К.] (-бог) считали существительным со значением “богатство, благосостояние, имение, благодать”, т.е. “дающий благосостояние”, “податель богатств”. Однако, учитывая имя другого бога – Стрибог, а также древнерусские имена типа Хвалибог, Молибог (см. в работе И. Первольфа), следует отдать предпочтение этимологии Дубенского» [47, с. 79–82]. И всё же в целом мы не видим большого расхождения в этих схемах; общеизвестно, что для мифопоэтического мышления свойственна множественность вариантов объяснения, которые видятся не противоречащими, а скорее, взаимодополняющими («миф обязательно вариантивен»[14, с. 47, 71] и т.д.). Происходя от имени бога неба ПИЕ религии, и означая «день», в народной этимологии славян теоним Дажьбог вполне мог толковаться по созвучию с корнем «дажь» («дать» в повелительном наклонении).
Итак, по нашему мнению, Дажьбог является славянским вариантом развития образа Неба-Отца (Tieus—Pater), подобно тому, как Диевас выступает им у балтов, Тиу (Тюр) у германцев, а Дагда у кельтов. За это говорят как собственно черты предка у Дажьбога («дажьбожьи внуки» СПИ), так и этимология. В то же время, особой «конкуренции» в этой области у Дажьбога нет, поскольку он единственный сочетает и возможности этимологического развития из Tieus—Pater, и функциональное сходство с ним. Мы не считаем нужным окончательно отрицать также его солярную природу, её вполне могли так или иначе связывать с архетипом Неба-Отца, как и в других индоевропейских мифологиях, но, на наш взгляд, она однозначно не была доминирующей: основным солярным богом выступал Хорс. Если для воинского сословия и князей наиболее близок был воин-Громовержец Перун [20, с. 122], то для простого народа, особенно земледельца, видимо, значимее был культ Дажьбога, чья функция «отца» относилась не только к народу и людям, но и к урожаю, достатку в земледелии и скотоводстве, и в этом смысле он действительно податель и распределитель благ. Конечно, и Перун в какой-то мере отвечал за урожай, будучи связанным с дождём, но кажется, трудно назвать хоть одно божество славянского пантеона, которое не было бы как-то связано с плодородием. Тем не менее, акцент на нём Дажьбога был особым.
Завершим же статью мы несколькими предположениями, напрашивающимися из вывода о мифологической функции Дажьбога как Неба-Отца. Несомненно, что для исторического времени главой праславянского пантеона стал Громовержец Перун. Прокопий Кесарийский уже ок. 550 года пишет («Война с готами», III.14): славяне и анты «считают, что один только бог, творец молнии, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды»[38, с. 298]. Хотя имя Перуна впервые фиксируется намного позже, мало кто сомневается, что речь здесь идёт именно о нём [32, с. 392]. Тем более бесспорным первенство Перуна выявляется по древнерусским текстам, прежде всего по ПВЛ, где он часто выступает в качестве единственного и как бы собирательного представителя всех языческих богов Руси. Можно предположить, что Перун в основном вытеснил (например, как это было и в случае с вытеснением Дьяус-Питы Индрой в Ригведе) Дажьбога с его главенствующей некогда роли, однако культ последнего не был забыт и не слился целиком с Громовержцем (как это произошло у греков), а стал актуален для невоинственной, аграрной части населения, которая сохранила не только его почитание, но и функции (предка, подателя благ). Ярким примером, когда прежний верховный бог, происходящий от Tieus-Pater, теряет главенство, но не только не забывается, а и сохраняет место в высшем пантеоне, является скандинавское язычество с культом Тюра. Тем не менее, возможно, что (изначально) Перун в мифологии представал сыном Дажьбога. Эта аграрная сущность Дажьбога легко объясняет как отсутствие Волоса (вторичного по отношению к Дажьбогу аграрного бога) в капище Владимира, описанного в ПВЛ, 980, так и место идола Дажьбога в начале списка – сразу за Перуном и солнечным Хорсом (который, как и Перун, также мог пониматься в некоторой степени богом князя и дружины, т.е. элиты, здесь вспоминается былинный эпитет Владимира «Красно Солнышко», и вообще, солярная символика князей в древнерусской культуре, например: [45, с. 469]). Можно предположить, что если солярные черты действительно присущи Дажьбогу, то они были вторичными, приписанными позже, тем не менее, сближая его с Хорсом. Продолжая индоевропейские параллели, можно предполагать супругой Дажьбога (и матерью Перуна?) Землю-Мать (ПВЛ, 988: «земля мати»[37, с. 160–161]), которую не следует отождествлять с Мокошью (её в рамках «теории основного мифа» видели как раз женой Перуна [21], что нам также видится логичным).
В то время как культ Перуна в некоторой степени сохранился в почитании св. Ильи, Мокоши – в поклонении св. Параскевы и т.д., подобно Диевасу у балтов, «не исключено, что языческие восточные славяне почитали в Дажьбоге христианского Бога»[30, с. 295]. Как и у Диеваса, в случае Дажьбога (и Перуна) «этимологическая связь имени бога с названием солнца (ясного неба) уже не осознаётся»; «Бог (Диевс), отец неба, и Перконс, бог грома и молнии, <…> противопоставлены друг другу, как в прусской и литовской мифологиях, и тем не менее нередко смешиваются друг с другом»; «в целом Диевас пассивен и стоит вне мифологических сюжетов, чем напоминает высшего бога в ряде сибирских и африканских мифологий. В качестве наиболее активного, грозного и мощного мифологического персонажа выступает Перкунас»[18] (возможно, последние две цитаты применимы и к корреляциям Земли-Матери и Мокоши у славян), ср. с этим индийскую традицию: «образы Дьяуса и Притхиви, всеобщих родителей, слабо антропоморфизованы в гимнах» Вед [23, с. 190]. Подобный образ принято называть deus otiosus – «удалившийся бог», и Дажьбог вполне мог быть таковым у славян, что, кажется, исключено в отношении Перуна: по источникам у Дажьбога вполне вырисовывается роль отошедшего правителя золотого века и первопредка, в то время как иных мифологем не намечается. Перун же – активен в реконструируемых сюжетах и зафиксированных полесским фольклором преданиям, где он борется с хтоническим началом [20, с. 5, 63, 75–78]. Аналогично Тюр у скандинавов является малозаметным персонажем в мифологии, особенно на фоне активного Тора, воюющего с великанами.
Не представляет противоречия и одновременная с функцией отцовства характеристика Дажьбога как сына Сварога: в индоевропейских мифологиях верховные боги предстают младшим поколением. Например, олимпийские божества во главе с Зевсом представляют собой третье поколение, борясь против предшествующих им титанов; также у кельтов-ирландцев боги, «Племена Богини Дану», появившиеся позже, сражаются за власть над Ирландией с великанами фоморами в эпической «Битве при Маг Туиред»[5]. Аналогично, у германцев Имир и другие великаны существуют до богов, которые появляются позже и воюют со своими предшественниками. В «Ведах» индийцев тоже известно это представление, там есть «два вида существ: боги и асуры [великаны – О.К.]. И боги были моложе, асуры – старше. Они боролись друг с другом за эти миры» [55, С.72]. Наконец, кроме того, представление об отцовстве Сварога могло возникнуть позже или даже вследствие утраты Дажьбога своего главенствующего положения ввиду последующего возвышения Перуна, также коррелирующего с мифами о младшем сыне [20, с. 178].
Аверинцев С.С. От берегов Босфора до берегов Евфрата. М.: Мирос, 1994. 352 с.
Адам Бременский. Деяния архиепископов Гамбургской церкви / Пер. с лат. И.В. Дьяконова // Славянские хроники. М.: Русская Панорама, 2011. 584 с.
Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь. М.: Академический проект, 2009. 544 с.
Бесков А.А. Анализ мифологической составляющей восточнославянского язычества: дисс. … канд. филос. наук. Н. Новгород, 2008. 172 с.
Битва при Маг Туиред / Пер. с ирл. С. В. Шкунаева // Похищение быка из Куальнге. М.: Наука, 1985. С. 351–380. 504 с.
Васильев М.А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси: Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя Владимира. М.: Индрик, 1998. 328 с.
Вей М. К этимологии древнерусского «Стрибог» // Вопросы языкознания М.: Изд-во АН СССР, 1958. №3. С. 96–99. 154 с.
Велесова книга / Пер. и комм. В. и Ю. Гнатюк. М.: Амрита-Русь, 2006. 268 с.
Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. М.: Академический проект, 2013. 576 с.
Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. В 2-х т. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984. Т. 2. 890 с.
Гейштор А. Мифология славян. М.: Весь мир, 2014. 408 с.
Гельмольд из Босау. Славянская хроника / Пер. с лат. Л.В. Разумовской // Славянские хроники. М.: Русская Панорама, 2011. 584 с.
Дыбо В.А. Балтийская сравнительно-историческая и литовская историческая акцентологии // Аспекты компаративистики 1. М.: Изд-во РГГУ, 2005. С. 177–211. 500 с.
Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. М.: Едиториал УРСС, 2004. 252 с.
Зайковский Э. Камни на сакральных памятниках Беларуси // Таинственная Беларусь: материалы конференции (г. Минск, 25 янв. 2015 г.) Минск: Регистр, 2015. 108 с.
Золотарев А.М. Родовой строй и первобытная мифология. М.: Наука, 1964. 328 с.
Зубов Н.И. Научные фантомы славянского Олимпа // Живая старина. М.: ГРЦРФ, 1995. № 3 (7). С. 46–48. 68 с.
Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Балтийская мифология // Мифы народов мира: Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1980. Т. 1. С. 153–158. 654 с.
Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Дажьбог // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М.: Эллис Лак, 1995. С. 153–154. 416 с.
Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. М.: Наука, 1974. 342 с.
Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. К реконструкции Мокоши как женского персонажа в славянской версии основного мифа // Балто-славянские исследования. 1982. М.: Индрик, 1983. С. 175–187. 288 с.
Индоевропейский праязык. Этимологический сайт Игоря Гаршина. Э/р.: http://www.proto-indo-european.ru Использовались материалы праиндоевропейских этимологических словарей С.А. Старостина, К. Уоткинса, Ю. Покорного. (Дата обращения 15.11.2015).
Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь / Под ред. Альбедиль М.Ф. и Дубянского А.М. М.: Республика, 1996. 576 с.
Калыгин В.П. Этимологический словарь кельтских теонимов. М.: Наука, 2006. 184 с.
Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. СПб.: Евразия, 2004. 480 с.
Кузнецова В.С. Дуалистические легенды о сотворении мира в восточнославянской фольклорной традиции. Новосибирск: НИЦ ОИГГМ СО РАН, 1998. 250 с.
Кутарев О.В. Неоязычество Европы // Философия и культура. М., 2014. № 12. С. 1806–1809. 120 с.
Кутарев О.В. Характеристика Рода и Рожаниц в славянской мифологии: интерпретации Б. А. Рыбакова и его предшественников // Религиоведение. 2013. № 4. С. 170–177. 204 с.
Ловмянский Г. Религия славян и её упадок. СПб.: Академический проект, 2003. 512 с.
Мансикка В.Й. Религия восточных славян. М.: ИМЛИ РАН, 2005. 368 с.
Мартынов В.В. Сакральный мир «Слова о полку Игореве» // Славянский и балканский фольклор: Источники и методы. М.: Наука, 1989. С. 61–78. 272 с.
Нидерле Л. Славянские древности. М.: Новый акрополь, 2010. 752 с.
Обнорский С.П. Прилагательное хороший и его производные в русском языке // Язык и литература. Л.: РАНИОН, 1929. Т. 3. С. 240–258. 336 с.
Одиссея / Пер. с греч. В.В. Вересаева. М.: ГИХЛ, 1953. 320 с.
Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. М.: Знак, 2004. 416 с.
Письменные памятники истории Древней Руси. Аннотированный каталог-справочник. СПб.: БЛИЦ, 2003. 384 с.
Повесть временных лет / Пер. с др.-рус. О.В. Творогова // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 2000. Т.1. С. 62–315. 544 с.
Прокопий Кесарийский. Война с готами. М.: АН СССР, 1950. 520 с.
Ригведа. В 3-х т. / Пер. с санскр. Т.Я. Елизаренкова. М.: Наука, 1989. Т. 1. 768 с.
Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М.: Наука, 1988. 784 с.
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981. 608 с.
Саньтии Веды Перуна // Славяно-Арийские Веды. Омск: Аркор, 2001. (Т. 1) С. 13–73 (комментарии: С. 121–134). 256 с.
Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М.: Наука, 1979. 160 с.
Словарь русских народных говоров. Вып. 36. СПб.: Наука, 2002. 348 с.
Слово о полку Игореве / Пер. с др.-рус. О.В. Творогова // Воинские повести Древней Руси. Л.: Лениздат, 1985. С. 27–44. 496 с.
Снорри Стурлусон. Младшая Эдда / Пер. с др.-исл. О.А. Смирницкой. Л.: Наука, 1970. 140 с.
Соколова Л.В. Дажьбог // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. / Отв. ред. О.В. Творогов. СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. Т. 2. 334 с.
Старшая Эдда / Пер. с др.-исл. А.И. Корсуна. СПб.: Азбука, 2001. 464 с.
Тацит. Германия // Тацит. Анналы. Малые произведения. История / Пер. с лат. А.С. Бобовича. М.: АСТ, 2003. 992 с.
Творогов О.В. «Влесова книга» // ТОДРЛ. СПб.: Наука, 1990. Т. 43. С. 170–254. 446 с.
Творогов О.В. Материалы к истории русских хронографов. 2. Софийский хронограф и «Хроника Иоанна Малалы» // ТОДРЛ. Л.: Наука, 1983. Т. 37. С. 188–192. 424 с.
Творогов О.В. Хроника Иоанна Малалы // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л.: Наука, 1987. Вып. 1. С. 471–474. 496 с.
Титмар Мерзебургский. Хроника / Пер. с лат. И.В. Дьяконова. М.: Русская Панорама, 2009. 256 с.
Топоров В.Н. Об иранском элементе в русской духовной культуре // Святость и святые в русской духовной культуре. М.: Гнозис, 1995. Т.1. 875 с.
Упанишады / Пер. с санскр. А.Я. Сыркина. М.: Восточная лит-ра, 2003. 784 с.
Фаминцын А.С. Божества древних славян. СПб.: Алетейя, 1995. 368 с.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М.: Прогресс, 1986. Тома I–IV.
Цезарь. Записки о галльской войне / Пер. с лат. М.М. Покровского. М., Л.: АН СССР, 1948. 570 с.
Чернышева М.И. О соотношении славянского перевода «Хроники» Иоанна Малалы и её греческого текста // ТОДРЛ. Л.: Наука, 1983. Т. 37. С. 222–228. 424 с.
Широкова Н.С. Мифы кельтских народов. М.: АСТ, 2004. 432 с.
Шусторович Э.М. Хроника Иоанна Малалы и античная традиция в древнерусской литературе // ТОДРЛ. Л.: Наука, 1968. Т. 23. С. 222–228. 343 с.
Якобсон Р.О. Роль лингвистических показаний в сравнительной мифологии // VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. Москва (3–10 августа 1964 г.): Труды. Т.V. М.: Наука, 1970. С. 608–619.
Brückner A. Mitologja słowiańska. Krakow: NAU, 1918. 152 s.
Saxo Grammaticus. Danorum Regum Heroumque Historia. Books X–XVI. / Transl. from Latin to English by E. Christiansen. Oxford: B.A.R., 1981. Vol. II. 347 s.
Веда Словена. Български народни песни // Изд. С.И. Верковичъ. Београдъ: Државна штампарня, 1874. Кн. 1. 548 с.
Веда Словенахъ. Обрядни песни отъ язическо врѣмя // Изд. С.И. Верковичъ. СПб.: Типографiя М.А. Хана, 1881. Кн. 2. 584 с.
Дабог // Вила: лист за забаву, књижевност и науку. / Послао Ж. Радоњић. Изд. С. Новаковић. Београд: Државна штампарня, 1866. Година друга. С. 642. 836 с.
Из прича о створењю света // Вила: лист за забаву, књижевност и науку. / Послао Ж. Радоњић. Изд. С. Новаковић. Београд: Државна штампарня, 1867. Година трећа. С. 655–656. 836 с.
Ляўкоў Э.А. Маўклівыя сведкі мінуўшчыны. Мiнск, 1992. 216 с.
Песме и обичаи укупног народа србског // Скупио и издао М.С. Милојевић. Београд: Државна штампарня, 1869. Књ. I: Обредне песме. С. 1–6. 248 с.
Чаjкановић В. О врховном Богу у староj српскоj религиjи // Чаjкановић В. Мит и религиjа у срба. Београд: Култура, 1973. С. 307–526.
Чаусидис Н. Дажбог во хрониката на Малала и неговите релации со други средновековни и фолклорни извори // Studia Mythologica Slavica 3. Ljubljana: ZRC SAZU, 2000. S. 23–42. 248 s.
https://uralianheath...ажьбог-как-раз/
#3

 Опубликовано 07 Февраль 2017 - 16:42
Опубликовано 07 Февраль 2017 - 16:42

ISBN 978-5-85219-501-2
Аннотация: в работе рассматривается корпус источников с XIV до середины XIX века, в которых возникали новые божества якобы славянского язычества и представления о них, и прослеживаются связи между этими памятниками. Данные артефакты различны: это как тексты, так и визуальные образы (изображения божеств); причём среди текстов – летописи, научные исторические работы, глоссы к энциклопедиям, исследования фольклора, художественные произведения и т.д. Различны также причины и механизмы возникновения новых божеств и образов, нередко получающих в культуре широкое хождение. В таком ключе работа предстаёт как новым шагом в борьбе с фальсификацией истории, так и культурологическим обзором, касающимся литературы, истории и языческой религии
https://www.academia...скому_язычеству
#4

 Опубликовано 06 Февраль 2022 - 17:33
Опубликовано 06 Февраль 2022 - 17:33

Наверное в эту тему будет лучше.
Чуть меньше месяца назад в паблике "Варварская Европа" выходила довольно интересная статья про широко известные в узких кругах фигурки из Велестино. Хочу ее сюда сохранить.






























Взято отсюда
https://vk.com/@roman_iron_age-figurki-iz-velestino-slavyanskie-bogi-ili-hristianskie-svyat
- valerios, Ravnur, Digenis и ещё один пользователь сказал "Спасибо"
#5

 Опубликовано 13 Февраль 2022 - 00:58
Опубликовано 13 Февраль 2022 - 00:58

Может офтоп. А может и не очень... Не могу отделаться от мысли, что некоторые "странные звери" из Велестино - как будто со сказочного мира Марии Прыймачэнко. Народной художницы, которая всю жизнь прожила в селе Болотня на Полесье. " Источники ее вдохновения в настенных росписях хат, свадебных изделиях из теста в виде фантастических зверей. Её творчество вобрало многовековую школу народного искуства - орнаменты старинных ковров, вышивок, теснений. ![]()
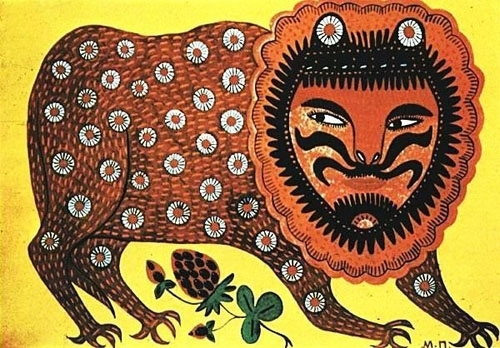


- "Спасибо" сказали: Kavalaksala и Tora_sama
Посетителей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться

 Наверх
Наверх


