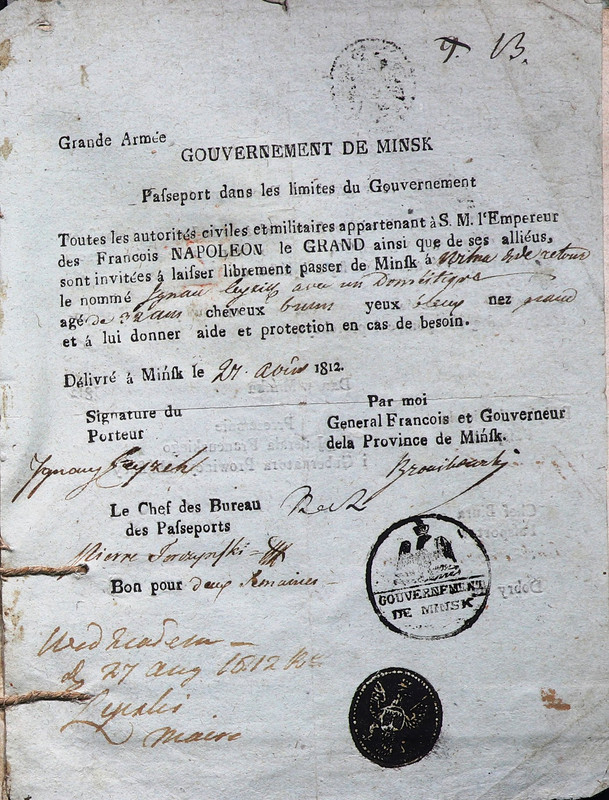Лукашевич А. М. Политическая ситуация в белорусских губерниях накануне войны 1812 г. в оценке российских служб политического сыска и контрразведки
Российские и славянские исследования : науч. сб. Вып. 4. Минск. 2009. С.403 - 413.
Приближающийся 200-летний юбилей событий 1812 г., несомненно, вызовет значительный интерес в обществе к проблеме наполеоновских войн. В этой ситуации вполне понятно желание историков расставить все точки над «і». За последнее десятилетие в российской историографии произошли существенные изменения в переосмыслении событий войны 1812 г. на белорусских землях [1; 2]. В то же время в отечественной исторической науке наблюдается своего рода «застой». И хотя из школьных и вузовских учебных программ исчез не отвечавший белорусским реалиям термин «Отечественная война», в ряде учебных пособий (даже с грифами Министерства образования) он упорно сохраняется. Во многом это объясняется инертностью общественного сознания, нежеланием историков «советской школы» в угоду своим политическим пристрастиям разрушать устоявшиеся стереотипные оценочные клише.
В то же время у российских историков проявилась еще одна крайность - попытка показать события 1812 г. на белорусских землях как чисто польское или литовское явление. Ошибочное представление о западных белорусских землях как этнически литовских и использование термина «Литва» в качестве этнонима, а не политонима, ведет к неверной «этнической окраске» административно-управленческих структур и воинских формирований. Поэтому повсеместно встречаются «литовские войска» (вместо «войска Великого княжества Литовского»), «литовское правительство» (вместо «правительство Великого княжества Литовского») [1, с. 421-422, 423].
Безусловно, определенную «путаницу» в смысловую нагрузку терминов вносят законодательные акты изучаемой эпохи. Действительно, в начале XIX в. в отношении этнических белорусских земель, которые в 1801-1812 гг. входили в состав пяти западных губерний (Витебская, Могилевская, Минская, Гродненская и Виленская) и Белостокской области (с 1807 г.), использовались различные термины. В соответствии с указом от 9 сентября 1801 г. «белорусскими» именовались Могилевская и Витебская губернии, а «литовскими» - Гродненская и Виленская. Минская губерния, на которую до середины XIX в. распространялся политоним «Литва», по российским законодательным актам конца XVIII - начала XIX в. не относилась ни к «Литве», ни к «Белоруссии». В административном отношении эта губерния и вовсе была подчинена киевскому военному губернатору.
Однако это совершенно не означает, что все перечисленные выше губернии не были белорусскими в этническом смысле. Ведь большую часть населения Витебской, Могилевской, Минской, Гродненской и даже Виленской губерний и Белостокской области составляли белорусы. Конечно, если только не считать, как это было принято в российских правящих кругах XIX в., белорусов-католиков «поляками», а белорусов-православных «русскими». Впрочем, в рассматриваемую эпоху в отношении всех западных губерний, включенных в состав Российской империи после разделов Речи Посполитой, использовались и вовсе примитивно-упрощенные термины: «польские провинции» или «польские губернии».
Несомненно, что все эти вопросы требуют более тщательного изучения. Поэтому в настоящей статье автор предлагает взглянуть на проблему 1812 г. под несколько другим углом - через оценку предвоенной ситуации на белорусских землях высшим российским руководством. При этом важно понять не только объективность оценки политической ситуации, но и правильность прогноза относительно поведения различных социальных, конфессиональных и национальных групп в условиях войны, наличия у российского правительства «союзника» на белорусских землях. Предлагаемый взгляд на эти сложные проблемы является беспристрастным, поскольку он основан на секретной информации, полученной от служб политического сыска и контрразведки, которые день за днем отслеживали ситуацию в своих «польских провинциях». В разные годы первого десятилетия XIX в. подобный тайный надзор осуществляли секретные комитеты (1805 г. и «13 января 1807 г.»), Комитет министров, особенная канцелярия Министерства полиции, Секретная экспедиция, а затем - особенная канцелярия военного министра, а также «Высшая воинская полиция». Именно к мнению сотрудников этих спецслужб в первую очередь прислушивался российский император Александр I, размышляя над судьбами своей империи и Европы.
Деятельность структур политического сыска. Общеизвестно, что начало царствования любимого внука императрицы Екатерины II было многообещающим. Одним из первых указов, изданных в 1801 г., он упразднил Тайную канцелярию, которая дискредитировала власть. Однако уже через четыре года Александр I восстановил в государстве политический сыск. Основанием для создания осенью 1805 г. в условиях войны с наполеоновской Францией секретного комитета послужило отсутствие у правительства достоверной информации о положении дел и политических настроениях населения в приграничных районах, а также необходимость проведения расследования по политическим делам во время отсутствия императора в государстве [3, c. 362-364; 4, c. 86].
Однако первый секретный комитет существовал только на бумаге. 13 января1 1807 г. его сменил «Комитет охранения общей безопасности», получивший свое официальное название по дате образования [5, т. XXIX, № 22425; 3, c. 165, 364-367]. Он был создан в разгар войны 1806-1807 гг. с Францией, и поэтому в деятельности комитета большое внимание уделялось ситуации в «польских провинциях».
Ближайшее окружение Александра I подозревало население западных губерний в нелояльности и готовности поднять антироссийское восстание [6, c. 26]. Поэтому с целью организации надзора за поведением и настроениями жителей в «польские провинции» были направлены специальные высокопоставленные уполномоченные. Представителем императора в Виленской, Гродненской, Минской и Волынской губерниях был назначен сенатор И. А. Алексеев [7, л. 41-41 об.]. В ход были пущены перлюстрация писем, доносы и сведения «информаторов». Сбором подобной информации занимались гражданские губернаторы, которые для этих целей использовали особо доверенных чиновников.
О том, что у российского правительства были основания опасаться за безопасность своих «польских провинций», свидетельствуют следственные документы «Комитета 13 января 1807 г.». Согласно донесениям гражданских губернаторов пронаполеоновские настроения действительно наблюдались среди значительной части магнатов и шляхты. При этом шляхта «белорусских» и «литовских» губерний не ограничивалась пассивным проявлением радости по поводу побед французских войск. Дворяне закупали и прятали продовольствие и фураж для будущих «освободителей», вели тайную агитацию [8, л. 111; 9, c. 95], работали на французскую разведку (унтер-цолнер Брестской таможенной заставы О. Подчашинский и др.) [7, л. 12-12 об., 14, л. 15-17 об., 60-61]. Свои симпатии к Наполеону I открыто демонстрировали католическое и униатское духовенство [9, c. 95]. Волнения наблюдались даже среди еврейского населения. Как сообщали в ноябре 1806 г. агенты литовскому военному губернатору А. М. Римскому-Корсакову, «в Бресте народ находится в большой тревоге, купцы жидовские прячут свои товары и мещане занимаются различными толкованиями, по той причине, что французы находятся в Варшаве, 25-ть миль только от Бреста» [10, л. 330 об.].
В феврале 1807 г., сообщая И. А. Алексееву о политических настроениях на Гродненщине, гражданский губернатор В. С. Ланской отмечал, что хотя он прямо и не может назвать «ни одной подозрительной особы», однако заметил склонность настроения обывателей «к перемене». Причину этого губернатор видел в «мечтательной вольности», неизжитой еще «из памяти народной прежнего правления». По мнению В. С. Ланского, носителем духа вольности являлась многочисленная мелкая шляхта. Губернатор считал, что ее «праздность» подстрекается «обольщениями неприятеля» и заграничными прокламациями. В итоге это оказывает сильное влияние на жителей края, «в коем огонь кроется под пеплом». При этом В. С. Ланской отмечал, что хотя среди благородного сословия есть небольшая часть «здравомыслящих» шляхтичей, знающих цену «благоденствиям» российского императора, однако и от нее невозможно ожидать «предосудительности». «При всяком неблагоприятном случае, - резюмировал губернатор, - от ужасов последствий, [она] останется безмолвною» [7, л. 42 об.].
В условиях войны 1806-1807 гг. российские власти также уделяли пристальное внимание надзору за еврейским населением. В создании Наполеоном I «Великого Сидреона» правительство увидело угрозу объединения в единый союз всех евреев Европы. Поэтому в марте 1807 г. министр внутренних дел граф В. П. Кочубей разослал начальникам западных губерний секретное письмо, в котором просил обратить особое внимание на поведение евреев [7, л. 66-66 об.]. Гражданские губернаторы незамедлительно приняли это указание к исполнению и поручили земской и гродской полиции осуществлять скрытый надзор за поведением и перепиской еврейского населения. В частности, в секретной инструкции гродненскому городничему В.С. Ланской предписывал «всеми возможными и неприметными способами наблюдать, не имеют ли евреи каковых-либо с парижским обществом непосредственных или удаленных сношений, в чем сношения сии состоять могут и какое понятие они вообще имеют о деянии сего общества» [7, л. 66 об.].
Однако еврейская часть населения Гродненской губернии, в отличие от правительства, была более озабочена вопросами улучшения своего материального благополучия путем контрабандной торговли и незаконных финансовых операций [11].
Серьезную обеспокоенность правящие круги испытывали и в отношении крестьянства. Российское руководство опасалось, что Наполеон I может превратить войну политическую, в войну социальную. Поэтому «Комитет 13 января 1807 г.» старался пресекать слухи о крестьянской вольности, которые существенно усилились во время войны. Личная свобода притягивала многих крестьян Российской империи, а действия Наполеона I в этом направлении во многих европейских странах лишь увеличивали число его сторонников. Не были исключением и белорусские крестьяне, которые в лице французского императора видели освободителя от ненавистного крепостничества [9, c. 98].
После разгрома российских войск под Фридландом 2(14) июня 1807 г., когда французские войска приблизились к пограничному Неману, правящие круги всерьез опасались за свои новоприобретенные земли. Общее паническое настроение в это время передал князь А. Б. Куракин. В письме к вдовствующей императрице Марии Федоровне от 10 июня 1807 г. он отмечал, что «польские провинции, где тлеет огонь восстания… наготове принять неприятеля и отделиться» [12, стб. 189]. И лишь подписание Тильзитского мира (25 июня - 6 июля 1807 г.) несколько разрядило напряженную обстановку в пограничье.
Политическая ситуация в оценке Комитета министров и Министерства полиции. После окончания войны с Францией. «Комитет 13 января 1807 г.» постепенно утратил свои функции [13, c. 227-228]. В 1808-1809 гг. многие вопросы, связанные с политическим надзором, входившие ранее в его компетенцию, перешли в ведение Комитета министров. Поскольку члены секретного комитета входили в состав Комитета министров, то фактически его заседания становились и заседаниями «Комитета 13 января 1807 г.». Однако они проходили в расширенном составе и были лишены ненужного налета секретности. При этом и эффективность решения обсуждаемых в Комитете министров вопросов была выше [14, т. 1, c. 1-87].
Впрочем, специальных структур, которые занимались бы выполнением секретных поручений, у Комитета министров не было. Поэтому основная информация о состоянии дел в западных губерниях в 1808 - начале 1810 г. поступала к ближайшему окружению императора по каналам Министерства внутренних дел. И лишь летом 1810 г. большинство высших полицейских функций были сосредоточены в особом государственном органе - Министерстве полиции (особенная канцелярия). Это министерство было создано в рамках реформы государственного управления, которая проводилась по инициативе М.М. Сперанского.
Для получения необходимых сведений министр полиции имел право непосредственно обращаться к чиновникам других ведомств через головы их начальников, а иногда и в совершенной тайне. В руках у министра (им стал генерал А. Д. Балашов) были сосредоточены колоссальные, предоставленные законом полномочия, канцелярский и следственный аппараты. В результате новое министерство превратилось в ведомство, развитие которого зависело лишь от способностей и наклонностей его руководителя [15]. После учреждения Министерства полиции большинство политических дел было сосредоточено именно в нем. Поэтому «Комитет 13 января 1807 г.», просуществовав формально до 17 января 1829 г. [16], еще накануне войны 1812 г. утратил свои полномочия.
После заключения Тильзитского мира Александр I поставил задачу исправить ситуацию в западном регионе. С этой целью контроль за поведением и умонастроениями белорусского населения был значительно усилен. Практически в каждую губернию были направлены специальные чиновники (А. А. Столыпин и др.), которые отслеживали ситуацию. Однако изначально власти столкнулись с огромным комплексом проблем.
Во-первых, серьезные проблемы у правительства вызывала нелегальная эмиграция населения. После создания Княжества (Герцогства) Варшавского (1807) сотни патриотически-настроенных лиц из западных губерний покинули пределы Российской империи. Они мечтали принять участие в строительстве нового государства, в котором видели преемницу Речи Посполитой. Особенно массовый характер переходы приобрели во время и после войны Франции с Австрией в 1809 г. Тогда польские войска князя Ю. Понятовского пополнились тысячами выходцев из России. Некоторые из магнатов за свой счет формировали воинские части, другие - С. Немцевич, Ф. Чацкий, К. Князевич, В. Пусловский - подстрекали молодежь к побегам за границу [14, т. 1, c. 310, 326-327, 337-338, 349].
В этой ситуации отдельные губернаторы (М. И. Комбурлей) настаивали на расширении своих полномочий, чтобы иметь право применять строгие меры к перебежчикам. Однако долгое время такие предложения не находили поддержки в правительстве [14, т. 1, c. 308, 337, 338]. И пока окружение Александра I колебалось, побеги в Княжество Варшавское из приграничных губерний достигли огромных размеров. Например, осенью 1809 г. только по Гродно и Гродненскому повету «отлучившимися» считалось более ста жителей. Среди тех, кто выехал в Княжество Варшавское, были не только магнаты, шляхта и мещане, но даже и крестьяне [17, л. 21-31; 18, s. 25-36].
Сохранение напряженной и слабо контролируемой обстановки в пограничных губерниях потребовало от правительства принятия экстренных жестких мер. Законодательные акты от 24 августа, 5 октября, 17 декабря 1809 г., 28 января и 18 марта 1810 г. предполагали конфискацию имений тех лиц, которые нелегально покидали страну или содействовали побегам за границу [14, т. I, с. 340-341, 354]. Эти меры привели к сокращению оттока населения в Княжество Варшавское, и многие беглецы начали возвращаться в Россию.
Впрочем, как отмечал литовский военный губернатор М. И. Голенищев-Кутузов, возвращение некоторых помещиков являлось не следствием их раскаяния, а лишь средством спасения имений от конфискации. Они стремились сами продать или заложить имения, чтобы затем снова покинуть Российскую империю (так поступили Л. Пац, А. Потей, С. Солтан, Д. Радзивилл [14, т. I, c. 344, 387, 391; 19, л. 20]). Поэтому М. И. Голенищев-Кутузов предложил запретить лицам, возвратившимся из-за границы, продавать и закладывать свои имения сроком на 2 года, «как бы в наказание за совершенную ими отлучку». Литовский военный губернатор надеялся, что течение двух лет «ложное мечтание совершенно исчезнет, и они обратятся на путь истины» [20, c. 254-255]. Однако Комитет министров отклонил это предложение [14, т. 2, c. 43]. В том, что население белорусских губерний практически без препятствий попадало в Княжество Варшавское, была определенная «заслуга» казаков. Эти временные «пограничники» за определенную мзду пропускали за кордон всех желающих [14, т. 1, c. 418, 367]. Поэтому перед командирами воинских частей, дислоцированных в западных губерниях, была поставлена задача «усугубить надзор к прекращению непозволенных за границу переходов» [21, л. 7, 8-9, 12, 15-15 об., 21].
Тем не менее, как отмечал в составленной в начале 1810 г. записке статский советник А. А. Столыпин, «взоры всех поляков («российских». - А. Л.) обращены на Княжество Варшавское как на залог, им данный Наполеоном» [22, л. 21].
Второй, не менее сложной, проблемой для российских властей была контрабанда. Особое беспокойство у правительства вызывали тайный вывоз «звонкой» (серебряной и золотой) монеты и хлеба, перевод доходов от российских имений в Княжество Варшавское, а также контрабандный перегон лошадей и крупного рогатого скота. Все это вело к усилению вероятного противника: как с неудовольствием отмечал Александр I, в Княжестве Варшавском «вся конница вооружена русскими саблями и палашами и посажена на русских же лошадей, равномерно нет в обращении между народа других денег, как российской серебряной монеты». И хотя император поручал Комитету министров «придумать способ к отвращению сего злоупотребления», министры фактически расписались в своей беспомощности. «По причине обширности сухопутной границы по присоединенным от Польши губерниям и беспрерывного по тамошнему краю торгового с заграничными местами сношения, а также по многим другим обстоятельствам нет никакой возможности к отвращению тайного провоза за границу золотой и серебряной монеты…», - говорилось в решении от 19 мая 1809 г. [14, т. 1, c. 291].
С 1810 г. решение проблемы с контрабандой легло на плечи Министерства полиции [19, л. 1-3 об., 6]. Существенную помощь ему оказывали военные - коменданты пограничных городов (В. А. Анохин, К. П. Шиц [23, т. 7, c. 94-95]), резиденты разведки (И. И. Турский, М.-Л. де Лезер, И. Вульферт), а также российские дипломаты и добровольные помощники из числа иностранцев.
Одним из наиболее деятельных борцов с контрабандой являлся белостокский комендант полковник К. П. Шиц. Во время своих поездок по Белостокской области (образована в 1808 г.) он пытался перекрыть все возможные каналы контрабанды, а также пресечь противоправную деятельность российских таможенников [23, т. 1, ч. 2, c. 262]. В вопросах борьбы со злоумышленниками К. П. Шиц во многом опирался на сведения местных евреев. Одним из наиболее доверенных агентов коменданта был Цыган Хаим Маркус (впоследствии оказался двойным агентом), показания которого о злоупотреблениях на границе неоднократно пересылались военному министру [23, т. 1, ч. 1, c. 109; ч. 2, c. 82, 102, 261, 262, 317-318].
В результате 16 декабря 1810 г. командующему армией на западной границе генералу Д. С. Дохтурову было приказано употребить «усиленное старание», чтобы «открыть, какими средствами происходит таковой пропуск чрез наши границы» [23, т. 1, ч. 1, c. 116; ч. 2, c. 306]. Однако этими распоряжениями правительство не ограничилось. В январе 1811 г. в дополнение к таможенной страже была учреждена «пограничная казачья стража» [5, т. 31, № 24480]. Создание новой военизированной структуры способствовало существенному усилению контроля на границе.
Третьей важной проблемой для властей с 1810 г. стала деятельность в «польских провинциях» наполеоновской агентуры. И хотя специальных структур для борьбы с «лазутчиками» не создавалось, выявлением агентуры противника занимались Министерство полиции и Военное министерство. Как выяснили российские контрразведчики, засылка шпионов осуществлялась по двум основным каналам: легальным (через получение паспортов) и нелегальным (путем тайного перехода границы) способами. Легальным образом информацию собирали лица, действовавшие под дипломатическим прикрытием, странствующие «монахи» и «бродяги» [24, л. 225-225 об., 332-333 об.; 14, т. II, с. 376], а также отставные офицеры и генералы, которые по личным делам приезжали в Российскую империю. Впрочем, последние вызывали особое подозрение, и они немедленно брались под присмотр полиции [23, т. VII, с. 338-339; 25, л. 39]. Например, генерал французских войск Я. Г. Володкович долгое время по личным делам находился в Минской губернии. Заподозренный в шпионаже, он в апреле 1812 г. был арестован и затем этапирован в Тамбов [14, т. II, c. 376-377; 26].
Однако наиболее часто для засылки своих агентов разведка противника использовала знакомства на российской границе. Для этого устанавливались «тесные» контакты с населением приграничных населенных пунктов и таможенными чиновниками. Например, помещики Пенчковские, имевшие дружеские связи на границе, способствовали незаконному выезду из Российской империи гостившего в ней подпрефекта Княжества Варшавского Каренги [23, т. 6, c. 223-224; т. 7, c. 318-319; 19, л. 4-4 об., 8-9]. А таможенные чиновники С. Сакович, Езерский и Буржинский оказывали противнику тайные платные услуги [23, т. 8, c. 90-91; т. 13, c. 129-130].
Всего, по подсчетам российского историка В. М. Безотосного, в документах за 1810-1812 гг. упоминается 98 разыскиваемых лиц, задействованных французскими службами. Из них было задержано только 39 агентов [27, c. 91]. В целом российским властям удавалось обезвреживать лишь ту часть агентов противника, сведения о которых поступали от резидентов разведки и по дипломатическим каналам [19, л. 4, 8, 12; 14, т. 2, c. 449-451; 24, л. 348].
Ситуация на белорусских землях глазами военных. В 1810-1812 гг. власти по-прежнему особое внимание уделяли надзору за населением западных губерний. С началом открытой подготовки к предстоящей войне с Францией сбор сведений о политических настроениях обывателей был также возложен на командиров корпусов и армий, дислоцированных в «польских провинциях». Кроме того, к подобному надзору была подключена и внутренняя стража - детище Военного министерства со структурой и отличительными признаками воинских формирований. Задачи в этой области были определены в январе 1812 г. в секретном повелении императора графу Е. Ф. Комаровскому. Окружные командиры обязывались тайно сообщать инспектору внутренней стражи обо всем случающемся в губерниях «касательно духа и поведения жителей, действия гражданской полиции и вообще о всех происшествиях, достойных уважения» [23, т. 12, c. 67-68].
Что же сообщали в своих секретных рапортах военные? Несмотря на «тишину и спокойствие», которые наблюдались в Белостокской области, Виленской, Гродненской и Волынской губерниях [23, т. 1, ч. 1, c. 32-33; ч. 2, c. 82, 100-101, 133-134, 156], в них периодически возникали «вредные слухи» [23, т. 1, ч. 1, c. 98; ч. 2, с. 264]. Поэтому командующий армией на западной границе генерал Д. С. Дохтуров был вынужден неоднократно отправлять офицеров для их перепроверки. В результате оказалось, что слухи происходили «единственно от ветрености и легкомыслия здешнего народа, который от праздности большею частию занимается тем, дабы собирать повсюду странные происшествия и рассевать везде оные, вместо существенности» [23, т. 1, ч. 2, c. 306-307].
Наиболее полное представление о политических настроениях жителей белорусских земель сформировалось у командира обсервационного (впоследствии 6-го) корпуса генерала И. Н. Эссена (штаб-квартира в Слониме). 22 декабря 1811 г. в секретном донесении военному министру он писал: «Что касается до образа мыслей здешних обывателей, то очевидно, что благоразумные, богатые помещики, видя милости к ним нашего Государя Императора и умея их ценить в полной мере, не желают никакой перемены, бедные же, напротив, ожидают войны, надеясь при каковой-либо перемене поправить свое состояние; между молодыми людьми приметным образом обнаруживается ненависть к русским, но сие я не могу приписать иному, как их молодости…» [23, т. 7, c. 95; т. 9, с. 4]. Меньшее беспокойство у И. Н. Эссена вызывало поведение белорусских крестьян. «Насчет здешних сельских обывателей нельзя сказать, - отмечал генерал в донесении от 10 марта 1812 г., - чтобы обнаружили недоброхотство к нынешнему правительству, кроме некоторых молодых людей, не заслуживающих много внимания; напротив того, оказывают пособия при движении войск без ропоту, не принося жалоб воинскому начальству, тогда когда без сумнения довольно отягощений. Хотя вообще все желают восстановления Польши и быть народом (выделено автором. - А. Л.), но сохраняют похвальную скромность» [23, т. 10, c. 35].
Еще более объективно оценивал ситуацию командир 2-го пехотного корпуса генерал К. Ф. Багговут (штаб-квартира в Вильно). «Богатые помещики и другого звания люди, - сообщал он военному министру 9 февраля 1812 г., - достигшие почтенных лет, кажутся к нам преданными, но, напротив, молодые по своему легкомыслию желают и надеются на перемены. Пока мы будем вести войну за границей, то от поляков нашего края нельзя ожидать вредных следствий; если же война будет в наших пределах, в это время, можно полагать, неприятель от них получит немалые приращения войску, хотя не из преданности к французам, но из страху… да притом и будем, как ныне, окружены шпионами, к чему они, без сомнения, будут много способствовать» [23, т. 9, c. 128].
Помимо мнения о настроениях жителей, военного министра интересовали сведения «о действии гражданской полиции в местах расположения вверенных войск». Подобная директива М. Б. Барклая де Толли от 21 января 1812 г. была связана с тем, что земская и гродская полиции состояли преимущественно из местных уроженцев. В своем донесении от 2 февраля 1812 г. генерал И. Н. Эссен обращал внимание военного министра на существенные недостатки в деятельности полиции. «Гражданская полиция могла бы быть исправнее, - писал командир корпуса, - ежели бы при ней не находились по большей части из поляков. Гражданская пограничная таможенная стража также не может быть надежна, потому что большая часть чиновников из здешнего края, которые имеют связь со всеми помещиками, и казаки, ежели б и были исправны… всегда подвержены, по крайней мере, обману» [23, т. 9, c. 4].
О недоверии к земской полиции в «польских провинциях» неоднократно сообщал и главнокомандующий 2-й Западной (Подольской) армии князь П. И. Багратион. Особо слабо, по его мнению, она действовала при задержании лиц, незаконно пересекавших границу. «Обширность земли, - отмечал генерал в феврале 1812 г., - удобность проехать по многочисленности дорог и способов, тесные связи, родство и одномыслие обывателей тревожат меня крайне, чтобы не избегали они надзирания воинской стороны». Главнокомандующий считал, что существенную помощь в этом деле могла оказать гражданская полиция, которая «неусыпною бдительностью своею могла бы поставить совершенную преграду возможности скрытному пребыванию либо проезду кому-либо из Княжества Варшавского и другим иноземцам в пределы наши». Однако на полицию, составленную из местных жителей, нельзя положиться. «В губерниях сих от гражданской полиции, пока пребудет она в составе своем столь тесно с обывателями края соединенного, - резюмировал П. И. Багратион, - никакого действия ожидать не можно» [23, т. 9, c. 130]. Спустя месяц, 25 марта 1812 г. главнокомандующий еще раз обращал внимание военного министра, что «жители сего края, имея особенные связи и сношения» со своими соотчичами в Княжестве Варшавском, «весьма нам не благоприятствуют и могут послужить вреднейшим для нас орудием» [23, т. 10, c. 132].
Реакция правительства на политическую ситуацию. Итак, общий контекст донесений командиров корпусов и главнокомандующего 2-й Западной армии, дислоцированных в Виленской, Гродненской, частично Минской и Волынской губерниях и Белостокской области, сводился к тому, что все население этих территорий находится в ожидании войны, и что большинство благородного сословия мечтает о восстановлении Польского королевства. Поэтому во время вероятного военного столкновения с Францией оно поддержит Наполеона I.
В этих условиях весной 1812 г. российское правительство окончательно смирилось с вероятной утратой «польских провинций». При этом Александр I решил подготовить сдачу «польских провинций» противнику, применив с началом военных действий на них тактику выжженной земли. Как отмечал М. Б. Барклай де Толли в разработанном еще в феврале 1810 г. плане оборонительной войны, российские войска, «встретив неприятеля на самых границах, [должны] сопротивляться многочисленнейшему его ополчению в польских провинциях до тех пор, пока совершенно истощатся все способы, какие токмо можно будет взимать от земли». После этого планировалось отступить на линию Днепра и Западной Двины, оставив «неприятелю, удаляющемуся от своих магазинов, все места опустошенные, без хлеба, скота и средств к доставлению перевозкою жизненных припасов» [23, т. 1 ч. 2, c. 2].
Для реализации подобной задумки еще до войны планировалось усыпить бдительность местной шляхты различными политическими обещаниями. Это позволило бы максимально использовать людские, финансовые и продовольственные ресурсы края, чтобы они не достались противнику. С целью ослабления профранцузского влияния в «польских провинциях» еще весной 1811 г. Александр I инициировал создание автономного Великого княжества Литовского (план М. К. Огинского) [28]. И хотя этот проект изначально был обречен на неудачу, заигрывание с местной знатью и шляхтой позволило российским властям к началу 1812 г. осуществить комплекс мер по дополнительному использованию людских (усиленные рекрутские наборы, формирование «вербуночных полков» из шляхты) и финансовых (наводнение губерний ассигнациями вместо «звонской» монеты) ресурсов. Что касается последнего этапа - изъятия у населения оставляемых территорий продовольственных ресурсов, то для его реализации необходимо было передать всю полноту власти военным.
Поэтому 16 апреля 1812 г. на основании «Учреждения для управления Большой действующей армии» и указа Сената от 13 марта 1812 г. в Курляндской, Виленской, Минской, Гродненской, Киевской, Волынской и Подольской губерниях, а также Белостокской и Тарнопольской областях было введено военное положение [5, т. 32, № 24975; № 25035; 29, c. 398-399, 473; 14, т. 2, c. 406; 30, ч. 1, c. 47]. С этого момента все гражданские власти этих территорий находились в полном подчинении главнокомандующих 1-й и 2-й Западных армий и должны были оказывать им всемерную помощь. При этом чиновники и полицейские несли персональную ответственность уже по законам военного времени. За неповиновение они могли быть отданы под военный суд.
Практически одновременно полицейские функции в западных губерниях были переданы новому армейскому контрразведывательному органу - «Высшей воинской полиции». Ее задачи заключались в надзоре: «за полицией тех мест внутри государства, где армия расположена», за тем, «что происходит в самой армии»; и в «собирании сведений о неприятельской армии и занимаемой ею земле» [23, т. XI, c. 414-415]. Для выполнения поставленных задач руководитель армейской контрразведки Я. И. де Санглен получил право требовать от местной полиции сведения о бродягах, подозрительных людях, количестве населения. Учитывая общее недоверие, которое испытывали российские власти к гродской и земской полиции «польских провинций», 13 мая 1812 г. они были окончательно поставлены под контроль «Высшей воинской полиции» [29, c. 399; 30, ч. 2, c. 24].
В мае - начале июня 1812 г. [30, ч. 2, c. 23] «Высшая воинская полиция» организовала насильственную высылку (депортацию) во внутренние регионы империи подозрительных и «сумнительных» шляхтичей, а также иностранных подданных, заподозренных в шпионаже [2, c. 44]. Подготовка к этой операции началась еще весной 1812 г.
21 марта 1812 г. Александр I через министра полиции потребовал от гражданских губернаторов не только собрать сведения об «образе мыслей помещиков и других обывателей пограничных губерний», но и установить за ними строгий надзор, а также составить «список тех лиц, которые ненадежны». В первую группу заносились лица «сомнительные», а во вторую - «совершенно подозрительные» [2, c. 43].
И хотя губернаторы отмечали, что лиц, замеченных «в явной злоумышленности противу России», они назвать не могут, но подозрительных - много. «Без сомнения полагать можно, что в числе дворян здешних весьма не многие усердно преданы России, - сообщал минский гражданский губернатор Г. И. Радинг, - другие колеблются, а большею частию есть не приверженных России» [2, c. 43]. Ему вторил руководитель Виленской губернии А. С. Лавинский: «В рассуждении лиц первого рода я полагаю излишним изъяснять имена их, ибо, к сожалению, должно сказать, что всех почти надобно было бы внесть в список сомнительных, исключа однако же богатейшее дворянство» [2, c. 43]. Гродненский гражданский губернатор В. С. Ланской также был солидарен со своими коллегами [2, c. 43].
В составленных губернаторами «реестрах» значились десятки подозрительных и «сумнительных» лиц [2, c. 43, 44]. Например, только в период с 30 мая по 12 июня 1812 г. были высланы «неблагонадежные»: ковенский адвокат шляхтич В. Сволкин, иностранец К. Николаи, виленский адвокат мещанин И. Зданкевич; а также «вышедшие из-за границы» - И. Инарович, Д. Авдеев и И. Никитин (все крестьяне), М. Бобровский с женой, П. Яблонский, В. Избицкий, Т. Рачиборский и 41 иностранец [30, ч. 2, c. 33-34; 31].
Однако операция по выселению, возложенная на армейское командование, несмотря на большие издержки, не принесла должного эффекта. Во-первых, физически было невозможно вывезти всех потенциальных пособников вероятного противника, поскольку в это число попадала практически вся шляхта западных губерний. В нереальности выполнения поставленной задачи признавался даже главнокомандующий 2-й Западной армии князь П. И. Багратион, которого трудно было заподозрить в любви к населению «польских провинций» [23, т. XIII, c. 50]. Во-вторых, не все депортированные достигли места назначения: некоторые сбежали из-под стражи или были освобождены наступающими наполеоновскими войсками.
Не удалось российской контрразведке перед началом войны 1812 г. окончательно нейтрализовать и агентуру противника. Несмотря на ряд успешных операций, проведенных «Высшей воинской полицией», значительному количеству эмиссаров удавалось беспрепятственно действовать в белорусских губерниях. Это объясняется тем, что большинство французских разведчиков были уроженцами «польских провинций» и свободно владели польским или русским языками. Причем многие из них прежде служили в российской армии и имели настоящие документы об отставке, что практически сводило к нулю вероятность их разоблачения [23, т. X, c. 135-136].
Cледует отметить, что противнику помогало белорусское население приграничных губерний. Наибольшее число завербованных и добровольных агентов имелось в двух пограничных губерниях - Виленской и Гродненской, а также в Белостокской области. Многие агенты наполеоновской разведки долгое время «с усердием» трудились на различных административных должностях и об их противоправной деятельности стало известно только перед самой войной (например, С. Сакович) [23, т. VIII, c. 90-91; т. XIII, c. 129-130]. Довольно часто лазутчики противника пробирались в Минскую, Витебскую и Могилевскую губернии. Причем и там они находили «сочувствующих» из числа местных уроженцев (штабс-капитан Рогачевской инвалидной команды Бутовский и «тамошний городничий Бурнос» и др.) [24, л. 165-165 об.].
Таким образом, благодаря деятельности различных служб политического сыска и контрразведки в первое десятилетие XIX в. российское руководство смогло достаточно полно и объективно оценить политическую ситуацию на белорусских землях. В донесениях большинства сотрудников спецслужб содержалась не только общая характеристика настроения населения пограничных губерний, но и предпринимались попытки выявления причинно-следственных аспектов поведения различных социальных и конфессиональных групп .
Исходя из анализа данных спецслужб, определенную лояльность к российскому правительству проявляла только узкая прослойка богатейшего дворянства, то есть отдельные магнаты, что объяснялось боязнью утраты ими своего имущества и благосостояния. Большая же часть средней шляхты, и особенно мелкая шляхта, были негативно настроены к власти, а свое материальное благополучие связывали с вопросом возрождения собственной государственности. В оппозиции находилось католическое и униатское духовенство. Большая часть «сельских обывателей» была также недовольна своим положением. И хотя крестьяне безропотно выполняли постоянно возраставшие повинности (крепостные работы, перевозка провианта и т. д.), ожидали от предстоящей войны перемен. Причем все эти различные группы населения объединяло одно - «желание быть народом». Понятно, что не под скипетром российского императора. Отсюда вполне объяснимое сотрудничество с польско-французской разведкой.
На белорусских землях российское правительство могло рассчитывать лишь на православное духовенство и чиновничество, в основном пришлое. Однако пользы от них не было: с началом войны 1812 г. большинство чиновников и православных священников покидали «польские провинции» вслед за отступавшими российскими войсками. Оставалось еще население белорусских городов, состоявшее в подавляющем большинстве из евреев. И хотя большинство мещан-иудеев не выказывали явных симпатий Наполеону I, российское правительство ничего не сделало, чтобы привлечь их на свою сторону. Своей репрессивной политикой накануне войны (черта оседлости, переселение в города, двойное налогообложение и т. д.) оно отталкивало и эту часть населения. Все это свидетельствовало лишь об одном: накануне войны 1812 г. Александр I смирился с вероятной потерей своих «польских провинций», а поэтому даже не искал на белорусских землях союзников.
И лишь после изгнания Великой армии ситуация изменилась. Несмотря на сотрудничество в 1812 г. шляхты, католического и униатского духовенства, крестьян с наполеоновской администрацией, все они получили амнистию. Измена этих групп населения была предсказуема, а потому и менее наказуема. В то же время православное духовенство и русские чиновники, изменившие в 1812 г. присяге своему императору (т. н. «Могилевская церковная смута»), понесли суровое наказание: предательство этой категории населения западных губерний никак не входило в планы российского правительства.
1. Все даты российской истории приводятся по старому стилю, международных событий - по старому и новому стилям одновременно.
2. По-русски правильно говорить «уезд», однако в делопроизводстве начала XIX в. уезды «польских» губерний именовались не иначе как «поветы».
_________________________________
Литература:
1. Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. М. : РОССПЭН, 2004. 880 с.
2. Попов, А. И. Великая армия в России. Погоня за миражом / А. И. Попов. Самара : Изд-во ООО «НТЦ», 2002. 440 с.
3. Шильдер, Н. К. Император Александр Первый, его жизнь и царствование: в 4 т. / Н. К. Шильдер. СПб. : Издание А. С. Суворина, 1897-1898. Т. 2. 1897. 408 c.
4. Записки графа Е. Ф. Комаровского / авт. предисл. Е. А. Ляцкий. М. : Внешторгиздат, 1990. 176 с.
5. Полное собрание законов Российской империи. Собрание I: С 1649 по 12 декабря 1825 г.: в 45 т. СПб.: Тип. II отделения Собств. е. и. в. канцелярии, 1830-1851. Т. 29: 1806-1807. 1830. 1372, 19 с.; Т. 31: 1810-1811. - 1830. - 944, 11 с.; Т. 32: 1812-1814. 1830. 1109, 14, 8 с.
6. Федосова, Е. И. Польский вопрос во внешней политике Первой империи во Франции / Е. И. Федосова. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. 205 с.
7. Национальный исторический архив Беларуси в Гродно. Ф. 1 (Канцелярия гродненского губернатора). Оп. 1. Д. 107 - О розыске шпионов, перешедших в Россию из-за границы.
8. Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). Ф. 320 (Минский губернский предводитель дворянства). Оп. 2. Д. 4 - Указы Сената и Минского губернского правления 1806-1813 гг.
9. Таляронак, С. Грамадска-палітычны рух на Беларусі напярэдадні вайны 1812 г. / С. Таляронак // Беларускі гістарычны часопіс. 1994. № 3. С. 93-98.
10. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 26 (Военно-походная канцелярия е. и. в.). Оп. 1/152. Д. 611 - Тетрадь записанным бумагам генерал-фельдмаршала гр. Каменского в продолжение французской кампании в прошлом 1807 г.
11. Лукашевич, А. М. Обеспечение российской армии продовольствием и фуражом во время войны с Францией 1806-1807 гг. / А. М. Лукашевич // Веснік Брэсцкага універсітэта. Сер. гуманітарных і грамадскіх навук. 2005. № 2 (23). С. 38-43.
12. 1807 год. Письма с дороги от князя А. Б. Куракина к государыне императрице Марии Федоровне // Русский архив. 1868. № 2. Стб. 162-240.
13. Жандармы России / сост. В. С. Измозик. СПб. : Изд. дом «Нева»; М. : «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. 640 с.
14. Журналы Комитета министров. Царствование императора Александра I. 1802-1826 гг.: в 2 т. СПб. : Тип. В. Безобразова и К, 1888-1891. Т. 1: 1802-1810 гг. 1888. VI, 503 с.; Т. 2: 1810-1812 гг. 1891. - 8, II, 132, XXXII, 758 с.
15. Воробьева, Ю. С. Министерство полиции / Ю. С. Воробьева // Государственность России (конец XV в. - февраль 1917 г.): словарь-справочник: в 4 кн. М., 1999. Кн. 2. С. 359-360.
16. Воробьева, Ю. С. Комитет охранения общественной безопасности / Ю. С. Воробьева // Государственность России (конец XV в. - февраль 1917 г.): словарь-справочник: в 4 кн. М., 2001. Кн. 3. С. 90.
17. Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas. Ф. 378 (Канцелярия Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернатора). Общий отдел. 1809 г. Д. 183 - По указу Правительствующего Сената о пресечении самовольных отлучек поселян и обывателей пограничных губерний за границу.
18. Archiwum Główne Akt Dawnych (Warszawa). Komisja RzŐdzŐcŐ. Zespoł. 174. Syg. 307 - Ukazy rzŐdów rossyiskiego i pruskiego w czase wojny wydan. 1808-1810.
19. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1165 (Особенная канцелярия Министерства внутренних дел). Оп. 2. Д. 1 - Дело об установлении в пограничных губерниях Российской империи строгого надзора за появлением французских эмиссаров.
20. М. И. Кутузов. Сборник документов: в 5 т. / под ред. Л. Г. Бескровного. М. : Военное изд-во Военного мин-ва Союза ССР, 1950-1956. Т. ІІІ. 1952. XXXII, 1028 с.
21. ГАРФ. Ф. 1165. Оп. 2. Д. 240 - Переписка с губернаторами пограничных губерний о необходимости принятия мер к прекращению самовольных переходов границы и провоза контрабанды.
22. ГАРФ. Ф. 1165. Оп. 3. Д. 37 - Записки Столыпина А. А. и литовского почт-директора о политических событиях в Польше и западных губерниях и Галиции и настроении поляков, с приложением списка поляков, перешедших во французскую и польскую военную службу при отношении начальника Главного штаба е. и. в. Дибича цесаревичу Константину Павловичу. Приложения за 1809 г.
23. Отечественная война 1812 года. Материалы Военно-ученого архива Генерального штаба: в 21 т. СПб. : Издание Военно-ученого комитета Главного штаба, Главного штаба, Гл. управления ген. штаба, генерал-квартирмейстера, 1900-1914. Отд. I. Переписка русских правительственных лиц и учреждений. Т. I: Подготовка к войне в 1810 г. Ч. I: Исходящая переписка генерала Барклая де Толли / под ред. Мышлаевского. 1900. XXI, 120, 15 с.; Ч. II. Входящая переписка генерала Барклая де Толли / род ред. Мышлаевского. 1900. XII, 349, 37 с.; Т. VI: Подготовка к войне в 1811 г. (Ноябрь месяц). 1905. XIII, 351, 24 с.; Т. 7: Подготовка к войне в 1811 г. (Декабрь месяц. Документы без дат). 1907. XIV, 342, 35 с.; Т. 8: Подготовка к войне в 1812 г. (Январь месяц). 1907. IX, 176, XXXII с.; Т. IX: Подготовка к войне в 1812 г. (Февраль месяц). 1908. XI, 192, XVI с.; Т. X: Подготовка к войне в 1812 г. (Март месяц). 1908. XV, 277, XLI с.; Т. 11: Подготовка к войне в 1812 г. (Апрель месяц). 1909. XXI, 415, XLV с.; Т. 12: Подготовка к войне в 1812 г. (Май месяц). 1909. XXIII, 318, XXXIII с.; Т. 13: Боевые действия в 1812 г. (Июнь месяц). 1910. XXVI, 417, 32 с.
24. НИАБ. Ф. 2001 (Канцелярия могилевского гражданского губернатора). Оп. 1. Д. 21- Указы Сената за I половину 1812 г.
25. РГВИА. Ф. 846 (Военно-ученый архив). Оп. 16. Д. 439- Исходящий журнал по канцелярии военного министра. 1811 г.
26. Из секретной переписки Барклая де Толли в 1812 году. Сообщ. А. З. Мышлаевского // Русская старина. 1899. № 9. - С. 649-650.
27. Безотосный, В. М. Разведка Наполеона в России перед 1812 г. / В. М. Безотосный // Вопросы истории. 1982. № 10. - С. 86-94.
28. Лукашевич, А. М. Проекты восстановления Речи Посполитой и Великого княжества Литовского и их место в военно-стратегическом планировании Российской империи (1810-1812 гг.) / А. М. Лукашевич // Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Материалы международной научной конференции (Минск, 24-25 мая 2002 г.). Минск : Адукацыя і выхаванне, 2002. С. 46-59.
29. Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 128: Акты, документы и материалы для политической и бытовой истории 1812 года, собранные и изданные по поручению его императорского высочества великого князя Михаила Александровича: в 3 т. / под ред. и с преисл. К. Военского. СПб., 1909. Т. 1: Литва и западные губернии. [2], VIII, XLVIII, 582 с.
30. Виленский временник. Кн. V. Акты и документы архива Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернаторского управления, относящиеся к истории 1812-1813 гг.: в 2 ч. Вильна : Губернская тип., 1912-1913. Ч. 1: Переписка по военной части. 1912. VIII, 285 с; Ч. 2: Переписка по части гражданского управления. 1913. 128, 355 с.
31. ГАРФ. Ф. 1165. Оп. 2. Д. 26- Дело о высылке в Орловскую губернию прусского подданного Николая Карла, подозревавшегося в шпионаже.
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться



 Наверх
Наверх Ответить
Ответить Цитировать
Цитировать