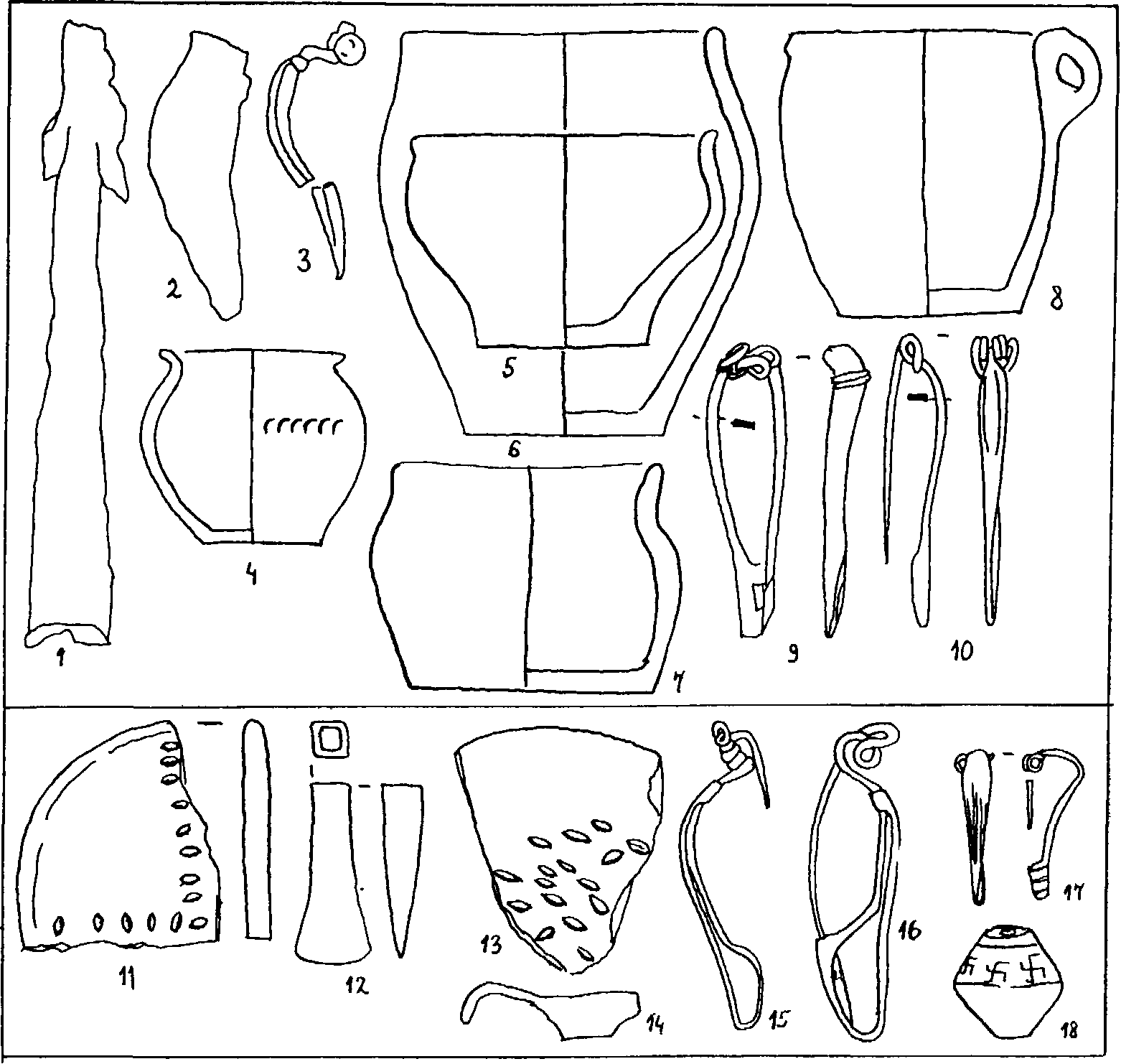// АСГЭ. - 1999. - №34. - С.134-160.
г. Санкт-Петербург
Что касается кимвров, то одни рассказы о них
не точны, а другие совершенно невероятны.
Страбон
Вступление. Рубеж II-I вв. до н.э. был переломным моментом в истории Европы. Начиналась "перестройка" Римской республики, делались самые первые шаги на пути к постепенному превращению ее в Империю. Одним из таких шагов было создание Гаем Марием армии нового типа: вместо ополчения свободных общинников она набирается из неимущих пролетариев, становится профессиональной, что делает ее рычагом политических переворотов. И если первоначально такие политики, как Сулла и Цезарь, а затем Август и Флавии, будут использовать этот рычаг для утверждения личной власти, то в дальнейшем, становясь все более самостоятельной политической силой общества, армия будет все чаще превращать императоров в игрушку собственных армейских интересов. Вспомним "чехарду" солдатских императоров III в.н.э. и один из эпизодов, когда сенатор Деций был вынужден объявить себя императором по требованию солдат, угрожавших ему в противном случае смертью [Zosim, I, 21, 22; Zon., XXII, 19].
Кстати, Цезарь, по сути дела, основоположник нового строя, был родственником Мария и начинал свою политическую карьеру речью на похоронах своей тетки Юлии, жены Мария [24, с. 42].
А в это же время на востоке начинал свою деятельность Митридат Евпатор, ставший в 120 г. до н.э. царем Понта, царства, уже владевшего почти всей Малой Азией и усилиями Митридата вскоре превратившегося в мощную циркумпонтийскую державу [75]. В Северном Причерноморье понтийскому царю пришлось столкнуться в 109 г. до н.э. С новой, "массагето-роксолано-аорсской" волной движения сарматских племен на запад [13] и удалось включить их в орбиту своей политики.
Митридат мечтал объединить людские ресурсы варваров Причерноморья и финансовые возможности греческих полисов, напасть на Италию через Подунавье, подключив силы тамошних варваров, и, сокрушив Рим, остановить тем самым его "безудержную агрессию". Удалось осуществить ему лишь первую часть замысла.
В тот момент, когда все эти события назревали, с севера на Рим обрушились полчища кимвров и тевтонов. Первое столкновение произошло в 113 г. до н.э. В Риме "вести о количестве и силе наступающих войск вызвали сначала недоверие, но впоследствии они оказались преуменьшенными сравнительно с действительностью. На самом деле двигалось 300 тысяч вооруженных воинов, и, по рассказам, толпы детей и женщин шли вместе с ними еще в большем числе - они нуждались в землях, чтобы было где прокормить такое множество" [Plut., Mar., XI].
От результатов этого нашествия зависел и весь дальнейший ход европейской истории, и мы не знаем, как бы она повернулась, если бы обновленной армии Мария (а одним из стимулов ее создания и была, очевидно, угроза варварского вторжения) не удалось разбить кимвров и тевтонов в 102 и 101 гг. до н.э.
Историки античности обычно не придают большого значения этим событиям, видят здесь скорее ряд пограничных инцидентов и вообще, на наш взгляд, несколько недооценивают "варварский фактор" в истории античности, потому что события в самом Барбарикуме слишком скупо освещены письменными источниками и могут быть реконструированы лишь с привлечением данных археологии. Но "безгласные" археологические материалы дают не слишком много однозначных возможностей для исторических реконструкций, и археологи зачастую не рискуют включать свои наблюдения в исторический контекст. Попытку преодолеть в какой-то мере этот недостаток на примере событий рубежа II-I вв. до н.э. мы и хотели бы предпринять, сознавая степень гипотетичности наших построений.
При знакомстве с соответствующими данными письменных источников и археологии сразу возникают три вопроса, три загадки, на которые нам и предстоит попытаться найти ответы.
Загадка первая: почему кимвры и тевтоны не захватили Рим, что удалось двумя веками раньше кельтам? Вряд ли последние превосходили новых пришельцев умением воевать и явно уступали им в численности. Триста тысяч воинов - сила огроМинская, не сопоставимая ни с одной армией того времени: тридцать римских легионов периода расцвета Империи насчитывали лишь около половины этого количества.
Приглядевшись к последовательности действий и маневров кимвров и тевтонов [Strabo, VII, 2, I, 2; Appian, Celtica, 13; Oros., 5, 6; Plut., Mar., XI, XXIII - XXVII], нетрудно убедиться, что они выглядят по крайней мере странно и нелогично, если бы целью варваров был захват Италии, как это утверждают Плутарх [Plut., Mar., XI] и Анней Флор [Flor, I, 38].
Первыми, на кого напали кимвры, стали племена кельтов-бойев, живших в Герцинском лесу, на территории современной Чехии, куда они были вынуждены выселиться, будучи изгнанными римлянами 80 лет назад (192 г. до н.э.) из Италии. Направляясь на Рим, бойев, казалось бы, лучше иметь союзниками и проводниками. Да и военную силу бойи, вероятно, представляли собой немалую, поскольку им удалось отбить нападавших.
Кимвры, отбитые бойями, двинулись к югу, вниз по Дунаю, в страну кельтов-скордисков, обитавших в районе Железных ворот и в низовьях Савы и Дравы. Не исключено, что поход скордисков в 119-118 гг. до н.э. на юг Балкан был вызван именно нападением кимвров [73, с, 155; 74]. Но северные варвары не остались в стране скордисков, повернули на запад, попали в Альпы и напали на кельтов-нориков. Здесь, у Нореи, в 113 г. до н.э., они разбили римское войско консула Папирия Карбона, и им открывался путь в беззащитную Италию, поскольку основные силы римлян были заняты в войне с нумидийским царем Югуртой в Африке. Но тевтоны ушли в Галлию, присоединив по дороге кельтов-гельветов. Одни источники при описании этой части походов говорят о тевтонах (Аппиан), а другие - о кимврах (Страбон, Плутарх). Так что, где и когда произошло соединение сил этих племен, сказать трудно. Вероятно, еще до нападения на бойев.
Выйдя в верховья Роны, варвары еще раз в 109 г. до н.э. разбили римлян, а в 105 г. до н.э. нанесли сокрушительный удар войскам римских полководцев Сервиллия и Моллия при Араузоне в низовьях Роны. Опять открывался путь на Рим, но кимвры, тевтоны и присоединившиеся к ним кельты-амброны ушли в Галлию. Разделившись на два отряда, они завоевали ее почти целиком, дошли до района Тулузы, вторглись и в Испанию, затем в 102 г. до н.э. опять соединились в Галлии для войны с белгами, жившими на Марне.
Марий тем временем успел завершить в 109 г. до н.э. Югуртинскую войну и, будучи избранным в 107 г. до н.э. консулом, начал реорганизацию армии. В 102 г. до н.э. новая римская армия вступила в Галлию и, измотав маневрами тевтонов и амбронов, заставила вступить противника в битву на невыгодных для него позициях под Аквами Секстиевыми около Марсалии (совр. Марсель). Варвары были разбиты полностью. Кимвры же в это время совершали обходной маневр и, перейдя заснеженные Альпы, вышли в тыл к Марию, но остановились под Верцеллами, дожидаясь тевтонов. Вместо них в Италию вернулся Марий с победоносной армией и в 101 г. до н.э. разбил и вторую группировку. Только в плен было взято 60 тысяч, а погибло еще больше [Plut., Mar., XXVII].
Из цепи событий, изложенных выше, становится ясно, что у кимвров и тевтонов не было намерения нападать на Италию.
В бой с римлянами они вступали лишь в тех случаях, когда им преграждали путь в Галлию, и лишь на вторжение Мария в уже захваченные варварами кельтские территории последовал ответный удар. Целью кимвров и тевтонов было, очевидно, завоевание и подчинение Кельтики, что они в основном и осуществили. Их маневры могли объясняться, вероятно, расстановкой политических сил в Кельтике, к сожалению, нам неизвестной. Тяжелые поражения под Аквами Секстиевыми и Верцеллами свели на нет усилия кимвров и тевтонов обосноваться в Кельтике.
До сих пор не удавалось найти никаких прямых археологических свидетельств пребывания кимвров и тевтонов ни в Галлии, ни в приалышйских областях, ни на Среднем Дунае. Мы не знаем ни погребений, ни поселений этих племен, что не удивительно: за 12 лет их должно было отложиться сравнительно немного, и нужна особая удачливость, чтобы остатки хотя бы одного памятника были найдены археологами. Такого пока не случилось. И тем не менее косвенные археологические свидетельства походов кимвров и тевтонов имеются.
Кельтские племена, заселявшие почти весь треугольник от Британии и Атлантики до Закарпатской Украины, были носителями высокой и достаточно единой латенской культуры, переживавшей на протяжении веков ряд этапов, или "ступеней". По времени именно с кампаниями кимвров и тевтонов совпадает смена в латенской культуре ступени С2 ступенью D1. Абсолютная дата этого перехода определяется дендрохронологическим анализом бревен моста около поселения в Тилле (Швейцария): деревья были срублены между 120 и 116 гг. до н.э. [53, s.127-129; 52]. Близкую дату дает и дендрохронология деревьев из укрепления Эхранг на Верхнем Рейне - 97 г. до н.э. [68]. Имеются и некоторые другие подтверждения этих датировок [70, р. 27-29], хотя складывается впечатление, скорее интуитивное, что трансформация латенской культуры началась несколько раньше, и не исключено, что нападение кимвров и тевтонов на Кельтику было реакцией на начавшиеся там социально-экономические перемены, стимулированные затем и неудачным, в конечном итоге, нападением кимвров и тевтонов.
На ступени D1 в Кельтике повсеместно строятся протогородские центры - оппидумы. Процесс этот начался еще на ступени С2 [45, с. 49-57], но теперь их количество стремительно возрастает по сравнению с предшествующим периодом [33; 78, рис.3]. Происходит "вторая кельтская революция", выражающаяся в изменении самой структуры кельтского общества: на смену военизированной организации и институту царской власти приходят ранние олигархические предгосударственные образования [26, с. 191-210].
Любопытный факт. При большом количестве укрепленных оппидумов с достаточно многочисленным населением мы знаем лишь очень небольшое количество синхронных погребений и лишь в отдельных районах Кельтики: старые кельтские традиции погребений с колесницами сохранились на среднем Рейне, в восточной Франции и в Британии, а немногочисленные трупосожжения зафиксированы на Мозеле и в Тюрингии [45, с. 62-65]. Но в значительной части Кельтики, особенно в южной Германии, Швейцарии, Чехии, Моравии и частично во Франции, полностью исчезают погребальные памятники [45, с. 48, 65]. Распространяются зато так называемые Viereckenschanzen, странные подквадратные сооружения в виде рвов со следами жертвоприношений, имеющие в некоторых частях Кельтики (например, в Шампани) и более древнюю традицию [75, с. 63; 78; 43}. Практически повсеместно кельты переходят к погребальным обрядам, неуловимым археологически, поскольку совершались они на поверхности. Покойников могли сжигать и развеивать пепел, помещать в деревянные „домики мертвых", оставлять на специальных платформах или просто на поверхности земли, подвешивать на деревьях и тому подобное. В этнографии такие случаи хорошо известны у разных народов мира.
В этой связи неожиданно новое звучание приобретает один из пассажей Плиния Старшего, на который обратил наше внимание Д.А. Мачинский: "В древности самым явным признаком победы считалась передача побежденными зеленого стебля. Она означала отказ от обладания землей, от пользования производящей и питающей силой почвы, даже от погребения в земле: этот обычай, как я знаю, до сих пор сохранился у германцев" [Phni, XXII, 8].
Мы не знаем в деталях, как складывались отношения кимвров и тевтонов с кельтами, но очень похоже на то, что значительная часть кельтов была вынуждена отказаться от права "пользования производящей и питающей силой почвы", совершив, вероятно, определенные обряды и принеся богам соответствующие клятвы. Мы не знаем, сохранялась ли какая-то форма зависимости кельтов от победителей после поражения последних под Аквами и Верцеллами, но клятвы, возможно, сохраняли силу*.
С началом новой ступени D1 в материальной культуре кельтов получают распространение некоторые новые типы вещей. Появляется расписная красно-бело-черная керамика (рис. 1: 8) [38], на мечах наряду с изогнутыми колоколовидными гардами появляются прямые перекрестья (рис. 1: 70), круглые умбоны щитов сменяют подпрямоугольные (рис. 1: 7), впервые начинают употребляться шпоры. Меняется мода на фибулы, они становятся короче, с круче изогнутой спинкой. Частично используются новые варианты прежней среднелатенской конструкции - D/E, G/H по классификации Й. Костшевского ( рис. 1: 1, 13, 14) [57] и близкий G/H вариант J по Р. Бельцу (рис. 1: 2) [31] с более сильно изогнутой спинкой, а также вариант I-Костшевский, называемый еще лангобардскими фибулами (рис. 1: 20). Но широкое распространение получает и новая, позднелатенская конструкция фибул с рамчатым приемником: наухаймские (рис. 1: 3, 23) и длинные проволочные Альмгрен-15, сравнительно, правда, редкие (рис. 1: 17); с ложечковидной головкой варианта J-Костшевский (рис. 1: 4, 21); коленчато-изогнутые подтреугольные К-Костшевский ( рис. 1: 16). Такая же коленчатость характерна для варианта F (рис. 1: 15), но эти фибулы среднелатенской конструкции, и для варианта L (рис. 1: 22), имеющего спинку с прогибом. К концу периода появляются фибулы типа Лаутерах Альмгрен-18 и Альмгрен-65 (рис. 1: 5, 6, 9) [28] - прототипы будущих застежек римского времени.
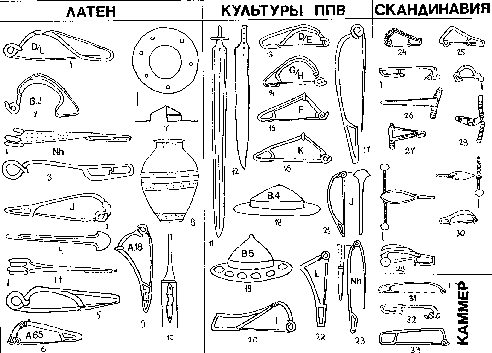
Рис. 1. Хронологические индикаторы латена D1 и фазы "с" позднего предримского времени
(по Дж. Коллису, К. Годловскому и Р. Хахману)
Все эти типы вещей в разных пропорциях представлены как в самой латенской культуре кельтов, так и их северо-восточных соседей от Рейна до Скандинавии, Западного Буга, Днестра и Днепра. Археологические культуры, соответствующие этому населению, объединяют в культуры позднего предримского времени [50], получившие название "латенизированных" [45]. Иногда эти культуры называют также "северо-европейским латеном" [70], или "третьим миром" древней Европы [27]. Процесс кельтского культурного воздействия и влияния на северо-восточных соседей, начавшийся за 100 лет до походов кимвров и тевтонов, процесс "латенизации" [7], продолжается.
По общим формам фибул ступень D1 латенской культуры синхронизируется с фазой "с" или с "ранней частью средней фазы" позднего предримского времени [50, Taf. 1; 4], хотя мы и не знаем, насколько совпадают их хронологические границы. В отличие от латенской культуры мы почти не имеем для памятников латенизированных культур прямых привязок к абсолютной хронологии.
До сих пор остается неясным происхождение позднелатенской конструкции фибул. И. Вернер предположил происхождение наухаймских от североиталийских типа Ченизола с вариантом Виль [79], однако в связи с произошедшими после длительной дискуссии изменениями хронологии латена из-за передатировки времени разрушения оппидума Манхинг [45, с. 61-62; 70, р. 18-30, 259-270] североиталийские фибулы оказываются скорее синхронными ранним наухаймским, чем их прототипам.
Но рамчатые приемники мы знаем и на некоторых фибулах латенизированных культур, например, на фибулах типа Каммер (рис. 1: 31-33), типа Венипптедт (рис. 1: 26) из Поэльбья [50, табл. 2: 41, 42, 45; 3: 1] и на серии разнообразных фибул из Скандинавии ( рис. 1: 24-30), в том числе типа Хельмсхаген с длинной пружиной (рис. 1: 28) [50, табл. 2: 28,29; 3: 2, 13,15, 18]. Причем фибулы типа Каммер относятся еще к ранней фазе позднего предримского времени [50, табл. I], синхронной латену C1b и С2 [4].
Хронологическая позиция скандинавских фибул не очень ясна, нам неизвестны работы, где бы они специально рассматривались. К. Годлевский вслед за X. Хингстом считает тип Хельмсхаген показателем фазы IIс, синхронной фазе "с" Р. Хахмана [45, с. 129], замечая, однако, что у Р. Хахмана эти застежки занимают несколько более раннюю хронологическую позицию, нежели фибулы варианта J-Костшевский. Возможно, при внимательной проработке можно будет показать, что „позднелатенская" конструкция появляется в латенской культуре с севера, вместе с походами кимвров и тевтонов. Само привычное название "позднелатенские" тогда окажется не очень удачным.
В связи со сказанным выше возникает вторая загадка кимвров и тевтонов: откуда появились эти варвары и почему археологи не могут найти следов их передвижений?
Обратимся к источникам. Страбон пишет, что "причиной превращения их в кочевников и разбойников было то обстоятельство, что они были изгнаны из своих жилищ сильным приливом, когда жили на полуострове. Они и теперь живут в той же области, которой владели раньше, и посылали Августу в дар свой самый священный котел" [Strabo, VII, 2]. Плиний называет Ютландский полуостров, современную Данию, полуостровом кимвров [Plini, IX, 96]. Плутарх же сообщает: "...о них было неизвестно, что это за люди или откуда они надвинулись и, как туча, напали на Галлию и Италию. По большей части предполагали, что это германские племена, расселившиеся вплоть до Северного океана: у них высокий рост и голубой цвет глаз..." [Plut, Mar., XII].
Нет особых оснований не доверять этим источникам. Обычно их трактуют однозначно: кимвры вышли с территории Дании, по Эльбе или Одеру поднялись до мест расселения бойев на территории современной Чехии, а далее последовали известные события. И кимвры, и тевтоны при этом считаются германцами (например, [39, s. 196-197]). Однако на деле ситуация сложнее. Во-первых, во времена Страбона (на рубеже новой эры), Плиния (вторая половина I в.н.э.) и Плутарха (II в.н.э.) германцы были хорошо известны римлянам: под этим именем выступали все племена к северу от верхнего и среднего Дуная и к востоку от Рейна, вплоть до Балтики и Скандинавии. Но иначе обстояло дело на рубеже II-I вв. до н.э. Современник нашествия, Посидоний из Апамеи, побывавший и в Галлии, не называет кимвров и тевтонов германцами. Для него германцы - это лишь небольшое племя, живущее в верховьях Рейна и имеющее странный обычай запивать жареное мясо смесью молока с вином [39, S.40-41].
Ф. Шлетте, специально исследовавший все свидетельства источников о первых упоминаниях германцев, пришел к выводу, что до галльских войн Цезаря термин "германцы" не был известен или был малоупотребителен и лишь после этого стал саморазумеющимся. Все же предшествующие упоминания у Пифея, в источниках о восстании Спартака, являются или более поздними вставками, или фальсификатами, как, например, акт о триумфе Клавдия Марцелла 222 г. до н. э. [69, S.11]. Совместными же усилиями лингвистов и археологов установлено, что на территории между Рейном и Дунаем на рубеже эр обитали группы населения, ставшие впоследствии как прямыми предками современных германцев, так и представителями неких "третьих" народов "между кельтами и германцами", остатки прежнего индоевропейского населения [51]. Кстати, парадоксальным образом в зону "третьих" народов попадают и германцы Посидония [70, р.32-33].
Во-вторых, замечено, что кимвры и тевтоны выступают в сильно кельтизированном виде [77]. Их вожди носят кельтские имена - Бойорикс, Кезарикс, Лугиус. Серторий, служивший под началом Мария, собираясь в разведку во вражеский лагерь под Аквами Секстиевыми, учил кельтский язык и одевался по-кельтски [Plut., Sert, III]. Кимвры и тевтоны, как и кельты, сражались полуобнаженными и имели кельтское вооружение - шлемы, украшенные изображениями животных, тяжелые длинные мечи и большие щиты. Кимвры, переходя Альпы, "взбирались на вершины гор по глубокому снегу и льду, а оттуда, подложив под себя щиты, стремительно неслись по скользкой крутизне" [Plut., Mar., XXIII]. У более поздних германцев, а также обитателей северной Европы позднего предримского времени щиты сравнительно небольшие, круглые или овальные, с выпуклым умбоном. На таком щите с горы не съедешь. А вот кельтские большие щиты типа "тюреос" с продольным ребром и почти плоским умбоном вполне могли послужить и санками.
Вряд ли северные варвары успели так сильно кельтизироваться за 12 лет непосредственных контактов с кельтами-гельветами и амбронами. Вернее будет предположить, что кимвры и тевтоны были выходцами из уже кельтизированного, латенизированного "третьего мира" древней Европы [27].
В-третьих, если бы даже все население древней Дании выселилось на рубеже II-I вв. до н.э., там вряд ли набралось бы 300 тысяч воинов. Да и не заметно каких-либо кардинальных перемен ни в материальной культуре Ютландии, ни на предполагаемых путях движения кимвров и тевтонов. Перемены есть - в Ютландии приблизительно в это время начинается период IIIa по К. Беккеру [30, S.290-291], в остальном кругу латенизированных культур ранняя фаза сменяется средней [50, S.290], или фаза "о" - фазой "с" [4]. В губинской группе междуречья Одера и Нейсе фаза II сменяется фазой III [41; 42], в пшеворской A1 на А2 [37, с.59], в северо-восточной Чехии группа Боденбах-Подмоклы сменяется группой Кобылы [75]. Но все эти перемены не столь существенны, чтобы предполагать передвижения огромных масс населения.
Более подходящей была бы ситуация на 100 лет раньше, когда происходило образование всего цикла латенизированных культур - началась стадия Рипдорф ясторфской культуры, в ней возникли группы Боденбах-Подмоклы и губинская, сложились культуры пшеворская, оксывская, зарубинепкая и поянешти-лукашевская. Заметно в этих процессах и участие групп населения скандинавского происхождения [1; 5; 7; 11; 12: 29; 37; 47; 62; 70].
Все эти культуры от. Балтики до Карпат, Днепра и Дуная, при наличии определенных различий, обладают и общими чертами: их носители пользуются фибулами и оружием кельтского образца, у них исключительно лепная керамика (лишь иногда используется поворотная подставка), чернолощеная или нарочито ошершавленная - "хроповатая", они хоронят своих сородичей в больших могильниках и почти исключительно по обряду трупосожжения. Эти общие черты заметно отличают их от соседей - кельтов, гето-даков, сарматов и скифов, а также от жителей лесной зоны Восточной Европы.
Результатом тех же процессов, которые привели к сложению круга латенизированных культур, было появление в Причерноморье бастарнов и скиров, позднее причисленных к германцам, хотя при первых упоминаниях этот этноним по отношению к ним, естественно, не применялся: Тит Ливий называет бастарнов галлами (например, [Liv., XXX, 5, 10]).
Мы не будем сейчас останавливаться подробно на всех деталях этих событий, потому что многие из них уже обсуждались в литературе, а мы надеемся специально посвятить проблеме бастарнов и скиров одну из следующих статей.
Поскольку исходный район движения носителей латенизированных культур не очерчивается четко, а охватывает обширные пространства междуречья Эльбы и Одера, Ютландию и, возможно, острова Балтийского моря [7], нельзя исключить, что два этнонима, донесенные до нас письменными источниками (бастарны и скиры), не исчерпывали числа всех участников движения. В результате остается предположить, что выселение кимвров и тевтонов или их предков и родственников могло произойти не непосредственно перед нападением на Кельтику, а значительно раньше. В сознании античных авторов (или их информаторов) могла произойти контаминация данных о близких им реальных событиях со свидетельствами о выселении с прародины, сохранившимися в виде легенд и сказаний, которые римляне вполне могли слышать от многочисленных кимвров и тевтонов, попавших в рабство. Возникает ситуация, где-то напоминающая более позднюю историю с готами и записанными Аблавием и Иорданом легендами об их выселении из Скандинавии.
Третью загадку составляют сведения Посидония, цитируемые Страбоном и Плутархом. Историки и археологи редко к ним обращались, уж очень они казались несуразными и фантастическими. Страбон пишет, что кимвры "совершали походы даже до области Меотиды" и что греки называли кимвров киммерийцами [Strabo, VII, 2, 2]. Созвучны и данные Плутарха: "Кельтика такая обширная и большая страна, что она от Внешнего океана и холодных краев идет в сторону солнечного восхода и Меотиды, где граничит с Понтийской скифией. Именно оттуда, где смешались эти племена, они выселились не одним непрерывным натиском, но каждое лето, двигаясь все вперед и воюя, прошли материк за большой промежуток времени. Поэтому, хотя они делились на много частей с разными названиями, все их войско в совокупности называлось кельтоскифами... Те киммерийцы, которые в древности впервые стали известны грекам, были не большей частью своего народа, а только группой беглецов... Самые же многочисленные и воинственные из них живут на краю света, у Внешнего моря и занимают тенистую и лесистую землю... вплоть до Герцинского леса... именно оттуда возникло наступление на Италию этих варваров, называвшихся сначала киммерийцами, а потом очень кстати кимврами" * [Plut., Mar., XI].
Чуть выше Плутарх пояснял, что "кимврами германцы называли разбойников". В этой связи возникает мысль, не скрывается ли за этим названием понятие не столько этноплеменное, сколько этносоциальное, наподобие "викинги" более позднего времени.
Тогда логика этого, кажущегося с первого взгляда запутанным, пассажа становится яснее. К Посидонию, а через него к Страбону и Плутарху, очевидно, поступала противоречивая информация. С одной стороны, кимвры вышли из северных краев Европы, с другой - они начинали движение откуда-то с востока, от Меотиды, из Скифии. Нетрудно заметить, что область, в которой расселяет кимвров-киммерийцев Плутарх, в общем и целом совпадает с зоной распространения латенизированных культур [3] - между Балтикой, Герцинским лесом и Меотидой, в широком понимании этого термина, как всего Причерноморья. В ее восточной части происходит смешение кельтов (носителей латенизированных культур) и скифов. Cкифы во времена Плутарха обитали в степном и предгорном Крыму и в Нижнем Поднепровье (Припонтийская Скифия). Плутарх, конечно, читал Геродота и знал, что скифы пришли в Причерноморье с востока, потеснив киммерийцев, народ тоже подвижный и воинственный. Неудивительно, что все нескифское население Восточной Европы он, исходя из распространенных представлений обыденного сознания об этносах и созвучия названий, мог считать потомками киммерийцев.
Таким образом, если принять гипотезу, предложенную выше, при решении второй загадки, и представить, что в нападении на Кельтику и Рим приняло участие все население "третьего мира" (отсюда и огромные размеры армии), то кажущиеся странными и несуразными свидетельства Посидония, Страбона и Плутарха будут выглядеть не столь уж фантастическими. Полчища варваров, вероятно, состояли из носителей ясторфской культуры и ее периферийных групп, в том числе и северных, а также из выходцев с территорий других латенизированных культур - оксывской, пшеворской, поянешти-лукашевской и, возможно, зарубинецкой. Территории последних двух культур, кстати, могли быть затронуты массагето-роксолано-аорсской волной движения кочевников, что создавало дополнительный стимул для переселения.
Что касается самих кимвров и тевтонов, то они в этом мероприятии могли составлять лишь небольшую часть, быть организующей силой и действительно выйти из Северной Европы - Ютландии или Скандинавии. Может быть предложена и расширенная, этносоциальная трактовка терминов "кимвры" и ",тевтоны", вроде более позднего понятия "викинги", и тогда поиск их прародины становится излишним.
Некоторые археологические свидетельства передвижения отдельных групп населения в пределах "третьего мира" прослеживаются как накануне кампаний против Кельтики, так и одновременно с ними, хотя отсутствие надежных привязок к абсолютному счету времени тех изменений в материальной культуре варваров, которые фиксируются лишь в виде периодов относительной хронологии, весьма затрудняет реконструкцию последовательности событий.
Попробуем проиллюстрировать некоторые детали процессов, происходивших в "третьем мире", примерами из археологии, сделав предварительно еще одну оговорку. Основная сложность сопоставления данных истории и археологии заключается в разной природе используемых дат. Если в истории каждая дата - это некая точка во времени, указываемая с точностью до года или дня, то археологи вынуждены пользоваться для датировок приблизительными интервалами, в лучшем случае длительностью в 20-30 лет, зачастую в полстолетия, а иногда в столетие или два - временем бытования того или иного типа вещей, длительностью ступеней или фаз относительной хронологии. На интервал археологической даты могут прийтись два или три исторических события, связь с которыми будет приблизительно равновероятной. Например, явления, датированные среднелатенскими фибулами варианта В-Костшевский, могут относиться как ко времени передвижений бастарнов, так и ко времени кимвров, а события, фиксируемые по распространению фибул К или J по Костшевскому, могут быть связаны как с эпохой кимвров и тевтонов, так и с более поздними событиями времен Цезаря и Ариовиста. По дополнительным данным (сочетание вещей в комплексах друг с другом) иногда можно уточнить дату и предложить обоснование выбора того или иного варианта исторической интерпретации, но это возможно далеко не всегда.
Первое явление, которое следует отметить в среде латенизированных культур накануне походов кимвров и тевтонов - это возрастание активности носителей оксывской и пшеворской культур, расположенных на территории Польши. В это время происходит окончательное оформление классического облика этих культур - сильно военизированных, с массой оружия в погребениях, что подтверждается рядом исследований [44; 54]. В пшеворской культуре происходит переход от фазы A1 к фазе А2 (рис. 2), который Т. Домбровская считает возможным отнести к первым десятилетиям второй половины II в. до н.э. [37, с.59], т. е. к 150-130 гг. до н.э. В это же время нарастает начавшееся несколько ранее "вкрапление" отдельных пшеворских групп в среду носителей ясторфской культуры на Средней Эльбе и в междуречье Эльбы и Заале (рис. 3). Здесь выявлены погребения с типично пшеворской керамикой и оружием [48, S.156-167, рис. 2; 64, 65; 61; 37]. Благодаря своей военизированности пшеворская и оксывская культуры занимают особое место в среде латенизированных культур, и это, возможно, объясняется спецификой процесса их сложения, хотя он до конца еще и не ясен. Но очевидно, что, кроме остаточного местного населения, вероятно, состоявшего из носителей поморской культуры, в процессе их формирования решающую роль сыграли ясторфские культурные традиции [81; 37]. Не исключено и участие в сложении новых культур небольших групп выходцев из Скандинавии [62; 37, с.192-205] и, возможно, группы кельтов Силезии [82. - С.40-103], проникшей сюда еще в период "исторической экспансии" кельтов, в конце IV- начале III вв. до н.э. В отличие от остальной Кельтики, будучи практически оторванной от нее, эта группа, видимо, сохранила социальную структуру прежней бурной эпохи. Именно от кельтов Силезии, скорее всего, позаимствовали пшеворцы свое вооружение, а с ним, очевидно, технику и тактику боя, как и некоторые верования (святилище на горе Шлёнза продолжало функционировать после кельтов при пшеворцах - см. [82. - С.65-75]), а также, вероятно, и социальную военизированную структуру [70, р.42]. Тогда пшеворские находки на Эльбе можно было бы трактовать как следы, оставленные группами воинов-пшеворцев, пришедших служить вместе с семьями местному ясторфскому населению: наемничество было широко распространено в кельтской среде эпохи ",исторической экспансии". Это могли бы быть те группы воинов-профессионалов, которые, как писал Плутарх о кимврах, "наступали так, что против их храбрости и отваги нельзя было выстоять, а в сражениях они действовали руками с быстротою и силой огня" [Plut., Mar., XI].

Рис. 2. Основные типы вещей фазы А2 пшеворской культуры (по Т. Домбровской)

Рис. 3. Пшеворские комплексы фазы "с" позднего предримского времени на Средней Эльбе (по К. Пешелю)
1-8 - Нососице, 9-11 - Шморкау, 12-21 - Артерн, 22-25 - Нордхаузен, 26-31 - Фрейенорла, 32-36 - Гроссромшедт;
37 - карта: 1 - находки умбонов щитов; 2 - находки мечей
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться






 Наверх
Наверх