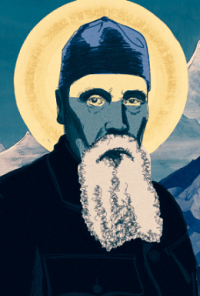Обратимся к работе В.Е. Дерябина.
Возвращаясь к общему графику канонического анализа 648 выборок (рис.102), следует рассмотреть третий полюс расовой изменчивости, представленный на нем группами шведов, финнов, эстонцев, латышей и ливов, для которых характерны большие значения первой канонической переменной, описывающие черты северных европеоидов. Достаточно близкое расположение этих групп на графике может вызвать определенные сомнения. Так, в наборе перечисленных выборок представлены группы шведов и юго-западных финнов, относящиеся к одному из скандинавских антропологических типов атланто-балтийской расы, что было показано Н.Н.Чебоксаровым (Витов и др., 1959) и подтверждено проведенным нами анализом (Дерябин, 1998). С другой стороны, западные эстонцы и латыши, а также - финны восточной зоны Финляндии в ходе этого анализа демонстрировали заметные и закономерные отличия от этого типа, что не обнаружилось в обсуждаемом нами анализе.

Рисунок 102. Сочетание средних значений первой (К1) и второй (К2) канонических переменных , найденных для 648 выборок народов Европы и Кавказа. Обозначения: 1 - русские, 2 - украинцы, 3 - белорусы, 4 - мордва, 5 - мари, удмурты, бесермяне, 6 - коми, коми-пермяки, 7 - татары, чуваши, башкиры, 8 - карелы, вепсы, ижорцы, ингерманландцы, 9 - молдаване, гагаузы, болгары, албанцы, 10 - литовцы, поляки, 11 - латыши, ливы, эстонцы, 12 - финны, шведы, 13 - венгры, 14 - греки, валахи, македонцы, 15 - чехи, словаки, румыны, 16 - выборки народов Кавказа, относящиеся к индо-средиземноморской расе, 17 - выборки народов Кавказа, относящиеся к балкано-кавказской расе.
Для прояснения обнаруженных неясностей был проведен специальный дополнительный анализ, в который были включены материалы Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции (Витов и др., 1959) и данные К.Ю.Марк (1975) по выборкам финнов и шведов Финляндии. Этот анализ (табл.50) выявил в качестве наиболее важной закономерности изменчивости вариацию между двумя следующими полярными вариантами.
Первый из них характеризуется большими значениями первой канонической переменной, описывающими сочетание высокорослости, относительных длинноголовости и высоколицести при относительно небольшой высоте носа, некоторого усиления роста бороды, увеличения горизонтальной профилировки лица при относительном уменьшении вы-соты переносья и более ортохейличного профиля верхней губы. Нетрудно видеть (рис. 106), что этот вариант характерен только для юго-западных финнов и проживающих здесь же шведов. В наиболее подчеркнутом виде он проявляется у аландских шведов. Очевидно, что здесь мы имеем дело со скандинавским типом атланто-балтийской расы в терминологии Н.Н.Чебоксарова (Витов и др, 1959; Марк, 1975). Вместе с тем, для населения Скандинавии, вероятно, можно выделить (обзор: В.В.Бунак, 1971) до 8 - 9 антропологических вариантов атланто-балтийского облика. Поэтому, возможно, найденное среди финнов и шведов юго-западной территории Финляндии подразделение следует считать каким-то локальным вариантом одного из скандинавских антропологических типов атланто-балтийской расы, которому по его географическому ареалу можно присвоить название южно-ботнического типа.

Рисунок 106. Сочетание средних значений первой (К1) и второй (К2) канонических переменных, полученных при анализе данных ПОКЭ и К.Ю.Марк. Обозначения: 1 - эстонцы, 2 - латыши, 4 - литовцы, 5 - финны, 6 - шведы
Противоположный полюс антропологической вариации характеризуется обратной комбинацией низкорослости, относительных короткоголовости и низколицести при относительно высоком носе, некоторого ослабления роста бороды и горизонтальной профилировки лица при относительном увеличении высоты переносья и менее ортохейличного профиля верхней губы. Этот вариант характерен (рис.106) для литовцев. Как это видно на графике канонического анализа, группы, принадлежащие к южно-ботническому типу атланто-балтийцев, образуют отчетливо обособленный кластер, обнаруживающий заметный морфологический хиатус по отношению к выборкам восточной и северной Финляндии, эстонцев и латышей. Таким образом, подтверждается вывод (Витов и др., 1959) о том, что среди населения Прибалтики не прослеживается присутствия атланто-балтийской расы в виде типичных скандинавских антропологических вариантов.
Причина того, что канонический анализ 648 выборок не выявил отчетливой расовой структуры, присутствующей в населении Восточной Прибалтики, которую можно видеть на рисунке 106, заключается в следующем. Этот метод биометрического рассмотрения данных ориентирован на выявление наиболее важных закономерностей межгрупповой изменчивости в исследуемом наборе выборок. В общем массиве анализируемых групп населения лишь 8 выборок из - 648 принадлежат к южно-ботническому типу атланто-балтийской расы. Одновременно балкано-кавказская раса и каспийский тип индо-среди-земноморской расы представлены несколькими десятками выборок. Поэтому, в ходе канонического анализа оба этих антропологических подразделения выделились весьма отчетливо, тогда как для групп шведов, финнов, эстонцев, латышей и ливов действительно существующая аналогичная структура не проявилась.
Среди балтских групп наибольшую близость по отношению к русским западно-валдай-ского варианта и валдайским же белорусам демонстрируют литовцы, "облако" выборок которых значительно трансгрессирует с зоной размещения - первых. Для латышей и эстонцев это характерно в гораздо меньшей степени.
Для выяснения того, какие антропологические варианты, представленные в балтском и финском населении Восточной Прибалтики, демонстрируют наибольшее сходство с русскими и белорусами валдайского типа, на рисунке 113 приведен соответствующий фрагмент графика канонического анализа. Он является повторением рисунка 112, но и использованием системы обозначений балтских и финских выборок в соответствии с их принадлежностью к таксонам, выделяемым для населения Восточной Прибалтики (Дерябин, 1998).
На рисунке 113 можно видеть, что литовцы, расселенные на юго-востоке Литвы и принадлежащие к валдайскому типу (Алексеева, 1965, 1973; Дерябин, 1998), оказываются почти идентичными с русскими и белорусами этого же типа. Во всяком случае, кластер, объединяющий группы валдайских литовцев, практически целиком размещается в границах объединения западно-валдайских русских и оказывается очень близким к валдайским белорусам. Напротив, литовцы неманского антропологического варианта (Дерябин, 1998), расселенные в остальной и большей части Литвы, обнаруживают меньшую трансгрессию по отношению к валдайским русским, белорусам и литовцам. Примерно половина выборок литовцев, принадлежащих к неманскому варианту, оказывается вне зоны размещения на графике валдайских групп.

Рисунок 113. Фрагмент рисунка 111, представляющего выборки, характеризующиеся малыми и средними значениями первой канонической переменной (от -1.0 до 0.2). Обозначения: 1 - русские западно-валдайского варианта, 2 – русские восточно-валдайского варианта, 3 - русские собственно верхнеокского варианта, 4 - русские десно-сейминского варианта, 5 - белорусы валдайского типа, 6 - литовцы неманского варианта, 7 - литовцы валдайского типа, 8 - латыши латгальского варианта, 9 - лытыши курземского и земгальско-видземского вариантов, 10 - эстонцы восточно-эстонского варианта.
Аналогичная картина характерна и для латышей. Так, латыши латгальского варианта (Дерябин, 1998), расселенные на востоке Латвии, обнаруживают заметную, хотя и меньшую по сравнению с неманскими литовцами, близость по отношению к русским и белорусам валдайского типа. Половина выборок, относящихся к латгальскому варианту, располагаются в непосредственной близости к границам зоны размещения на графике русских и белорусов валдайского типа. Вместе с тем, все группы латышей, расселенные на западе и в центральной части Латвии и принадлежащие соответственно к курземскому и земгальско-видземскому вариантам, обнаруживают заметные отличия от валдайцев. Следует заметить, что большая часть групп западных латышей, населяющих Курземе, не вошла в обсуждаемый анализ, так как ранее демонстрировала (рис.108) заметные отличия от русских и белорусов.
Все пять выборок эстонцев, участвовавших в рассматриваемом анализе, относятся к восточно-эстонскому варианту (Дерябин, 1998), распространенному в населении восточных территорий Эстонии. Для них, так же как и для латгальских латышей, наблюдается некоторое сходство с русскими и белорусами валдайского типа. Группы эстонцев, населяющих западную часть Эстонии, не участвовали в обсуждаемом анализе, из-за значительных отличий от русских и белорусов, проявившихся в ходе предыдущего канонического анализа (рис.108).

Рисунок 108. Сочетание средних значений первой (К1) и второй (К2) канонических переменных, найденных для выборок народов Восточной Европы и смежных территорий. Обозначения: 1 - русские, 2 - украинцы, 3 - белорусы, 4 - мордва-эрзя, 5 - мордва-мокша, 6 - чуваши, 7 - татары, 8 - башкиры, 9 - карелы, 10 - вепсы, ижорцы, ингерманландцы, 11 - коми, 12 - коми-пермяки, 13 - мари, удмурты, бесермяне, 14 - молдаване, гагаузы, болгары, албанцы, 10 - литовцы, 15 - чехи, словаки, румыны, немцы, венгры, 16 - литовцы, поляки, 17 - латыши, ливы, эстонцы, 18 - финны, шведы.
Таким образом, наибольшим сходством с антропологическими вариантами, представленными в балтском и финском населении Восточной Прибалтики отличаются русские западного варианта валдайского типа и белорусы этого же типа. Среди литовцев, расселенных на юго-востоке Литвы, распространен местный вариант валдайцев.
Неманский вариант литовцев, несмотря на определенное сходство с русским, белорусским и литовским населением, принадлежащим к валдайскому типу, все же обнаруживает по отношению к нему существенные различия, заметно тяготея к другим антропологическим вариантам, распространенным в Латвии и Эстонии. То же самое можно отметить для латышей латгальского типа и для восточных эстонцев. Обнаруживая определенное сходство с валдайскими группами, они демонстрируют также еще большую близость с населением Западной Эстонии, Курземе, Земгале и Видземе, которое в свою очередь уже вполне определенно отличается от этих групп.
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться






 Наверх
Наверх