Козенкова В.А.
Биритуализм в погребальном обряде древних «кобанцев». Могильник Терезе конца XII—VIII вв. до н. э. (Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. V). — М., 2004.
Глава пятая
МЕСТО МОГИЛЬНИКА ТЕРЕЗЕ В СИСТЕМЕ ДРЕВНОСТЕЙ КАВКАЗА И ЕВРОПЫ
"Обилие, морфологическое разнообразие и выразительность материалов Терезинского могильника дают возможность для объективного и фундированного вывода об историческом месте памятника среди синхронных объектов на весьма широком географическом пространстве. Сравнительно-типологический анализ погребального обряда и похоронного ритуала, а также массового погребального инвентаря из гробниц, позволил достаточно доказательно, на мой взгляд, найти для него культурную и хронологическую нишу в череде соседних и территориально более отдаленных археологических объектов.
Несомненно, большая роль здесь принадлежит накопленной и упорядоченной базе данных, которая собрана на протяжении многих десятков лет и проанализирована не менее чем тремя поколениями археологов-кавказоведов.
Предпринятое предметное сопоставление форм и орнаментации керамики показало по большинству признаков несомненную принадлежность этой категории материальной культуры из гробниц к северокавказской группе кобанской культуры. В подавляющем большинстве все сосуды, особенно круглодонные кубки, находят прямые аналогии в памятниках конца II - начала I тыс. до н.э. в западной зоне распространения культуры от Баксана до верхних притоков Кубани, включая бассейн р. Уруп в Закубанье.
В формах наиболее многочисленной категории посуды - кубков - почти нет признаков саморазвития, если не считать отдельные сосуды с очевидно архаичными орнаментами. Например, это кубки, украшенные не нарезным геометрическим орнаментом, а тычковым, нанесенным пальцевыми углублениями. Истоки круглодонных форм кубков прослеживаются в местной культуре уже в протокобанском периоде. А несомненное сходство их с подобными кубками из памятников периода НаА и НаВ Крыма, Западного и Северного Причерноморья отражает, скорее всего, эпохальное мощное воздействие на весь европейский регион (в том числе и на северо-запад кавказских предгорий) ранней фазы культуры полей погребальных урн. Подобная ретрансляция опыта взаимодействия между кобанской и центральноевропейскими культурами галыптатского облика демонстрируют и некоторые металлические украшения. Особенно наглядным примером является одна из форм височных подвесок, а именно, бронзовые кольцевидные подвески из узкой продольно-ребристой пластины, с узким перехватом и заходящими друг за друга концами. Прямая аналогия этой форме, как указывалось выше, имелась в материалах второй половины XI - первой половины X в. до н.э. в Подунавье. Наиболее восточные находки их относятся к важным хроноиндикаторам конца X в. до н.э. культуры Козия-Сахарна в Днестро-Прутском междуречье, являясь показателем процесса «гальштатизации» местных культур.
Что касается подавляющего числа металлического погребального инвентаря из Терезе, то все ведущие категории изделий еще более, чем керамика, показывают безусловную связь могильника с кобанской культурой. Особенно это относится к наиболее узнаваемой части предметов, таких как великолепная бронзовая посуда из гробницы 3, бронзовые топоры и украшения. В гробницах с кремационным ритуалом оказались наиболее ранние разновидности пластинчатых манжетовидных браслетов с завитками на концах. Они более чем другие являются индикаторами кобанской культуры до самого позднего периода ее развития. Не менее важным показателем данной культуры первой половины I тыс. до н.э. являются и сложно-лопастные височные подвески с крупными завитками на концах (VI тип), хорошо известные в эпонимных памятниках, в первую очередь в Кобанском. В гробницах Терезе эта форма не только представляет ранний вариант, но свидетельствует о сложном процессе формирования культуры, в котором приняли участие центральноевропейские элементы, а в широком смысле -элементы культур Средиземноморья начала эпохи бронзы.
Ряд украшений, например, бронзовые стержневидные булавки с навершием в виде трубочки, свидетельствует об определенной культурной общности в эпоху поздней бронзы и раннем железном веке с населением Закавказья. На это указывает и присутствие в погребальном инвентаре Терезе парадных и, видимо, сакральных конусовидных булавок, Ф-образных фаянсовых бусин, т.е. предметов, подтверждающих существование межкультурных контактов с населением, обитавшим в древности на современных территориях Грузии и Армении. Наиболее близкими к Терезинскому могильнику по погребальному обряду и вещам являются Эшкаконский и Инжиччукунский могильники, расположенные тоже в зоне западного варианта, а также захоронения в районе станицы Исправной, от которых сохранились лишь некоторые предметы. Особенно близка терезинским и эшкаконским хорошо сохранившаяся булавка с лопатовидным навершием из Исправной. Фактически, на основе существования тесной культурной близости многих форм из перечисленных памятников можно предполагать узкорегиональную (локальную) специфику культуры близкородственного коллектива внутри общего ареала Кобан. В свою очередь, материальные корни этого коллектива несомненно первоначально находились на южном склоне Большого Кавказа в бассейне Большой Лиахвы. Именно отсюда начался процесс проникновения, возможно, физического исхода какой-то группы населения в Кобанское и Дигорское ущелья и далее на запад в предгорья северо-западной части Центрального Кавказа. В Терезинском могильнике как раз засвидетельствован наиболее ранний облик древностей XII-XI вв. до н.э. носителей этого сообщества, а затем дальнейшее развитие здесь его культуры, позднейшие следы которой как будто просматриваются в Западной Грузии в VII-VI вв. до н.э.
Вносят свой вклад материалы могильника Терезе и в рассмотрение остродискуссионной проблемы т.н. древностей новочеркасского типа, в первую очередь, в вопросы об истоках этого комплекса, его зарождения, саморазвития и исчезновения, а точнее качественной трансформации с середины - начала второй половины VII в. до н.э. В контексте предложенного мной варианта атрибуции данной группы археологических источников как проявления разновременных фаз межкультурных контактов кобанской культуры на юге и юго-западе Европы и частично в ее центре (Альпийская зона) важность материалов из Терезе несомненна. Ведь некоторые предметы из ранних гробниц как раз демонстрируют факт саморазвития отдельных компонентов - слагаемых древностей новочеркасского типа. Здесь в одних и тех же погребальных сооружениях находились в тесном соседстве такие изделия, которые в памятниках юго-восточной полосы Европы маркировали бы белозерский, черногоровский и новочеркасский периоды поздней бронзы - раннего железа. Так, материалы из гробниц 1 и 2 позволяют наблюдать, как на протяжении длительного периода происходило появление некоторых качественно новых элементов, которые позднее развиваются в предметы-маркеры наиболее показательного позднего этапа древностей новочеркасского типа VIII -первой половины VII в. до н.э. Особенно ярко это демонстрируют находки из кремационной гробницы 2. Архаические формы раннекобанских украшений и керамики сочетались здесь с бронзовой рукояткой с грибовидным навершием от биметаллического меча, с ажурными колесовидными привесками с крестом в центре той модификации, которая известна по матрице литейной формы из Кардашинки I. Здесь же присутствовали роговые овальные бляшки от конской сбруи, характерные для раннечерногоровского периода. Находились здесь и бронзовые биконические пронизи, и крестовидная с 4-мя выступами бусина, т.е. формы вещей, которые позднее стали типичными показателями кобанской культуры не только в ее ареале, но и далеко за его пределами. В гробнице I также имелись предметы, по морфологии тесно связанные с древностями новочеркасского типа VIII - начала VII в. до н.э., но датирующиеся более ранним временем, концом IX - началом VIII в. до н.э., не позднее его середины (крупные бронзовые бляхи от узды, бронзовая лунница с приливами, овальные роговые или костяные бляшки). Верхний предел им определяется присутствием ранних бронзовых лопастных наконечников стрел степного типа доскифского периода. Особенно важен больших размеров двулопастной втульчатый наконечник стрелы, близкий по абрису некоторым стрелам на матрице литейной формы Новочеркасского клада, который я отношу ко второй фазе межкультурных контактов кобанской культуры с окружающим миром и датирую концом первой половины VIII в. до н.э., самым началом его второй половины.
Эталонным памятником для новочеркасских древностей третьей фазы, которая может быть датирована второй половиной VIII в. до н.э., ближе к его концу, безусловно являются предметы погребального инвентаря гробницы 3 Терезинского могильника, где покойники захоронены уже по обряду ингумации. Они относятся к тем, что составляют, вкупе с другими известными ранее, фактологическую базу для подтверждения существования активных взаимосвязей «кобанцев» с инокультурными областями севернее Кавказа. В общем плане они во все времена, судя по имеющимся данным, играли значительно большую роль, чем области, расположенные далеко на юге Закавказья, даже включая такой мощный культурный очаг, как территория Армении.
Более активные контакты населения северных склонов с Альпийским и Карпато-Дунайским регионами, через Западное и Северное Причерноморье обусловили, на мой взгляд, и появление в северо-западной части Центрального Кавказа обряда кремации в той форме, которую фиксируют памятники типа Верхней Рутхи, Эшкакона и Терезе. Анализ данных по этому вопросу представляется мне достаточно обоснованным.
Поиски ареала, откуда идея кремации могла быть занесена в центральные районы Северного Кавказа и заимствована племенами кобанской культуры, заставляют обратиться к двум возможным направлениям: в Закавказье и к широкой степной территории к северу и северо-востоку от Кавказа.
В Закавказье самые ранние случаи известны в памятниках второй половины III тыс. до н.э. Разжигание огня над покойником (Мели-геле), остатки сожженных костяков (Тетрицкаро, Тквиави, Хачанагет), наличие пепла в сосуде в бревенчатой подкурганной гробнице в Самгори (Кохлах-гора) - это все, что известно для районов Грузии. В культуре III тыс. до н.э. Армянского нагорья, как и территории Азербайджана, сведения не отчетливы. В целом обряд этот для эпохи ранней бронзы Закавказья не только не характерен, но встречается как редчайшее исключение. В эпоху средней бронзы, в основном первой половины II тыс. до н.э., случаи трупосожжений зафиксированы на территории Армении, в Кировакане, Лчашене и в Кирги. Предположение об обряде кремации в Триалети остается дискуссионным, поскольку основано лишь на факте отсутствия костей человека в могилах. В среднебронзовый период трупосожжения в Закавказье представляли эпизодические редкие включения среди погребений с ингумацией. Более заметен обряд трупосожжения в памятниках эпохи поздней бронзы, причем, в основном, конца II - начала I тыс. до н.э. на территории Восточного Закавказья в группе курганов с комплексами вещей т.н. ходжалы-ке-дабекского типа. Эти памятники, по мнению М. Н. Погребовой, отличались «сложным и необычным» погребальным ритуалом, для которого характерны бревенчатые деревянные конструкции внутри могилы, конские захоронения и обычай сжигания камеры, в результате чего происходила частичная кремация покойников. Согласно гипотезе М. Н. Погребовой, все эти особенности могут свидетельствовать «о возможности проникновения одной из групп населения в конце II тыс. из Нижнего Поволжья в Восточное Закавказье, где она, очевидно, осела, прочно смешалась с местным населением и в основном восприняла его материальную культуру». Ситуация, по мнению М. Н. Погребовой, отражала процесс расселения иранских племен и медленного, поэтапного движения индоевропейцев в районы Передней Азии. Наиболее ранние курганы датированы концом XIII - XII в. до н.э., но основная группа - XI-VIII вв. до н.э. В VIII—VII вв. до н.э. в восточном и центральных районах Закавказья обряд кремации встречен лишь спорадически: сооружение № 58 близ Ханлара, «колумбарий» у селения Малаклю, захоронение в Дигоми. Особо выделяется группа памятников Западной Грузии с обрядом, аналогичным варианту, встреченному в кобанской культуре. Наиболее близки дигорским могильники в селении Брили (Рача). Каменный склеп отсюда по конструкции, обряду и погребальному инвентарю аналогичен верхнерутхинским. Но кроме того, здесь открыта специальная площадка для кремации, окруженная рвом, для сжигания покойников вместе с сопровождающими вещами. Площадка датирована Г. Ф. Гобеджишвили началом I тыс. до н.э. - VII-IV вв. до н.э. Кремационные площадки со рвами, заполненными человеческими костями вместе с обгоревшими предметами VIII-V вв. до н.э., а также могилы с кремациями VIII-VI вв. до н.э. довольно многочисленны в ареале колхидской культуры: Хуцубани, Палури, Мерхеули, Мухурча, Ниг-взиани, Сухумская гора, Гуадиху, Ларилари. По мнению М. М. Трапша, в Западном Закавказье обряд кремации появился в VIII в. до н.э., но «поиски на месте зарождения этого обряда захоронения пока не дали положительного результата». Не может быть принята и гипотеза о греческом происхождении этого обряда у древних колхидцев, поскольку по ней не получают удовлетворительного объяснения кремации VIII-VII вв. до н.э. в горной зоне.
Итак, материалы из Закавказья документируют существование здесь в эпоху ранней и средней бронзы единичных, разрозненных, изолированных случаев трупосожжений. Материалы конца II, но преимущественно начала I тыс. до н.э. из Восточного Закавказья синхронны, а может быть, даже позднее центральнокавказских. Могильники с кремациями из районов Западной Грузии чрезвычайно близки кобанским, но все без исключения более поздние и соответствуют в основном группе VII-VI вв. до н.э. Из всего сказанного следует, что закавказский исходный им¬пульс появления кремационного обряда в кобанской культуре кажется мне маловероятным, поскольку для ранних эпох он не имел системного характера. Все вышесказанное не позволяет рассматривать Закавказье в качестве исходной территории раннего распространения обряда трупосожжения в кобанской культуре. Не исключен как раз обратный процесс. Из района Рутхи он мог распространиться в соседнюю Рачу, а оттуда позднее - в низменные районы Колхиды.
К северу от Кавказского хребта обряд трупосожжения зафиксирован также в ареале сруб-ной историко-культурной общности. Известны десятки пунктов, свидетельствующих об обряде кремаций у «срубников» примерно с XVI-XIV вв. до н.э. Перспективны для поиска истоков обряда кремации в кобанской культуре западные связи населения срубной историко-культурной общности. Действительно, только для западноевропейских культур отмечены древнейшие погребения с кремациями. К V-IV вв. до н.э. относится появление этого обряда в культурах линейно-ленточной керамики. Существуя непрерывно в эпоху средней бронзы, он получает все более широкое распространение и в ряде областей полностью вытесняет способ ингумации. Таковы по обряду культура шнуровой керамики юго-восточной Польши, ранняя лужицкая культура, культура кишпоштач, культура витенберг на севере Трансильвании, частично тшинецко-комаровская культура и т.п. В первой четверти II тыс. до н.э. обряд этот зафиксирован в могильниках среднеднепровской культуры. В эпоху поздней бронзы примерно с 1200 года до н.э. трупосожжения стали господствующими и «единственными на большей части Европы от Карпат на во¬стоке и до Англии на западе». К рубежу II-I тыс. до н.э. наиболее восточные районы его распространения - среднее правобережное Поднепровье и бассейн Северского Донца, т.е. территории, традиционно связанные с Северным Кавказом. Учитывая предметно выявленную глубокую традиционность и постоянство многосторонних связей носителей северокавказских культур со степным северным Причерноморьем, наиболее вероятной представляется возможность заимствования «кобанцами» обряда кремаций из областей Средней Европы, скорее всего, из Подунавья, но не прямо, а через посредство сабатиновской культуры. Некоторым основанием для этого служат отдельные сходные черты ритуала. Например, в культуре Гырла-Маре (конец II тыс. до н.э.) отмечены одиночные, двойные и тройные погребения. Умерших клали на погребальный костер вместе с оружием, украшениями и орудиями труда. Воинственные племена культуры Отомани (северо-западная Румыния) сочетали в погребальном обряде кремацию и ингумацию. Трупосожжения под бревенчатыми помостами в яме известны в лужицкой культуре. Обычаи окружать погребения каменными конструкциями, разжигать погребальные костры внутри камеры, перекрывать могилы накатом из бревен известны в могильниках комаровской культуры.
Все эти разрозненные факты сходства деталей ритуала не имели бы решающего значения сами по себе, если бы не существовало других доказательств существования особых глубинных контактов между Карпато-Дунайским бассейном и областью распространения кобанской культуры. В данном аспекте особого внимания заслуживает заметная в кобанских древностях группа предметов, представляющая или прямой импорт конца II тыс. до н.э., или позднюю модификацию западных типов вещей ХШ-ХП вв. до н.э. В. А. Сафронов и за ним вслед С. Л. Дударев выделили бронзовые кинжальные клинки с необычным для кобанского оружия способом крепления рукоятки на 5-6 заклепках. Западные по происхождению типы кобанских украшений оружия и керамики выделены и проанализированы мною. Большинство точных прототипов для этих вещей находились в древностях Венгрии и Румынии ступени BIV, особенно группы Опай (вторая половина XIII - первая половина XII в. до н.э.). Напомним, что это бронзовые пластинчатые («манжетовидные») браслеты с обрубленными или закругленными концами (Кобань, Рутха, Заюково, Сержень-Юрт, Аллерой, Ахкинчу-барзой, Майртуп), браслеты с концами в виде двух плоских завитков (Рутха, Былым, Ачикулак), пластинчатые браслеты, украшенные тремя рядами выпуклых шишечек на лицевой стороне (Сержень-Юрт, Зандак, Майртуп), височные подвески, овальные, с закрученными в плоскую спираль концами (Кобань, Тли, Эшкакон, Терезе), привески в виде двух волют, закрученных внутрь (Рутха), бронзовые наконечники копий с конусовидной втулкой и небольшим пером, иногда с двумя выпуклыми ребрышками вдоль него (Сержень-Юрт), желобчатые долота (Сержень-Юрт), биконические глиняные корчаги (Сержень-Юрт, Зандак, Ахкинчу-барзой). Кроме того, о связях Северного Кавказа с Карпато-Дунайским бассейном в конце II тыс. до н.э. свидетельствуют две бронзовые крестовидные («антропоморфные») привески культуры Ноа из Беахне-куп, широкие пластинчатые браслеты с гравированным орнаментом на лицевой стороне и заостренными концами из Фаскау и Верхней Рутхи, чрезвычайно близкие браслетам ступени Опай и десяток узких браслетов с тремя острыми ребрами на лицевой стороне из Рутхи («Хоргон») и Верхнерутхинского могильника, имеющие также близкие соответствия в материалах Венгрии.
Конечно, как писал в свое время М. Гёрнес, «нельзя всякое замеченное культурное сходство тотчас объяснять занесением из одной культурной области в другую, в особенности если дело идет о формах жилых строений и могил». Но в данном случае, как мы видим, обряд трупосожжения в кобанской культуре выступает как одно из слагаемых целого конгломерата явлений, трудно объяснимых лишь случайными опосредованными связями между двумя областями. В то же время мы далеки от возрождения старой гипотезы о широкой миграции народа металлургов из Средней Европы и о признании области Кавказа за что-либо иное, кроме своего рода фокуса, в котором «скрещивались и соединялись разнородные, извне приливавшиеся течения». Скорее всего, речь может идти о кратком, единовременном импульсе в один из периодов активного взаимовлияния и взаимопроникновения западных и восточных культурных элементов, в эпоху, совпавшую с формированием культуры Ноа, или, может быть, несколько позже. Состав кладов, вещевой комплекс могил, отдельные предметы в слоях поселений отчетливо фикси¬уют проникновение восточного «срубного» элемента в районы Трансильвании, Венгерской долины, южных областей Польши. И в свою очередь, сравнительное изучение Е. Н. Черных в металлургическом аспекте кладов из степной части Причерноморья и Подунавья показало довольно глубокое проникновение карпато-трансильванской группы металла на восток до Приазовья (Райковецкий клад), т.е. в район, непосредственно примыкавший к Кавказу. Механизм обмена культурными элементами остается во многом не разгаданным. Точнее, он мог быть многовариантным (эстафетная передача, миграции и т.п.). Возможно, как полагает Е. Н. Черных, распространение было связано с деятельностью групп (кланов) мастеров-металлургов, которые «нередко были культурно обособленными от окружающего их населения» и даже «этнически чужеродными», особенно в среде степных племен. От ориентации и направления их многосторонних контактов могло зависеть проникновение тех или иных типов вещей и, вероятно, культурных явлений. Пути связей культур Подунавья и Северного Кавказа в конце II тыс. до н.э. по Нижнему Поднепровыо и Приазовью и активную посредническую роль очагов металлообработки срубной культуры в поддержании этих связей подтверждает состав импортов металлических предметов срубной культуры и подражания им из памятников Северного Кавказа и даже Закавказья (Удобная, Уруп, Рутха, Ново-Ивановское, Чегемский мост, Нижний Курп, Беахне-Куп, Тхмори, Опшквити, Цоиси, Ахмата). Все категории бронзовых вещей отсюда - подвески ноаского типа, ножи, кинжалы, двуушковые кельты, серпы разряда С-2 и С-4-относятся к вариантам и типам срубных предметов, которые характерны преимущественно для зоны распространения карпато-трансильванской металлургической группы в ареале культур Ноа и Сабатиновка.
Следовательно,
процесс проникновения обряда трупосожжения на Северный Кавказ может быть, по моему мнению, моделирован как диффузия одного из компонентов в едином комплексе культурных элементов из области Подунавья на восток в рамках передвижений западно-срубных групп населения в общем процессе расселения индоевропейцев во второй половине II тыс. до н.э. Проникнув на северные склоны Центрального Кавказа непосредственно в предкобанский период, обряд кремации вкупе с нижнедунайскими типами оружия и украшений первоначально механически наслоился на местную культуру самого конца II тыс. до н.э., представленную комплексами типа Беахне-куп, Рутхи и Терезе. Не получив дальнейшего развития в чуждой среде, где глубоко традиционным был обряд ингумации, трупосожжение длительное время сохранялось как локальная особенность дигорской и близкородственных ей групп населения кобанской культуры. На раннем этапе, который условно можно именовать протокобанским, обряд кремации скорее всего отражал присутствие чужеродного этноса, позднее растворившегося в среде аборигенов. В начальный период он выступает как одно из слагаемых новой культуры -кобанской, первоначально эпохи поздней бронзы. Позднее, после формирования и стабилизации основных черт этой культуры, в эпоху раннего железа в погребальном обряде исконный обычай ингумации оказался победителем, а обряд трупосожжения продолжал оставаться специфической особенностью лишь определенной группы ее населения на западе ареала. В устойчиво повторяющемся сочетании с другими признаками, свойственными кобанской культуре (посуда, украшения, орудия труда, оружие), обряд частичной и полной кремации выступал не только этническим показателем этой группы, но и отражал направление ее миграций в течение более чем 600 лет по обе стороны Большого Кавказского хребта.
Таким образом, Терезинский могильник является еще одним полноценным археологиче¬ским объектом, подтверждающим отсутствие изолированности Северного Кавказа от общего европейского процесса формирования наиболее ярких культур эпохи поздней бронзы и раннего железного века. Многогранные черты его материальной культуры отражают сложный процесс внедрения инноваций в коренную автохтонную культуру и постепенное превращение некоторых чуждых «новоделов» в традиционные для местного быта и погребального обычая.
Биритуализм в погребальном обряде могильника Терезе - это отзвук сложного процесса формирования и кристаллизации основополагающих признаков кобанской культуры, не всегда одинаковый в разных частях ее ареала"
Сообщение изменено: альбинос в черном, 29 Май 2013 - 18:14.
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться


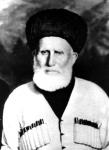

 Наверх
Наверх



































