Грюнвальдская битва (Танненбергская битва, 15 июля 1410) — решающее сражение «Великой войны» 1409—1411 между Польшей, Великим княжеством Литовским, с одной стороны, и Тевтонским орденом — с другой. Битва закончилась полным разгромом войск Тевтонского ордена. Произошла близ Грюнвальда, Танненберга и Бреслау (Пруссия), откуда и получила своё название.
Сражение при Грюнвальде-Танненберге (1410 год)
Два столетия немецкие рыцари вели войну против Великого Княжества Литовского. Они совершили более 140 походов на беларуские и литовские земли. И только победа над Орденом в сражении под Грюнвальдом остановила агресию крестоносцев.
В 2000-ом году исполнилось 590 лет Грюнвальдской битве - историческому событию в истории польского, беларуского, литовского и украинского народов.
В 1410 году объединенное польско-русско-литовское войско под руководством короля Ягелло вторглось на территорию Тевтонского ордена с целью его разгрома и освобождения захваченных земель.
10 июля, подоидя к реке Дрвенце, союзники увидели на другом берегу крестоносцев на укрепленной позиции, которая имела окопы (на берегу реки, частоколы и палисады из заостренных бревен и артиллерию.
Ягелло не нашел возможным переправиться через реку и военный совет решил отступить и следовать к ее истоку на Сольдау. Это был рискованный фланговый марш. Верховный магистр ордена Ульрих, узнав об отступлении короля, решил преградить дорогу союзникам и двинулся на Братенау.
Поляки выслали несколько разъездов к стороне деревни Танненберг, которая виднелась к северу. Разведка вскоре донесла, что видна вся крестоносная армия на холмах перед деревнями Танненберг и Грюнвальд.
Когда крестоносцы заметили союзников, они остановились в нерешительности, так как союзники находились в лесу и не покидали его. Ульрих собрал совет, на котором было решено послать королю как вызов два меча и отойти, чтобы очистить место для построения союзной армии.
В битве при Грюнвальде у крестоносцев было около 16 тыс. тяжелой кавалерии, около 50 тыс. пехоты, наемников - около 3 тыс., а всего (с учетом обоза) до 85 тыс. человек. Крестоносцы имели около 100 бомбард, которые стреляли каминными и свинцовыми ядрами. Войско крестоносцев состояло из 22 народностей, но главные силы составляли немцы.
Союзники измели 91 хоругвь: поляки насчитывали 51 хоругвь, литовцы-40 хоругвей. Кроме того, по разным источникам, было от 3 тыс. до 30 тыс. татар (цифра 3 тыс. человек, видимо вернее). Хоругвь была тактической единицей и насчитывала около 200 всадников и 800-1000 человек пехоты.
В состав союзной армии входили поляки, русские, литовцы, жмудь, армяне, волохи, татары и наемники: чехи, моравы и венгры (10 народностей).
В составе польских хоругвей было 7 хоругвей из уроженцев русских областей и 2 хоругви наемников, чисто польских было 42 хоругви. В составе литовской армии было 36 русских хоругвей. что составляло всего 43 русских хоругви.
Всего союзники имели до 130 тыс. человек, из которых было 23-24 тыс. конницы. Пехоты было около 70 тыс., наемников - 12 тыс. Бомбард было меньше, чем у немцев.
Союзники превосходили численностью противника, но войско крестоносцев превосходило славян в отношении вооружения, дисциплины, боевой подготовки и снабжения. Из числа литовской армии наиболее надежными были русские дружины и особенно смоленские полки. Наименее надежной была татарская конница.
Поле сражения имело форму неправильного пятиугольника 11х9 км к юго-востоку от деревень Танненберг и Грюнвальд. Это была довольно ровная местность, которая имела несколько гряд невысоких холмов, пересекаемых незначительными оврагами. Здесь выстроились армии противников, которых разделяла небольшая лощина.
Боевой порядок союзников состоял из трех линий. На правом фланге - русские, литовцы и татары (под командованием Витовта), на левом - поляки (3ындрам). Смоленские полки находились в центры. Протяжение фронта - около 2 км.
Боевой порядок крестоносцев сначала был выстроен в три линии, а затем, чтобы удлинить фронт, перестроился в две линии. На правом флангу стал Лихтенштейн (20 хоругвей), на левом - Валенрод (15 хоругвей), во второй линии (резерв)-сам магистр Ульрих Юнгинген (16 хоругвей). Протяжение фронта достигало 2 км.
Артиллерия была выстроена впереди фронта. Магистр находился на левом фланге около деревни Танненберг. Ягелло стоял на холме позади своего правого фланга. В 12 часов 15 июля от немцев прибыли герольды и передали королю два меча. Посылка мечей была принята за дерзкую обиду.
Король объявил пароль <Краков-Вильна> и приказал свей армия навязать соломенные повязки для отличия. Затем он съехал вниз на равнину, где до 1 тыс. человек шляхты ждало посвящения в рыцари. Рыцари поклялись королю победить или умереть. Дождь перестал, небо прояснилось. Забили в литавры, заиграли трубы, а поляки запели старинную боевую песню.
В 12 часов дня Грюнвальдская битва началась. Конница Великого Княжества атаковала крестоносцев. Витовт бросил на крестоносцев легкую конницу, в это время немецкая артиллерия открыла огонь из всех орудий, сделав по два выстрела. Поляки отвечали. Но ядра пролетели выше и никому не причинили вреда. Так начался бой.
Витовт двинул татар, которые понеслись нестройной толпой на крестоносцев. Тучи стрел летели и отскакивали от рыцарских доспехов.
Магистр приказал Валенроду наступать. Склонив копья, крестоносцы двинулись вперед сначала шагом, а потом рысью и ударили в нестройную толпу татар, которые бросились бежать.
Витотвт двинул литовскую армию, но крестоносцы сильным ударом отбросили литовцев. Дольше всех сопротивлялись русские полки - Виленская и Трокская хоругви, но и они начали отступать. 9 хоругвей Валенрода преследовали литовцев.
Только три смоленских полка под командой Юрия Мстиславского остались на поле боя и оказали упорное сопротивление. Они были окружены 6 хоругвями Валенрода. В этом бою один смоленский полк был полностью истреблен, два других пробились к правому флангу поляков и прикрыли его, что имело важное значение для исхода боя.
Теперь Зындрам повел на крестоносцев первую линию поляков (17 хоругвей). Ульрих Юнгинген направил против них 20 хоругвей Лихтенштейна. Завязался упорный бой, в результате которого полякам удалось прорвать линию крестоносцев.
Но возвратились хоругви, проследовавшие литовцев. Они ударили в правый фланг и отчасти в тыл полякам. Смоленские полки, которые прикрывали правый фланг поляков, выдержали удар и, таким образом, спасли армию от разгрома.
В это время пало большое королевское знамя. Минута для союзников была критическая. Ягелло двинул вперед вторую линию поляков, которая под прикрытием русских полков только что отбила нападение Валенрода. Вторая линия вместе с русскими полками подкрепила первую, выручила знамя, окружила Лихтенштейна и стала его теснить. Крестоносцы заколебались и начали медленно отступать.
Магистр решил сломить сопротивление поляков и двинул свой резерв -16 хоругвей, пытаясь охватить поляков справа и с тыла. Третья польская линия двинулась навстречу немцам <наискосок>.
В это время раздался крик: <Литва возвращается!> Действительно, Витовт собрал литовских беглецов, привел в порядок русские полки и вновь повел их на крестоносцев. Удар русских и литовцев решил исход сражения. Войска крестоносцев были разгромлены. Ульриху его приближенные предлагали бежать, но он гордо ответил: <Не дай бог, чтобы я оставил это поле, на котором погибло столько мужей,-не дай бог>. Ульрих был убит литовским воином рогатиной в шею . Все чаще стали раздаваться возгласы: «Erbarme mich deiner» («пощадите»). Шесть тевтонских «знамен» в панике бежало с поля боя. Часть крестоносцев укрылась в вагенбурге, который союзное войско взяло штурмом. Противник понес большие потери, но и союзникам победа досталась не дешево.
Армия Тевтонского ордена была уничтожена: убито 18 тыс., ранено до 40 тыс., разбежалось около 27 тыс. Взято 52 знамени, все бомбарды, богатый обоз. Союзники потеряли убитыми 3-4 тыс, ранеными - около 8 тыс.
Союзники преследовали противника на расстояние 25–30 км. Затем в знак победы союзное войско три дня находилось на поле боя. Стратегического преследования организовано не было, и это спасло орден от полного разгрома.
Союзники подошли к Мариенбургу только 25 июля, когда крестоносцы собрали рассеянные войска и сосредоточили в крепости сильный гарнизон. Мариенбург союзникам взять не удалось. Под влиянием интриг Витовт отказался от продолжения войны.
Политическое значение этой победы славян очень велико. Рыцарям-крестоносцам снова был дан отпор. Военная мощь тевтонцев была подорвана.
В этой войне прежде всего следует обратить внимание на ее политическую подготовку. Ведением переговоров поляки и литовцы оттянули начало войны и выиграли время, необходимое для подготовки к ней. Наоборот, тевтонцы не использовали своей готовности к войне и упустили момент, выгодный для нападения.
Союзники перенесли войну на территорию противника и действовали активно, наступательно. Война по своему характеру была оборонительной, а способ военных действий был наступательным. Союзники реализовали победу в тактическом масштабе, на поле боя, но стратегического преследования не организовали. Поэтому крестоносцы сумели подготовиться к обороне. Здесь особенно четко выявились тесная связь и взаимная зависимость тактики и стратегии, решающая роль стратегии и подчиненность ей тактики.
Цель и объект действий союзники наметили правильно и верно рассчитали сосредоточение войска. Рискованным маневром им удалось создать выгодную для боя обстановку. Тевтонцы, начав захватническую войну, фактически вынуждены были перейти к пассивной обороне. Поляки хорошо наладили агентурную разведку, но войсковой разведки не организовали.
В бою при Грюнвальде особенно упорно сражалось русское войско. На смоленские полки легла главная тяжесть боя. Русские прикрыли атакуемый фланг боевого порядка и спасли поляков от разгрома, затем подкрепили первую линию поляков и помогли им перейти в контратаку. Исход боя решила последняя атака литовско-русских войск.
Тактическая глубина расположения войск определила тот факт, что бой становился упорным и продолжительным. Составные части боевого порядка маневрировали. Снова появился резерв, который в феодальном войске обычно не выделялся. Резерв начал оказывать влияние на ход боя. Применялись укрепления полевого типа. Так, например, в оборонительное состояние была приведена р. Древенца. Бой при Грюнвальде дает представление о развитии кавалерийского боя в средние века. Он показывает особую чувствительность флангов боевого порядка кавалерии. Тевтонцы старались атаковать во фланг, союзники стремились обеспечить свои фланги. Пехота имелась в составе обеих сражавшихся армий, но в бою, по-видимому, деятельного участия не принимала. Она прикрывала обоз. Огонь бомбард не оказал никакого влияния на ход боя.
27 сентября 1422 около озера Мельн в лагере литовских и польских войск был заключён мирный договор между Литвой и Польшей с одной стороны и Тевтонским орденом с другой после неудачной для Ордена войны 1422. Во время гуситского движения в Чехии император Зигмант не смог помочь Ордену, и союзники вынудили его пойти на мирный договор. Орден окончательно отказывался от Занеманья, Жемайтии, Нешавских земель и Поморья. Во владении Ордена остались земли по правому берегу Немана, Мемельский край, польское приморье, Кульмская и Михалавская земли. Зигмант 30 марта 1423 подтвердил договор, в обмен на это Польша и Литва обязались не поддерживать гуситов. Этим договором были прекращены войны Ордена с Литвой. Но договор, вступивший в силу 7 июня 1424, не удовлетворял ни одну из сторон: Литва теряла западные литовские земли, Тевтонский и Ливонский ордена разделяла территория между Палангой и Швянтойи.
Эти границы сохранились вплоть до Версальского мирного договора 1919.
http://teuton.alfaspace.net/battle.htm
Альтернативная точка зрения.
В.Акунов. Тевтонский Орден в битве при Грюнвальде.
«ГРЮНВАЛЬД» - МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Небезызвестному советскому историку 20-х-30х гг. ХХ в. Михаилу Покровскому принадлежит крылатое изречение: «История – это политика, опрокинутая в прошлое». В определенном смысле это действительно так.
Наглядным примером служит хотя бы безмерно мифологизированная (если не сказать - фальсифицированная!) из «патриотических» (то есть националистических) соображений поколениями позднейших – прежде всего, польских - историков, а пуще того – исторических романистов (на фоне которых выделяется, в первую очередь, нобелевский лауреат Генрик Сенкевич, со всей силой, бесспорно, присущего ему незаурядного литературного таланта, средствами готического «романа ужасов» заклеймившего орденских рыцарей как законченных садистов, преисполненных сатанинской гордыни и ненависти к пруссам, литвинам и полякам и при первой же возможности подвергающих их изощреннейшим пыткам) – летопись борьбы военно-монашеского Тевтонского (Немецкого) Ордена с Польшей и Литвой, в особенности же ее кульминации - решающей битвы, разыгравшейся 15 июля 1410 года на равнине между селениями Грюнфельде и Танненберг.
Мифы начинаются с названия места битвы. Поляки упорно именуют его «Грунвальд». По-русски это слово звучит как «Грюнвальд», что буквально означает по-немецки «Зеленый лес» (по-литовски – «Жальгирис»). Между тем, никакого «Грюнвальда» ни в означенной местности, ни поблизости, ни на сто верст вокруг нет и никогда не было, хотя одно из расположенных поблизости селение именовалось Грюнфельде, то есть буквально «Зеленое поле» (а никак не «лес»!), а другое – Танненберг (буквально – «Еловая гора»). Поэтому орденские и позднейшие немецкие историки (впрочем, не только немецкие, но и, к примеру, советский военный историк полковник Разин во второй части своей «Истории военного искусства» издания 1940 года) именуют интересующее нас сражение не «битвой под Грюнвальдом», а «битвой под Танненбергом», что, в свете вышеизложенного, представляется вполне логичным.
Второй миф заключается в численности вооруженных сил противоборствующих сторон, сошедшихся в смертельной схватке на кровавом Танненбергском поле. Средневековые хронисты в подобных случаях часто грешат преувеличениями. Так, французский хронист Монстреле (завершивший известную хронику Фруассара), утверждал, что под Танненбергом войско короля Польши составляло 600 000 (!) человек, что в битве пало более 60 000 (!) воинов с обеих сторон и т.п.; в немецкой «Любекской хронике» войско противников Ордена исчисляется аж в... 5 000 000 (!) конных и пеших воинов, и т.д. Но и маститые советские историки еще сравнительно недавно всерьез утверждали, что силы Тевтонского Ордена под «Грюнвальдом» составляли, якобы, более 40 000, а силы «славянской» антиорденской коалиции – до 90 000 конных и пеших бойцов! Между тем, совершенно ясно, что таким громадным полчищам на поле битвы под Танненбергом было бы негде развернуться, да и набрать их у противоборствующих сторон не было никакой возможности.
Ныне считается доказанным, что войско Тевтонского Ордена и его союзников насчитывало около 12 000, а войско антиорденской коалиции – до 20 000 воинов.
Третий миф заключается в утверждении, что война 1410-1411 гг. была «борьбой славян с агрессией немецких феодалов».
В этой связи прежде всего следует заметить, что главным объектом борьбы являлась не какая-то населенная славянами земля, а Самогития – обширная и совершенно неосвоенная территория (именовавшаяся по-литовски «Жемайте», а по-польски «Жмудь»), дарованная Тевтонскому Ордену Великим князем («королем») Литовским Миндовгом (Миндаугасом) и населенная совершенно дикими языческими племенами, о которых современные им хронисты пишут, совсем как о гуннах и прочих варварах, как о «низкорослом народце, одетом в звериные шкуры, на маленьких, крепких мохнатых лошадках», сообщая еще немало «трогательных» подробностей в том же роде.
Судя по сообщениям летописцев, жмудины-самогиты жили в основном грабежами поляков (славян) и своих же, несколько более цивилизованных (и, во всяком случае, официально считавшихся окрещенными) ближайших родичей-литовцев, при каждом набеге «ополоняясь челядью» (то есть, захватывая пленных и обращая их в рабов) и находя особое удовольствие в том, чтобы приносить пленных христиан в жертву своим поганским идолам (обычно жмудины «жрали» своим «божествам», поджаривая пленников на медленном огне или подвешивая их за ноги к ветвям «священного» дуба).
В данном случае слово «поганский», или «поганый», является отнюдь не оскорбительным эпитетом, а всего лишь заимствованным из латинского языка термином, которым обозначалось всякое языческое население (преимущественно сельское), начиная с первых веков распространения христианства. Слово «пагус» означает по-латыни «сельский округ», отсюда «паганус» - «сельский житель», «поселянин» (исторически христианство распространилось, прежде всего, среди более культурного городского населения, в то время, как менее развитые в умственном и других отношениях селяне еще долго «пням молились»). А от слова «паганус» происходят и русские «поганец», «поганый», «поганский» и «погань».
Впрочем, гораздо более важным, в свете мифа о «борьбе славян с немецкой агрессией» представляется даже не то, что жмудины были «погаными», а то, что они, подобно всем своим сородичам – голяди, пруссам, деремеле и ятвягам – вовсе не были славянами, а принадлежали к числу народностей балтийской языковой семьи. Не были славянами и ближайшие родственники жмудинов (жемайтов) – литовцы (летувисы). Правда, в состав тогдашнего Великого княжества Литовского входило и немало бывших земель Киевской Руси, захваченных, после татарского погрома XIII в., литовскими князьями и населенных, вне всякого сомнения, славянами. Но как раз этим-то населенным славянами землям никакая агрессия со стороны Тевтонского Ордена («по самые уши» увязшего в Самогитии и с величайшим трудом удерживавшего под своим контролем беспокойную литовскую границу), а тем паче - со стороны «немецких феодалов» никогда не угрожала (как говорится, «где именье – где вода»!). Так что одним мифом меньше!
Что же касается национального состава войска, приведенного под Танненберг польским королем Владиславом Ягелло (наскоро обращенным в католическую веру незадолго перед тем литовским князем Ягайлой, крещенным в детстве в Православие под именем Якова своей матерью княжной смоленской Улианией, но являвшимся – подобно своему отцу Ольгерду, трижды подступавшему к Москве и «преломлявшему копье» о московские врата! - смертельным врагом Московской Руси, «чуть-чуть» запоздавшим прийти на помощь орде Мамая на Куликовом поле в 1380 году!) и его «заклятым другом» и кузеном - Великим князем Литовским Витовтом (у которого братец Ягайло укокошил родного батюшку Кейстута, так что сам Витовт с величайшим трудом сумел вырваться из «братского» плена и сбежать под защиту Тевтонского Ордена, переодевшись в женское платье!), то это якобы «славянское» войско в действительности состояло из представителей чертовой дюжины разных народностей – литовцев, жмудинов, армян, караимов, валахов, татар, молдаван-бессарабов, венгров, кашубов и многих других – хотя были, конечно, в его составе и славяне – поляки, воины из западнорусских земель (нынешней Смоленщины, Белоруссии и Украины) и отряды моравских, силезских и чешских наемников (в числе последних - будущий гуситский полководец Ян Жижка из Трокнова – бесноватый вождь еретиков-таборитов, подобно африканскому колдуну, велевший после смерти содрать с себя кожу на барабан, под грохот которого табориты шли в бой против воинов Креста).
Армянские наемники (как пехотинцы, так и конники) в описываемую пору ценились весьма высоко – недаром ордынское войско того же темника Мамая в битве на Куликовом поле включало в свой состав «арменские» наемные отряды!.
Караимов (иудеев тюркского происхождения, признававших Тору, но отрицавших Талмуд) князь Витовт привел из своего крымского похода и поселил в Тракае (Троках); с тех пор караимы составляли нечто вроде лейб-гвардии литовского Великого князя.
Татарская конница Витовта (3000 сабель) под предводительством хана Джелал-эд-Дина представляла собой внушительную военную силу, а отнюдь не «вспомогательные части», как утверждали иные советские историки, позволявшие себе пренебрежительно говорить о «малонадежной татарской коннице» (и это в начале XV века, всего пару лет после сокрушительного разгрома гигантской армии Витовта – в которую, между прочим, входил и контингент войск Тевтонского Ордена! – этими же самыми «малонадежными татарскими конниками» в битве на Ворскле в 1399 году)!
Впрочем, национальный состав армии «немецких агрессоров» на поверку оказывается еще более пестрым. Верховный магистр (Гохмейстер) Тевтонского Ордена брат Ульрих фон Юнгинген (которого у нас также по непонятным причинам почему-то именуют «Великим магистром»!) привел под Танненберг представителей 22 народностей.
Сразу оговоримся – были среди них, конечно, и немцы. Но «немцы» в средневековом понимании этого слова, то есть члены Ордена и их союзники из числа подданных «Священной Римской Империи германской нации» (не являвшейся, по выражению Карла Маркса, ни «священной», ни «римской», ни «германской», ни даже «империей» - естественно, с нынешней точки зрения!), в том числе фризы, голландцы, фламандцы, валлоны, бургундцы, люксембуржцы, швейцарцы, австрийцы, и опять-таки - чехи, силезцы, моравяне.
Эти «братья-славяне» сражались под Танненбергом с обеих сторон - то есть, друг против друга. Хотя, конечно, с «современной патриотической» точки зрения, всем им надлежало бы сражаться на стороне «немецких агрессоров». Ибо Чехия (Богемия)издавна входила в состав тогдашней «Германии» («Священной Римской Империи германской нации), а чешский король Вацлав (Венцель, Венцеслаус, Венцеслас или Венцельрин) даже являлся Императором этой самой «Германии» (правда, он был из рода герцогов Люксембургских, но все-таки!). В армии Тевтонского Ордена имелась целая «хоругвь Святого Георгия», состоявшая из чужеземных рыцарей (сопровождавшихся, естественно, соответствующим количеством оруженосцев, воинов, конных и пеших слуг), как встарь, прибывших на зов Верховного магистра, в качестве добровольцев-«пилигримов» со всех концов Европы.
До конца XIV в. именно эти добровольческие контингенты крестоносцев, а не «орденские братья», составляли основную массу и ударную силу, с помощью которой осуществлялась христианизация Пруссии и Литвы. Братья-рыцари Тевтонского Ордена были слишком малочисленны, чтобы проводить эту работу собственными силами. Достаточно сказать, что даже в решившей во многом судьбу Ордена битве под Танненбергом число самих тевтонских братьев-рыцарей (единственных в орденском войске, имевших право носить белый плащ с черным крестом) не превышало 250 (из них 203 пали в бою)!
После широко разрекламированного в 1389 году на всю Европу крещения Литвы (до подлинной христианизации которой было еще очень далеко!) число добровольцев, желающих участвовать в вооруженных паломничествах («рейзах») Ордена в Литву резко снизилось. В результате Тевтонскому Ордену пришлось прибегнуть к помощи наемников, которые обходились весьма недешево. Орденская казна, не рассчитанная на столь высокие расходы на оборону, очень скоро стала истощаться. Орденскому правительству пришлось вводить все новые и новые налоги и подати, от которых его подданные и вассалы, в том числе города, раньше были освобождены, что вызвало среди них недовольство и даже волнения. Вот к чему привели известие о крещении Литвы и вызванный им спад крестоносного энтузиазма!
Далеко не всякий европеец оказался на поверку безжалостным и одержимым лишь жаждой убийств и наживы «псом-рыцарем» (по выражению Карла Маркса), готовым рискнуть спасением своей души, подняв меч на вчерашнего литовского язычника, ныне ставшего его братом во Христе! А ведь до той поры вооруженное паломничество в Землю Пресвятой Девы Марии (Пруссию и Прибалтику) считалось не менее достойным и богоугодным делом, чем странствие в Святую Землю (Сирию и Палестину), а посвящение в рыцари на поле боя с прусскими «сарацинами» (именно так именовались язычники-пруссы в одном из папских посланий Тевтонскому Ордену!) – ничуть не менее почетным, чем инвеститура у иерусалимского Гроба Господня!
Участвовать в «рейзах» тевтонских рыцарей почитали за честь и польские князья Конрад Мазовецкий и Святополк Поморский, и наследник английского престола принц Генри Дерби (будущий король Генрих IV Ланкастерский), и чешский король Оттокар II Пшемысл (основатель очередного «оплота германской агрессии против славян» - Кенигсберга, давший новому городу в качестве герба свою корону и чешского льва!), и король Венгерский, и граф Голландский, и французы герцог де Бурбон и маршал Бусико, и граф Голштинский (все – участники только одного «паломничества» тевтонских рыцарей в Литву в 1344 году!). Да и какая «немецкая» (то есть национальная) экспансия могла исходить от Тевтонского Ордена – сообщества подчиненных исключительно римскому папе рыцарей-монахов («Божьих дворян» - по выражению средневековых русских летописцев!), не имевших ни имущества, ни семей, ни потомства, чьи прусские и прибалтийские владения не являлись частью даже того «германского» горе-государства, о котором шла речь выше!
Правда, с должностью тевтонского Верховного магистра был неразрывно связан титул князя «Священной Римской Империи германской нации», но лишь в части тех орденских владений, которые в эту «империю» входили (а как раз прусские владения Ордена в нее не входили)! В то же время подчиненность Тевтонского Ордена римскому папе была совершенно однозначной, так что, в свете отнюдь не национальных, а наоборот, наднационально-универсалистских претензий папского престола Орден никак не мог являться орудием агрессии какой-либо «национальности» или «национального государства» - даже если бы «Священная Римская Империя» являлась таковым (а она таковым не являлась)!
Кроме подданных этой «империи» и наемников, сражавшихся за плату (упомянутых выше чехов, силезцев и моравян, генуэзских арбалетчиков и английских лучников и пр.), в составе орденского войска под Танненбергом ратоборствовали венгерские, французские, английские, шотландские рыцари. Летописцы сохранили для нас имена особенно прославивших себя доблестью на поле брани «гостей» (союзников) Тевтонского Ордена Пресвятой Девы Марии – знатного нормандца сира Жана де Феррьера, сына сеньора де Вьевиля, пикардийца сеньора дю Буа д’Аннекена, венгерского графа-палатина Миклоша Гарая, трансильванского (семиградского) воеводы Стибора, приведшего под Танненберг 200 отборных воинов, и многих других.
Немалую часть «гостей» Ордена Пресвятой Девы Марии Тевтонской составили рыцари-крестоносцы из различных германских земель – главным образом, Швабии, Фрисландии, Баварии и Вестфалии. Большинство крестоносцев, прибывших на помощь Ордену из австрийских земель, сражались не в составе «иностранной» хоругви Святого Георгия (противостоявшей в битве не полякам, в христианстве которых в Средней Западной Европе к описываемому времени никто не сомневался, а литовцам, вызывавшим в этом плане определенные сомнения - особенно с учетом присутствия в рядах ратей Витовта «сарацин» - татар и караимов!), а под красно-бело-красным знаменем своего земляка – Великого комтура Тевтонского Ордена брата Конрада фон Лихтенштейна – «правой руки» Верховного магистра Ульриха фон Юнгингена.
Кстати, хоругвь Великого комтура, под которой бились австрийские рыцари, представляла собой точную копию красно-бело-красного австрийского знамени, история возникновения которого теснейшим образом связана с Крестовыми походами. Согласно старинной легенде, австрийский герцог Леопольд VII, участник III Крестового похода, после взятия штурмом мусульманской крепости Акры (Акконы) оказался настолько залит своей собственной и вражеской кровью, что его белое полукафтанье-сюрко, надетое поверх доспехов, стало красным от крови, за исключением белой полосы, образовавшейся в том месте, где полукафтанье было прикрыто поясом с ножнами меча. Так, по легенде, родилось красно-бело-красное австрийское знамя, расцветку которого по сей день сохранил государственный флаг современной Австрийской республики. Но это так, к слову...
Не следует также забывать о многочисленном контингенте «прусских рыцарей» - вассалов, или ленников, Тевтонского Ордена, являвшихся по происхождению отнюдь не немцами, а потомками окрещенных и со временем ассимилировавшихся знатных пруссов - так называемых «больших (великих)свободных»-, наделенных Орденом земельными угодьями и обязанных за это являться в случае войны по призыву Магистра «людно, конно и оружно».
Орденская пехота состояла в основном из сельского ополчения так называемых «малых свободных» пруссов, сражавшихся в пешем строю, а также из контингентов епископов орденских владений и из отрядов, присланных купцами и бюргерами городов, расположенных на территории прусского «орденского государства». Из числа последних славой особо искусных бойцов пользовались данцигские моряки («шиффскиндер» - «дети кораблей»), не знавшие себе равных в искусстве владения боевым топором.
Но самым интересным – с точки зрения правдивости тезиса о «борьбе славян с немецкой агрессией»! (кстати, давно пора было оговориться, что в 1409-1410 гг. имела место только одна агрессия – вторжение объединенного польско-литовско-татарско-армянско-караимского войска на земли Тевтонского Ордена, сопровождавшееся обычными в таких случаях погромами, поджогами, грабежами, резней мирного населения и прочими «перегибами» - а никак не наоборот!) – обстоятельством представляется следующее.
В битве под Танненбергом на стороне Тевтонского Ордена участвовали во главе своих войск два знатнейших польских князя, находившихся в близком родстве с древнейшей польской династией Пястов – Казимир V Щецинский (происходивший по другой линии от знаменитого поморского князя Святополка, являвшегося первоначально союзником Ордена, а затем, в период «Великого восстания» пруссов в конце XIII в. переметнувшегося на сторону восставших, чтобы, в конце концов, все же вновь примириться с Орденом) и Конрад VII Олесницкий (по прозвищу «Белый»).
Именно щецинский князь прислал польскому королю Владиславу Ягелло своего герольда с двумя знаменитыми мечами, тем самым вызывая его и Витовта на бой от имени Верховного магистра, маршала, рыцарей и союзников Ордена Пресвятой Девы Марии! Присылкой вражеским вождям мечей князь Казимир хотел «придать им мужества, которого, по его мнению, у них обоих было мало»! Впрочем, существует и более прозаическая версия – орденское войско просто устало ждать наступления врага на солнцепеке, поскольку жаркое июльское солнце раскаляло боевые доспехи.
Во всяком случае, отказаться после столь дерзкого вызова своего же «соплеменника» (хотя какое отношение недавно крещеный литвин, в сущности, имел к древним польским Пястам!?) означало бы для свежеиспеченного польского короля «потерю лица». Впрочем, его ответ был преисполнен глубочайшего христианского смирения (возможно, напускного, хотя – кто знает?):
«Мы никогда не просили помощи ни у кого, кроме Бога. И примем эти мечи от Его имени»...Оба польских «тевтона» сражались против «своих» же братьев-славян «аки львы», были взяты поляками в плен и пощажены, в рассуждении своего высокого происхождения, как Пясты по крови, и, надо думать, также в рассуждении высокой платежеспособности их родни (но - скорее всего – еще и потому, что их поведение, с точки зрения тогдашних понятий о воинской и рыцарской чести считалось совершенно нормальным!) О судьбе менее богатых и знатных «тевтонских славян» из дружин обоих Пястов история, впрочем, умалчивает.
В то же время, ливонский «филиал» Тевтонского Ордена, вопреки утверждениям польского летописца Яна Длугоша (считающегося у нас – хотя он не был современником событий и писал о них по прошествии более чем полувека! - почти таким же непререкаемым «источником истины», как известный роман Генрика Сенкевича «Крестоносцы», не говоря уже о снятом по этому роману одноименном двухсерийном блокбастере!), об участии в битве «ливонских рыцарей под собственной хоругвью», поступил совершенно «не патриотично» и, несмотря на слезные мольбы Верховного магистра о помощи, не прислал под Танненберг ни одного рыцаря, ни одного, даже самого завалящего кнехта, поскольку ландмейстер (провинциальный магистр) Тевтонского Ордена в Ливонии Конрад фон Фитингоф(ен) предусмотрительно заключил с Витовтом сепаратное перемирие, которое не пожелал нарушать! И не нарушил! Причем формально даже имел на это полное право.
Дело в том, что брат Ульрих фон Юнгинген вел войну с Ягайлой и Витовтом не в качестве Верховного магистра всего Ордена Пресвятой Девы Марии Тевтонской в целом, а всего лишь в своем качестве магистра Ордена в Пруссии! Не случайно и польский летописец Ян Длугош в описании Грюнвальдской битвы, включенном в главный труд всей его жизни - Историю Польши - именует Юнгингена исключительно магистром Пруссии (а не всего Тевтонского ордена). Не прислали ни одного воина в помощь своим прусским собратьям по Тевтонскому Ордену и его комтурства, расположенные в Германии. Оттуда в качестве добровольцев прибыло – исключительно по долгу совести! – лишь некоторое количество рыцарей-мирян, в Ордене не состоявших.
Изо всех вышеприведенных фактов явствует, что в действительности воображаемая «война славян с немецкими агрессорами за национальную независимость» была обычной «файдой» - феодальной распрей, какими пестрит история Средневековья, хотя и принявшей немалые масштабы по размаху сил и средств, задействованных с обеих сторон - 51 «хоругвь» (до 3 000 рыцарей, столько же оруженосцев, около 6 000 пехотинцев и несколько бомбард, стрелявших каменными ядрами) в войске Верховного магистра; 91 «хоругвь» - в войске его противников.
Насколько малую роль в войнах Тевтонского Ордена с поляками и литвинами играл национальный фактор и насколько мало эти войны воспринимались их участниками и современниками как межнациональные конфликты, явствует, между прочим, из следующего общеизвестного факта. Один из пунктов Торуньского мира, завершившего эпоху военного противоборства между тевтонами и польско-литовским государством (причем на этом пункте особенно настаивала польская сторона!), заключался в том, что половину из рыцарей Тевтонского ордена после заключения мира должны были составлять представители польских шляхетских родов! Но это так, к слову...
Мы не будем касаться в данном сжатом очерке всех перипетий многократно описанной Танненбергской «битвы 35 народов». Обратим внимание только на одно интересное обстоятельство - войско вчерашних язычников Ягайлы и Витовта шло на войско Ордена Пресвятой Девы Марии под торжественное пение молитвы Ей же, Пречистой Деве: «Богородице Дево радуйся...». В этом было что-то роковое по силе своей неизбежности. И тут не помогли ни свинцовые и каменные ядра орденских бомбард, ни удар 15 хоругвей маршала Ордена Шварцбурга и фон Валленроде на левом фланге, с копьями наперевес, под градом татарских стрел, отскакивавших от рыцарских доспехов, разметавших конницу Джелал-эд-Дина и опрокинувших Литву под звуки служившего тевтонским рыцарям боевым кличем ликующего пасхального песнопения: «Христос воскресе после всех мучений...» (Christ ist erstanden von der Marter allе...)...
Преследуя бегущих литовцев, левое крыло тевтонов натолкнулось на упорное сопротивление трех русских хоругвей смоленского князя Симеона-Лингвена Ольгердовича (брата короля Владислава Ягелло), сломить которое Валленроде оказался не в состоянии. На выручку ему подоспел Великий комтур Лихтенштейн со своими австрийцами. Две смоленских хоругви были изрублены, но тут в дело вступили свежие польские резервные войска и в центре польского боевого порядка разгорелась жестокая сеча вокруг большого – красного, с белым одноглавым орлом - королевского знамени (Великой Краковской хоругви), несколько раз переходившего из рук в руки.
Долгое время стрелка весов колебалась, несмотря на численное превосходство поляков, и, возможно, тевтоны одержали бы верх в этой битве, если бы не измена в их собственных рядах (обстоятельство, упорно игнорируемое отечественными историками!). В оглушительном грохоте, лязге и шуме тогдашних сражений команды были практически не слышны и потому их заменяли сигналы, подаваемые значками и знаменами. Знаменосец рыцарей Кульмерланда, или Кульмской (Хелминской) земли – вассалов Тевтонского Ордена – Никкель фон Ренис, подал своим соратникам ложный знак к отступлению, чем вызвал большую сумятицу в рядах орденских войск. Заметив, что враги пришли в замешательство и показали спину, Витовт мгновенно среагировал и атаковал отступающих ленников Ордена.
Услышав всеобщий ликующий крик: «Литва возвращается!», приободрились и поляки. В отчаянной попытке переломить ход событий Верховный Магистр ввел в бой свой последний резерв – 16 отборных хоругвей (или, точнее, отряд под 16 знаменами), но вырвался далеко вперед, потерял в схватке шлем и был ранен в лицо и в грудь.
Версии относительно его гибели расходятся. По одной из этих версий, наиболее широко распространенной, конь Верховного магистра был ранен, а сам он выбит из седла и погиб под градом ударов разъяренных литовцев (один из которых якобы ранил его в шею или в рот – здесь версии расходятся! – рогатиной или метательным копьем-сулицей).
По другой версии, злополучный Ульрих фон Юнгинген был насмерть сражен польским рыцарем Добеславом (Добко), поразившим его копьем в затылок (то есть, напавшим на него сзади). По третьей, у магистра имелась возможность бежать с поля боя, но он якобы гордо заявил: «Не дай мне Бог оставить это поле, на котором погибло столько доблестных мужей!». В любом случае – глава тевтонов «крепко помер», говоря словами одного павловского гренадера о гибели своего государя...
Дело в том, что Гохмейстер тевтонов Ульрих фон Юнгинген, давно уже страдавший тяжелейшим глазным заболеванием – катарактой – на момент битвы при Танненберге почти полностью потерял зрение. Скорее всего, он сознательно искал гибели в бою, не желая окончить жизнь беспомощным слепцом.
Данное предположение подтверждается, в частности, судьбой другого доблестного рыцаря-вельможи – короля Богемского и Императора Священной Римской Империи Иоанна Люксембургского. Пораженный слепотой, последний отрекся от римской и богемской короны в пользу своего сына Карла (знаменитого впоследствии чешского короля и римско-германского кайзера Карела IV), а сам простым рыцарем вступил в армию французского короля (Франция в то время вела с Англией Столетнюю войну) и погиб в битве при Пуатье в 1356 году, бросившись, очертя голову, в гущу английских войск, «не посрамив своей рыцарской чести и славного имени предков низким деянием и смертью бесславную не запятнав».
Впоследствии польский художник-баталист конца XIX в. Ян Матейко, автор монументального исторического полотна о Грюнвальдской битве, в угоду демократическим тенденциям своей эпохи и стремясь подчеркнуть народный характер войны поляков и литовцев против такого аристократического учреждения, как Тевтонский орден, исказил подлинный ход событий, изобразив гибель тевтонского Гохмейстера не от руки знатного польского рыцаря, а от рук представителей простонародья.
При этом художник символически снабдил одного из убийц Гохмейстера красным капюшоном и топором средневекового палача, а другого вооружил копией Святого Копья сотника Лонгина (подаренной римско-германским императором Фридрихом I Барбароссой своему вассалу - польскому князю Болеславу Храброму - и хранившейся с тех пор в Краковском замке), чтобы подчеркнуть, что Ульрих фон Юнгинген был не просто убит, а понес заслуженную кару, будучи казнен по приговору Божьего суда.
Версия о гибели надменного Гохмейстера тевтонов от рук простолюдинов до сих пор пользуется гораздо большим распространением, чем версия о его гибели от копья знатного рыцаря Добко.
Польский летописец Ян Длугош, считающийся главным авторитетом в данном вопросе,в своем повествовании о Грюнвальдской битве сообщает только, что на теле убитого магистра были найдены только две раны, из которых одна была нанесена в грудь (конкретно - в сосок), другая - в лоб.
В жестокой сече вместе со своим магистром сложили головы маршал Шварцбург, Великий комтур Лихтенштейн и все прочие верховные вельможи Ордена - «гроссгебитигеры (великие повелители» -, за исключением Великого госпитальера тевтонов брата Вернера фон Теттингена, которому удалось бежать с поля битвы. Вместе с ними «испили единую смертную чашу» 203 орденских рыцаря, «а прочих – бесчисленное множество», как принято писать в подобных случаях.
Трое вельмож Тевтонского Ордена - Генрих Шаумбург, фогт (бальи) орденской провинции Самбия, Юрген Маршалк – оруженосец Верховного магистра, и комтур (командор) Бранденбурга Марквард фон Зальцбах были взяты в плен и убиты уже после окончания битвы. Об убийстве Шаумбурга и Маршалка сообщается что его причиной послужило – якобы! - их дерзкое поведение. Что же касается комтура фон Зальцбаха, то Витовт при виде его, якобы, сказал по-немецки только: «Du bist hi Markward...» («Ты здесь, Марквард...»), после чего, вопреки возражениям короля Владислава, велел его обезглавить. Некоторые историки склонны объяснять случившееся тем, что в предшествовавший войне 1410-1411 гг. период «сердечной дружбы» Витовта с Орденом и вражды его с Ягайлой, Витовт снабжал Орден ценной информацией именно через Маркварда и потому стремился как можно быстрее избавиться от строптивого тевтона, как от нежелательного свидетеля своих прежних интриг против Ягайлы.
Общее число убитых (с обеих сторон) составило не менее 5 000. Всего лишь 1400 с небольшим рыцарям и кнехтам из состава разгромленного орденского войска (в том числе 77 стрелкам) удалось добраться до столицы Тевтонского Ордена – Мариенбурга-на-Ногате. Туда же по приказу короля Владислава были с почетом отправлены в специальной повозке тела Верховного магистра и его соратников, одетые в чистые белые саваны. 19 июля 1410 года они были погребены в часовне Святой Анны Мариенбургского орденского замка.
51 хоругвь тевтонских рыцарей, их вассалов, «гостей» и союзников, захваченная поляками, была перенесена в Краковский кафедральный собор, где эти трофеи можно было видеть еще в 1603 году; позднее хоругви бесследно исчезли в ходе смуты, охватившей Польско-Литовское государство.
Что же касается судьбы вероломного кульмского рыцаря Никкеля фон Рениса, которого все орденские летописцы единогласно объявляют виновником поражения, то он и после танненбергского разгрома продолжал свои интриги против Ордена.
Дело в том, что именно Никкель фон Ренис (имевший герб, рассеченный в червлень и серебро, с серебряным оленьим рогом на красном и с красным бычьим рогом на серебряном поле), вступив в преступный сговор с четырьмя другими рыцарями из числа кульмских вассалов Тевтонского Ордена, еще в 1398 году, за 12 лет до Танненберга, основал тайный «Союз Ящериц(ы)» (Eidechsenbund), первоначально в целях борьбы с усилением все возраставшего влияния торговых городов в прусском орденском государстве.
Но со временем «рыцари Ящерицы», недовольные введением все новых налогов и податей, связанных с ростом расходов на оборону орденских владений, вследствие уменьшения числа добровольцев-паломников из Западной Европы, начали действовать и против власти Тевтонского Ордена, завязав тайные сношения с польским королем, от которого надеялись получить столь же большие привилегии и самостоятельность, как и те, которыми пользовалась польская и литовская шляхта.
После Танненберга кульмские рыцари - члены «Союза ящериц(ы)» - составили заговор против нового Верховного магистра Генриха фон Плауэна. Им удалось вовлечь в свои сети даже некоторых орденских рыцарей высокого ранга – например, комтура замка Реден. Однако среди заговорщиков оказались предатели, выдавшие их планы орденскому руководству. Заговор был разгромлен, а злокозненный Никель фон Ренис выслежен, схвачен и казнен по приговору орденского суда. На некоторое время катастрофу удалось отсрочить…
А победители при Танненберге – «братья-славяне» поляки и литовцы теперь могли беспрепятственно давить «своих» православных и опустошать Московскую Русь огнем и мечом так, как никаким тевтонам или меченосцам и не снилось. И невольно возникает вопрос: а почему, собственно, в православном массовом сознании столь прочно вкоренилось представление о «Крестовых походах» и «крестоносцах» вообще и рыцарях военно-монашеских Орденов – в частности, как о специфическом порождении католицизма, причем о таком порождении, которое заведомо трактуется как нечто неприглядное, враждебное «славянству» (о, как бы удивились ясновельможные паны Лисовский, Ружинский, Сапега, Хоткевич, Струсь, Иеремия Вишневецкий и прочие враги «восточных схизматиков», услышав подобные обвинения!), в особенности же - Руси и Православию и якобы «порочащее» латинский Запад?
Мы позволим себе привести ниже в этой связи несколько «вольных» цитат из статьи современного российского историософа Р. Бычкова «Последний крестовый поход», опубликованную в газете «Царский опричникъ» № 4-5 (16-17) за 2000 г.:
«Достоподлинные православные христиане древних времен безо всяких колебаний знали, что всякий, именующий себя христианином, есть уже тем самым одновременно и крестоносец. Они знали, что крестоносный подвиг отнюдь не является монополией только чад Западной церкви (пример – походы Великого князя Киевского Владимира Мономаха или Андрея Боголюбского в XII в. на половцев или волжских болгар, когда княжеским ратям предшествовало православное духовенство с крестами, иконами и церковными хоругвями (как оно предшествовало и воинству православной Восточной Римской Империи – Византии – столетиями служившей щитом христианской Европы от враждебных Святому Кресту кочевых азиатских орд!).
Но и отношение к католикам, взявшим ратный Крест Христов, отношение на православном Востоке в классическую эпоху религиозного мировоззрения разительно отличалось от нынешнего. Так, древнерусский летописец XII в. не усомнился признать немцев-католиков, ходивших в III Крестовый поход биться за освобождение Живоносного Гроба Господня, не «псами-рыцарями» (как Карл Маркс!), а «святыми мучениками, проливавшими кровь свою за Христа». В этой связи нам представляется не лишним полностью воспроизвести данный летописный фрагмент:
«В то же лето идее цесарь Немецкый (речь идет об Императоре Фридрихе I Барбароссе - В.А.) со всею своею землею битися за Гроб Господень, проявил бо бяшеть ему Господь ангелом, веля ему ити. И пришедшим им и бьющимся крепко с богостудными тыми агаряны. Богу же тако попустившу гнев Свои на весь мiр... и преда место святыня Своея иноплеменником. Сии же немци яко мученици святи прольяша кровь свою за Христа со цесари своими. О сих бо Господь Бог наш знамения прояви, аще кто от них в брани от иноплеменьных убьени быша, и по трех днех телеса их невидимы из гроб ангелом Господним взята бывахуть. И прочии видяше се тосняхуться пострадати за Христа, о сих бо воля Господьня да сбысьться, и причте я ко избраньному Своему стаду в лик мученицкый». («Киевская летопись», ПСРЛ, т. 2, СПб., 1908).
Мало того! На Православной Руси, в Воскресенском соборе воздвигнутого во второй половине XVII в. Патриархом Московским и всея Руси Никоном Ново-Иерусалимского монастыря (являвшемся точной копией Храма Живоносного Святого Гроба Господня в «старом», палестинском Иерусалиме), находятся, между прочим, символические гробницы католических правителей основанного западными крестоносцами в 1100 г. Иерусалимского королевства – «охранителя Святого Гроба» Готфрида Бульонского и его брата, первого короля Иерусалима Балдуина Булонского. А ведь XVII век традиционно считается веком достаточно большой «отгороженности» Московской Руси от «еретического» Запада!
Тем более полезно будет нам вчитаться в надгробные эпитафии этим двум крестоносным христианским государям – и увидеть, что идеалы крестоносцев были по-прежнему близки православному народу Святой Руси. Эти эпитафии были переведены на русский язык знаменитым келарем Троице-Сергиева монастыря – иеромонахом Арсением Сухановым, составившим так называемый «Проскинитарий» («Поклонник Святых мест»). Сей труд (содержащий подробное, с обмерами, описание храма Гроба Господня в Иерусалиме) послужил руководством при сооружении Воскресенского собора в Ново-Иерусалимском монастыре при патриархе Никоне.
Итак, вот описание Воскресенского собора:
«На плите справа от портала Предтеченской церкви читаем: на сем месте тамо гроб, о нем же пишет еще: Царь Болдвинов был второй Иуда Маккавеос, надежда и упование Отечеству, крепость церковная, красота Церкви и Отечеству. Его же вси боялись и вси дань давали: государь Египетский, мучитель Дамаску. Ох, увы мне. В том малом трилокутном гробе затворен есть». Слева от портала находилась плита со второй эпитафией. Вот ее текст: «Зде лежит славный Годефридус Булион, иже ту всю землю взял для веры, и душу его Бог покоит в мире. Аминь».
И вообще, для уразумения метафизики Крестовых походов имеет смысл сопоставить их с «обыкновенными» и всем нам хорошо знакомыми крестными ходами. Вот что писал о метафизике крестного хода святитель Митрополит Филарет Московский:
«Когда вступаешь в крестный ход, помышляй, что идешь под предводительством Святых, которых иконы в нем шествуют, и приближаешься к Самому Господу, поколику немощи нашей возможно. Святыня земная знаменует и призывает Святыню Небесную. Присутствие Креста Господня и святых икон и кропление освященною водою очищает воздух и землю от наших греховных нечистот, удаляет темные силы и приближает светлые. Пользуйся сею помощью для твоей веры и молитвы и не делай ее безполезною для тебя твоим нерадением. Слыша церковное пение в крестном ходе, соединяй с ним твою молитву, и если по отдалению не слышишь, призывай к себе Господа, Божию Матерь и Святых Его известным тебе образом молитвы…Не беда, если отстанешь телом, не отставай от Святыни духом».
Приложив эти слова московского Святителя к рассмотренным нами выше историческим примерам, мы не можем не прийти к выводу, что «обыденный» крестный ход представляет собой не что иное, как невооруженный Крестовый поход, тогда как Крестовый поход есть не что иное, как крестный ход с оружием. Это «паломничество» и в то же время Священная война – война духовная до такой степени, что ее буквально можно сравнить с пророчествами об очищении огнем, подобным огню чистилища, перед смертью. Как говорил Бернар Клервоский «бедным рыцарям Христа и Храма Соломонова»: «Великая слава выйти из битвы, увенчанным лаврами. И великая слава обрести на поле битвы венец бессмертия». Целью паломничества крестоносцев был Святой град Иерусалим в своем двойном аспекте как град земной и небесный, и крестовый поход рассматривался его участниками как восхождение, ведущее прямиком к бессмертию и жизни вечной.
Здесь конец и Богу нашему слава!
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Боевая песня братьев Ордена Пресвятой Девы Марии Тевтонской.
Оригинальный немецкий текст этой тевтонской орденской песни-псалма, сочиненной в XIII веке, мы даем в том виде, в каком она вошла в так называемый «Глогауский песенник (нем.: Глогауэр Лидербух)», датируемый 1480 годом:
Christ ist erstanden
Von der Marter alle.
Des solln wir alle froh sein,
Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis.
Waer er nicht erstanden,
So waer die Welt vergangen,
Seit dass er erstanden ist,
So lobn wir den Vater Jesu Christ.
Kyriеleis.
Halleluja,
Halleluja,
Halleluja.
Des solln wir alle froh sein,
Christ will unser Trost sein -
Кyrieleis.
Перевод на русский язык:
Христос Воскресе
После всех мучений.
Мы все должны возрадоваться этому,
Христос станет нашим утешением.
Кирие элейсон (греч.: Господи, помилуй)!
Если бы он не воскрес,
То мир бы перестал существовать.
С тех пор, как Он воскрес,
Мы хвалим Отца Иисуса Христа.
Кирие элейсон!
Аллилуия (Хвалите Бога),
Аллилуия,
Аллилуия!
Мы все должны возрадоваться этому,
Христос станет нашим утешением!
Кирие элейсон!
Из приведенного выше текста недвусмысленно явствует, что боевая песнь братьев Тевтонского ордена отличалась от нередко выдаваемого за таковую известного псалма «Те деум лаудамус» (Тебя Бога хвалим, Тебя Господа исповедуем...) и от пасхального песнопения «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».
Приложение 2
Описание гербовых хоругвей рыцарей Тевтонского (Немецкого) Ордена, их вассалов, «гостей» и союзников, захваченные поляками в битве под Танненбергом 15 июля 1410 г.:
1.Великая (Большая) хоругвь Верховного (а не «Великого»!) магистра (Гохмейстера) Тевтонского Ордена с тремя косицами (золотой, с черной каймой, костыльный «иерусалимский» крест с должностным гохмейстерским гербом, изображавшим одноглавого черного орла на золотом поле – символ достоинства князя Священной Римской Империи, неразрывно связанного с должностью Гохмейстера со времен Императора Фридриха II Гогенштауфена, - на белом поле украшал не только Большую и Малую хоругви, но также панцирь, щит и и белое полукафтанье Верховного Магистра Ордена Пресвятой Девы Марии Тевтонской). На некоторых миниатюрах и гравюрах изображение на Большой хоругви Гохмейстера повернуто «на 90 градусов».
2.Малая Хоругвь Верховного магистра (аналог. 1, но хоругвь без косиц).
3.Хоругвь Тевтонского Ордена («гербовое» - белое, с прямым черным крестом, знамя Ордена; первоначально это знамя было просто белым, безо всяких эмблем; имеются упоминания и о другом, Главном знамени Ордена с изображением Пресвятой Девы с Богомладенцем Иисусом на руках, но присутствие его на поле битвы под Танненбергом не засвидетельствовано хронистами).
4.Хоругвь князя Конрада VII «Белого» Олесницкого (одноглавый черный орел, обремененный серебряным полумесяцем, в золотом поле).
5.Хоругвь померанского (поморского) князя Казимира V Щецинского - знамя-гонфанон(прямоугольное полотнище с одной косицей) с изображением червленого грифона в серебряном поле – старинного герба поморских князей со времен Святополка).
6.Хоругвь Святого Георгия (знамя-гонфанон; его необычная расцветка – прямой серебряный крест на красном поле, вместо традиционного для «знамени Святого Георгия» красного креста на серебряном поле, объясняется тем, что в польско-литовском войске также имелась состоявшая из «гостей» хоругвь Святого Георгия, традиционной расцветки). В то же время известно, что военное знамя (баннер) Императоров средневековой Священной Римской Империи было также красным, с прямым серебряным крестом (поэтому их вассалы – например, датские короли, швейцарцы и др. – также использовали в качестве знамен и флагов серебряный крест на красном поле).
7.Хоругвь епископа и епископства Помезанского (золотой одноглавый орел в нимбе –символ св. Евангелиста Иоанна – с серебряным свитком в лапах и с двумя золотыми епископскими посохами по бокам, в червленом поле).
8,45.Хоругви комтурства Рагнитского и городка Рагнит (три красных колпака в столб, на серебряном поле).
9.Хоругвь епископа и епископства Самбийского, или Замландского (скрещенные красные меч острием вниз и епископский посох в серебряном поле).
10.Хоругвь епископа и епископства Эрмландского (Вармийского) – знамя-гонфанон с изображением серебряного агнца с обращенной назад головой в нимбе, с крестным знаменем, изливающего из кровоточащей язвы на груди кровь в серебряную чашу, в красном поле, на серебряной траве.
31.Хоругвь комтурства Шлохауского и городка Шлохау (Члухов) – аналог. 10.
11.Хоругвь Великого комтура Тевтонского Ордена Конрада фон Лихтенштейна (дважды пересеченная в червлень и серебро; ее красно-бело-красная расцветка аналогична расцветке австрийского флага, что объясняется двумя причинами: австрийским происхождением самого Великого комтура и тем, что в составе данной хоругви сражались его земляки – «гости» Тевтонского Ордена из австрийских земель).
12.Хоругвь города Кульм (Хелмно) – знамя-гонфанон с черной главой и опрокинутым черным латинским крестом в верхней части, дважды пересеченное волнообразными перевязями в серебро и червлень.
13.Хоругвь Великого казначея (скарбника) Тевтонского Ордена (должностной герб орденского казначея – серебряный ключ вправо бородкой вверх в красном поле).
14.Хоругвь комтурства Грауденцского и городка Грауденц (обращенная прямо черная бычья голова с золотыми бровями и ноздрями, серебряными рогами и серебряным же кольцом в ноздрях, на белом поле).
15.Хоругвь комтурства Бальгского и городка Бальга (червленый стоящий волк с высунутым языком на белом поле, с правым черным боковиком).
16.Хоругвь комтурства Шензееского и городка Шензее (две красные рыбы в кольцо на белом поле).
17.Хоругвь города Кенигсберга (знамя-гонфанон с изображением восстающего серебряного богемского, или чешского, льва в золотой короне на красном поле – в память об основателе города – чешском короле Оттокаре II Пшемысле; гербовое знамя Тевтонского Ордена – прямой черный крест на белом поле – в главе хоругви).
18.Хоругвь комтурства Альтгаузского (четвертованная в чернь и серебро – цвета Тевтонского Ордена; иными словами – четырехчастное черно-белое полотнище).
19.Хоругвь комтурства Тухельского и городка Тухель (Тухоль) – четырежды рассеченная в серебро и червлень.
20.Хоругвь комтурства Нессауского и городка Нессау (Нешава) – дважды рассеченная в чернь и серебро.
21.Хоругвь рыцарей-крестоносцев («гостей» Ордена) из Вестфалии (две красные скрещенные оперенные стрелы остриями вверх на серебряном поле).
22.Хоругвь баллея (бальяжа) Роттенгаузенского и городка Роттенгаузен (три серебряные геральдические розы с золотой сердцевиной, в красную перевязь справа, на серебряном поле).
24.Хоругвь комтурства Энгельсбергского и городка Энгельсберг (серебряный ангел с черными волосами и лицом телесного цвета, в красном поле; типичный пример «говорящего герба» - название комтурства и городка означает, в переводе с немецкого, «ангельская гора», по имевшему там место видению ангела, явившегося орденским братьям-основателям).
23.Хоругвь комтурства Данцигского и города Данцига (два серебряных лапчатых креста в столб на красном поле – герб города Данцига, по-польски: Гданьска).
25.Хоругви комтурства Страсбургского и городка Страсбург (Бродницы) – красный бегущий олень в серебряном поле.
26.Хоругвь замка Братиан и городка Неймаркт (три коричневых оленьих рога в трикветру в серебряном поле).
27.Хоругвь города Бр(а)унсберг (пересеченная в серебро и чернь, с черным лапчатым крестом в серебряном и с серебряным лапчатым крестом - в черном поле).
28.Хоругвь немецких рыцарей-крестоносцев («гостей» Ордена) из Франконии – скрещенные красные стрела и арбалетный болт оперением вниз, в серебряном поле.
29.Хоругвь швейцарских рыцарей-крестоносцев («гостей» Ордена) – серебряный стоящий волк с высунутым языком, в червленом поле.
30.Хоругвь комтурства Лескенского и городка Лескен (дважды пересеченная в червлень, серебро и чернь; данный факт, кстати, опровергает широко распространенное по сей день заблуждение, будто «все средневековые флаги были двухцветными и положение изменилось лишь после Нидерландской революции, когда был впервые введен трехполосный трехцветный флаг»!).
32.Хоругвь городка Бартенштейн - знамя-гонфанон с изображением серебряного лезвия топора вправо в черном поле с серебряной главой.
33.Хоругвь комтурства Остеродского и городка Остероде - четвертованная в червлень и серебро.
34.Хоругвь прусских рыцарей-вассалов Ордена из Кульмской земли (Кульмерланда) – аналог. 12, но с черным прямым латинским крестом в верхней части и с тремя красными столбами в левом верхнем углу; именно этой хоругвью рыцарь-изменник Никкель фон Ренис из Кульмерланда подал своим соратникам ложный сигнал к отступлению, вызвавший замешательство, а затем – сумятицу и хаос во всем орденском войске.
35,42,43.Хоругви комтурства Эльбингского и города Эльбинг (Эльблонг) – пересеченные в серебро и червлень, с прямым красным крестом в серебряном и с прямым же серебряным крестом – в красном поле.
36, 38.Хоругви немецких рыцарей («гостей» Ордена) из Северной Германии - знамена-гонфаноны, серебряные, с черной перевязью справа.
37.Хоругвь комтурства Торнского (Торуньского) и городка Торн (Торунь) – знамя-гонфанон с изображением красного замка с тремя башенками с окнами черного цвета, с раскрытыми черными воротами с поднятой серебряной решеткой и растворенными золотыми створками, в серебряном поле.
39.Хоругвь городка Меве (Гнев) - скрещенные серебряные стрела и арбалетный болт оперением вниз в красном поле.
40.Хоругвь городка Гейлигенбейль (Свента Секирка) - аналог. 32, но лезвие топора несколько уже.
41.Хоругвь комтурства Бр(а)унсбергского (у хрониста Яна Длугоша ошибочно названа «хоругвью комтурства Брауншвейгского»!) – красный, с серебряными полосами, восстающий лев с золотой короной, в лазурном поле – герб Тюрингии, в память об основателе Брунсберга – ландграфа Конрада Тюрингского, Верховного Магистра Тевтонского Ордена в 1239-1240 гг.
44.Хоругвь городка Ортельсберг (Щитно) – скошенная справа в червлень и серебро.
46.Хоругвь города Книпгоф (нем.: Кнейпгоф, польск.: Книпава), со временем слившегося с Кенигсбергом -золотая чешская (богемская) королевская корона в серебряном поле и прямой серебряный крест в красном поле - что в сочетании опять-таки дает геральдические цвета Богемии-Чехии, как напоминание об основателе города – чешском короле-крестоносце Оттокаре II Пшемысле.
47.Хоругвь рыцарей-крестоносцев - «гостей» Ордена - из Рейнской области Германии -дважды пересеченная в золото, серебро и червлень; у Яна Длугоша ошибочно названа «хоругвью ливонских рыцарей», хотя братья-рыцари Тевтонского Ордена из Ливонии в битве при Танненберге не участвовали, поскольку их глава – ландмейстер Тевтонского Ордена в Ливонии Конрад фон Фитингоф(ен) – заключил сепаратный мир с Витовтом; к тому на хоругви ливонских рыцарей были изображены, с одной стороны – Небесная покровительница Ордена - Пресвятая Богородица с младенцем Иисусом на руках, а с другой – святой мученик Маврикий с орденским щитом и копьем святого Лонгина).
48.Хоругвь баллея (бальяжа) Дишауского и городка Дишау – четырехкратно рассеченная в чернь и серебро.
49.Хоругвь города Альт-Алленштейн (Старый Ольштын) – дважды пересеченная в чернь, серебро и червлень, цветов рода фон Паннвиц.
50.Хоругвь рыцарей-крестоносцев («гостей» Ордена) из Мейсена (четвертованная в лазурь и червлень – геральдические цвета маркграфства Мейсенского).
51.Хоругвь комтурства Бранденбургского и городка Бранденбург - одноглавый червленый бранденбургский орел в серебряном поле – в память об основании маркграфом Бранденбурга одноименного замка на землях Тевтонского Ордена в ходе крестового похода).
Приложение 3
О войске Тевтонского ордена Пресвятой Девы Марии
I.Боевое построение.
В полевых сражениях войско Тевтонского ордена обычно состояло из трех линий или эшелонов (по-немецки: «треффен»). Третью линию составлял резерв. Каждый «треффен» состоял из нескольких боевых отрядов (по-немецки: «шлахтгауфенов»), представлявших собой тактические подразделения. В свою очередь, каждый «шлахтгауфен» состоял из нескольких «знамен», или «хоругвей» (по-немецки: «баннеров»), а каждое «знамя» - из нескольких отрядов (по-немецки: «труппов» - просьба не путать с трупами, то есть, с мертвыми телами).
Острие передового «шлахтгауфена» тевтонского орденского войска составляли рыцари в тяжелых доспехах, построенные клином (по-немецки: «ди шпиц»). В зависимости от количества тяжеловооруженных конников, составлявших острие клина, сам клин был больше или меньше. Были возможны варианты, когда в первом ряду стояло трое рыцарей, во втором - пятеро, в третьем - семеро, в четвертом - девять и т.д. Чаще всего «клин» состоял в общей сложности из 50-80 рыцарей, в то время как основную часть «шлахтгауфена» составляло двигавшееся вслед за тяжеловоруженными рыцарями, построенное вытянутым четырехугольником, формирование конных рыцарей в облегченном вооружении и «услужающих братьев» («слуг», «сариантов»), представлявших, по сравнению с рыцарями, меньшую боевую ценность и обладавших меньшим боевым опытом.
За отрядом этой средней и легкой кавалерии в некоторых случаях выстраивалась орденская пехота.
Конный рыцарский «клин» мог состоять либо из одного большого «баннера», либо из нескольких более мелких. Когда нам приходится читать о «клине», состоящем из нескольких «баннеров», то остается не ясным, где в таком случае располагались знамена и предводители этих мелких «баннеров», поскольку первый «баннер» клина считался знаменем всех «баннеров», входивших в этот клин. Прикрытие знаменосца составляли рыцари, вооруженные мечами, булавами и шестоперами. Иногда рыцари этой «знаменной группы» имели по два меча каждый. А вот копий им не полагалось (чтобы они, захваченные общим наступательным порывом, не атаковали неприятеля «по-рыцарски», с копьем наперевес, забыв о порученной им охране знамени).
Тактическая цель атаки в клинообразном строю заключалась в прорыве неприятельского строя, чтобы потом повернуть и рассечь и без того распадающееся неприятельское формирование на несколько частей. Вероятно, за рыцарями следовали легковооруженные отряды, занимавшиеся уничтожением противника, утратившего боевой порядок. Клинообразное построение использовалось тевтонами задолго до сыгравшей в истории Ордена Приснодевы Марии роковую роль битвы при Танненберге (15 июля 1410 года), в частности, в Прибалтике. В орденских хрониках (в частности, у Генриха Латышского), упоминается боевой порядок под названием «шигкунге» (хотя ныне точно не известно, как он выглядел).
II.Походное построение.
На марше в голове орденского войска следовал конный авангард (нем.: «фортраб», «реннфане»), а замыкал колонну арьергард (нем.: «нахгут»). Если войско передвигалось по неприятельской территории, оно шло в сомкнутом строю. При снятии с лагеря никто не должен был садиться на коня или надевать вооружение без приказа.
Каждый брат ордена Приснодевы Марии должен был оставаться в своей группе или «ротте», к которой он был приписан (Правила, 46). Без соответствующего приказа никому не разрешалось снимать доспехи, шлем, щит и оружие. В пункте XXIII Законов Верховного магистра тевтонов (Гохмейстера) Дитриха фон Альтенбурга (1335-1341) сказано, что все братья должны оставаться и передвигаться под знаменем (в составе «знамени»- В.А.), за исключением тех случаев, если предводитель их «баннера» или его помощник пошлют их куда-либо с поручением.
Пункт 5 закона V Верховного магистра Винриха фон Книпроде (1351-1382) гласил: «Брат, коий в походе (нем.: «рейзе») будет послан к знамени (зачислен в состав «знамени» - В.А.), не должен удаляться от оного без приказа». Слуги («кнехты») должны были в походе ехать вслед за братьями-рыцарями, каждый за своим господином Если рыцари соединялись в отдельный отряд (нем. «шар»), то кнехты» должны были ехать перед или рядом с ними, держа в поводу боевых коней (в походе рыцари ехали на походных лошадях).
В опасных(«внушающих страх») местах братьям ордена Приснодевы Марии не дозволялось без приказа разнуздывать лошадей. Когда братья садились на боевых коней, им не дозволялось поворачивать их без приказа.
В пору Средневековья среди рыцарей часто возникали споры и даже конфликты из-за права непременно первым атаковать неприятеля (первым войти с боевое соприкосновение с противником считалось делом чести, ради этого рыцари нередко ломали строй, приводя свое войско к поражению).
Поэтому Правила Тевтонского ордена строжайшим образом регламентировали все действия каждого члена ордена на марше и в бою, с целью недопущения подобных конфликтов между рыцарями и самовольных действий. Если бы братья самовольно, «ища себе чести и славы» (как говорится о дружинниках-курянах в «Слове о полку Игореве»), вырывались вперед, это могло бы привести к катастрофическим последствиям для орденского войска. Поэтому за подобные проступки предусматривалась суровая кара.
Никому из братьев не дозволялось атаковать без приказа или до того, как переходил в атаку предводитель «баннера» (нем.: «баннерфюрер»). Братья Тевтонского ордена, которым было поручено прикрывать знамя, обязаны были находиться в его непосредственной близости. Потеря знамени (или самовольная подача им каких-либо сигналов) каралась смертной казнью.
Перед отдачей маршалом или предводителем «баннера» приказа атаковать оруженосцы (нем.: «кнаппен») собирались с вьючными лошадьми под знаменем, которое держал один из «братьев-сариантов» (сержантов), и молились за своих ушедших в бой хозяев, не принимая сами участия в сражении. Сами оруженосцы (возившие за «братьями-рыцарями», которым они служили, их щиты и копья), имели на вооружение только кинжалы для самообороны и в бою участия не принимали.
В сомкнутом строю орденские бойцы оставались только до момента вхождения в боевое соприкосновение с противником. С началом схватки строй распадался на множество отдельных поединков. Тяжеловооруженные рыцари не могли атаковать с копьями наперевес в сомкнутом строю без интервалов, не имея свободы маневра и свободного пространства для разгона, необходимого для нанесения таранного удара. Они шли в атаку коротким или медленным галопом, почти что рысью. Обычно бой начинали конные арбалетчики, стоявшие на флангах и перед готовым к бою конным формированием ордена. Отстрелявшись, арбалетчики отступали в тыл конному формированию.
Тактическое боевое построение в соответствии с Уставом ордена тамплиеров, применявшееся Тевтонским орденом в ранний период его существования (в Святой Земле), отличалось от описанного выше «классического». В Святой Земле вооруженные «кнехты», державшие копья своих рыцарей, стояли перед группой рыцарей, каждый перед своим господином. Невооруженные оруженосцы («кнаппен») с походными лошадьми находились в последней линии.
Как правило, тяжеловооруженные рыцари образовывали первую линию, а «сарианты», имевшие среднее вооружение - вторую.
Легкая конница (так называемые «туркопулы» или «туркополы»), набиравшиеся из палестинских, сирийских и армянских христиан (а впоследствии - из осевших в Святой Земле потомков крестоносцев-«франков», «пулланов», но главным образом - из местных мусульман), стояла на флангах. Доказательством того, что туркополами в войсках крестоносцев служили преимущественно мусульмане, служит, в частности, следующее обстоятельство: после разгрома войска Иерусалимского королевства в битве при Хиттине (Хаттине) султан Египта и Сирии Саладин приказал своим воинам перебить всех взятых сарацинами в плен туркополов армии Иерусалимского королевства, как вероотступников. Но это так, к слову...
В Пруссии и Ливонии ситуация изменилась. Разделение орденского войска на отдельные отряды (крестоносцев изо всех градов и весей Европы, ополчений орденских комтурий, ополчений подчиненных ордену епископств и городов), выступавших каждый под собственным «баннером», делало фронт орденского войска более широким, за счет меньшей глубины построения.
Тактическое построение (в частности, в битве при Танненберге 15 июля 1410 г.) орденского войска состояло из большого числа конных арбалетчиков (спещивавшихся в бою) и меньшего числа тяжеловооруженных рыцарей (строившихся «клином»).
Пешие воины использовались, главным образом, в орденском флоте, при обороне замков, крепостей и городов, сопровождении транспортных колонн и при охране обоза, оставленного конным войском, ушедшим жечь и грабить достояние прусских язычников.
III.«Копье», или «глефа».
Самое мелкое подразделение тяжелой орденской конницы именовалось «копьем» (по-немецки: «глеве», «глефе», «глефа», «ланце» или «шпис»). «Глефа» (само это слово означает копьевидное длиннодревковое оружие с плоским, клинкообразным наконечником) была не тактическим, а чисто организационным подразделением. В отличие от «копий» мирских (светских) рыцарских войск Западной Европы (которые могли насчитывать в своем составе до нескольких десятков человек, в зависимости от богатства возглавлявшего «копье» рыцаря-феодала), тевтонская «глефа» состояла из троих человек - из одного тяжеловооруженного конника и его оруженосца («кнаппе), а также из одного конного арбалетчика. На этих троих человек приходилось в общей сложности четыре лошади. Каждый из трех конников «глефы» имел свою собственную походную лошадь, а тяжеловооруженный конник - еще и тяжелого боевого коня, которого в походе вел в поводу его оруженосец.
Тяжеловооруженный конный латник именовался «шписфюрером» или «глефнером». На марше доспехи рыцаря были навьючены на его боевого коня, в то время как оруженосец вез щит и копье «глефнера». Лишь в непосредственной близости от неприятеля «глефнер» в подходящем месте облачался в доспехи. Всякий рыцарь, желавший иметь собственного оруженосца, должен был при вступлении в Тевтонский орден внести в качестве «вклада» не менее четырех лошадей (во всяком случае, в германских владениях Тевтонского ордена). «Человеком чести» считался лишь тот, кто, кроме оруженосца (не имевшим собственного вооружения, кроме кинжала или ножа для самообороны), выставлял хотя бы одного стрелка.
Контракты, заключавшиеся Тевтонским орденом с предводителями наемников (нем.: «зёльднеров»), предусматривали, что каждый «шпис» в составе наемного отряда также должен был включать в свой состав троих человек и четырех лошадей (например: «Сорок хорошо вооруженных рыцарей и оруженосцев и сорок стрелков» или: «сто глеф добрых рыцарей и кнехтов в полном вооружении...и к ним сто стрелков. Эти сто глеф должны иметь четыреста лошадей»).
Во время похода орденского войска Тевтонского ордена на остров Готланд, с целью очистить его от шаек морских разбойников-«витальеров» (1404), каждый вооруженный арбалетом брат-рыцарь получал, в качестве конюха, собственного «кнехта», а все прочие арбалетчики - лишь одного «кнехта-конюха» на двоих.
IV.Во что они были одеты.
1.«Братья-рыцари»:
«Братья-рыцари» Тевтонского ордена именовались в просторечии «белыми плащами», поскольку носили поверх одежды длинный белый плащ-мантию, или «господский плащ (по-немецки: «герренмантель») без рукавов с черным орденским крестом (форма и размеры которого менялись с течением времени; размеры креста постепенно увеличивались) на левом плече («напротив сердца»). Под белым «господским» плащом братья-рыцари носили в мирное время длинный «конвентуальный» черный кафтан (нем.: «конвентсрок»), а в военное время - надевавшееся поверх доспехов укороченное (доходившее до колен в XII-XIV и до середины бедер в XV-XVI вв.) белое полукафтанье (нем.: «ваппенрок» или «ваффенрок», франц: «сюрко») с черным крестом на груди и спине (также принимавшем со временем все большие размеры). Это белое полукафтанье вошло в употребление в период пребывания тевтонских рыцарей в Святой Земле, чтобы жаркое палестинское солнце не так накаляло рыцарские кольчужные доспехи.
Кроме плаща, кафтана и полукафтанья, в комплект обмундирования тевтонского «брата-рыцаря» входили:
1)две белые полотняные рубахи с длинными рукавами;
2)две пары белых полотняных подштанников (состоявшая из двух штанин и гульфика каждая);
3)две пары черных «штанов» (по две черных штанины и по гульфику в каждой паре);
4)черная куртка («якка») с длинными рукавами (надевавшаяся поверх исподней полотняной рубахи и носившаяся в военное время под доспехами);
5)белая дорожная ряса (лат.: «каппа», нем.: «рейземантель») с черным крестом на груди и спине, длинными рукавами и капюшоном, именовавшаяся также «дождевиком» (нем.: «рейнмантель»);
7)«зимнее» военное полукафтанье, подбитое черной овчиной или черным козьим мехом (нем.: «курсит»);
8)«зимний» вариант белого «господского» плаща (также подбитый овчиной или козьим мехом).
«Зимние» полукафтанья и плащи были введены после переноса деятельности Тевтонского ордена из Святой Земли в суровые условия Прибалтики.
Тевтонские военные полукафтанья XII-XIV вв., доходившие до колен, в своей верхней части (до пояса) плотно прилегали к доспехам, расширяясь ниже пояса наподобие юбки.
Укороченные военные полукафтанья XV-XVI вв. тесно прилегали к нагрудникам (сменившим к тому времени кольчатую броню).
Когда в моду вошли бригандины - толстые суконные стеганые куртки с металлическими пластинами, нашитыми не снаружи, а изнутри, они частично заменили собой белые полукафтанья, и черные тевтонские кресты стали нашивать на белые бригандины.
С введением цельнокованых («белых») лат полукафтанья вышли из употребления, и орденский крест начали изображать (а у Верховных магистров и высших должностных лиц ордена («гебитигеров» или «гроссгебитигеров») - чеканить прямо на панцирях.
Кожаные башмаки и поясные ремни членов Тевтонского ордена были коричневого цвета. Таким образом, соблюдалось уставное требование ограничиваться употреблением только «церковных» цветов: белого, серого, черного и коричневого. Членам ордена Приснодевы Марии запрещалось иметь какие-либо украшения на одежде, обуви, поясах, ножнах, древках копий, колчанах и шпорах. Запрещалось также украшать конскую сбрую. В то же время не сохранилось никаких упоминаний о наличии на копьях «братьев» Тевтонского ордена белых флажков-флюгеров с черными орденскими крестами (в то время как сохранились, к примеру, изображения рыцарей-тамплиеров с подобными копейными флажками).
В качестве головного убора тевтонские рыцари носили круглую шапочку-скуфейку белого цвета с плоским верхом (в Уставе им особо запрещалось ношение остроконечных головных уборов).
На основании сохранившихся изображений можно предположить, что в начальный период истории Тевтонского ордена его «братья-рыцари» носили «конвентуальные» кафтаны и шапочки серого цвета. Такие же серые круглые шапочки носили тевтонские «услужающие братья» («сарианты») и «полубратья», о которых поидет речь чуть ниже.
2.«Братья-сарианты»:
«Братья-сарианты» («услужающие братья», лат.: «фратрес сервиентес», нем.: «сариантсбрюдер», «диненде брюдер» или просто «динер» - буквально: «слуги») именовались в просторечии «серыми плащами» (нем.: «граументлер»), поскольку вместо белого «господского» плаща «братьев-рыцарей» носили поверх одежды длинный плащ без рукавов серого цвета (нем.: «сариантсмантель»).
Под серым плащом тевтоны-«сарианты» носили в мирное время длинный серый «конвентуальный» кафтан (нем.: «конвентсрок»), а в военное - серое полукафтанье-«ваффенрок» (становившееся, с течением времени, все короче, как и белое полукафтанье тевтонских «братьев-рыцарей»), надевавшееся поверх доспехов.
Комплект обмундирования «братьев-сариантов» был аналогичен упомянутому выше рыцарскому (вплоть до «зимних» вариантов одежды, подбитых овчиной или козьим мехом). Летом утепленные «зимние» плащи и полукафтанья сдавались на хранение ризничему-траппьеру, или драппьеру (нем.: Trappier) Ордена; взамен них выдавались «летние» варианты тех же элеиентов орденского облачения.
Говоря об орденском облачении «братьев-сариантов», нам представляется необходимым подчеркнуть следующее обстоятельство.
Существует широко распространенное (как за рубежом, так и у нас в России) и глубоко укоренившееся (но от того не менее ошибочное) представление, будто бы «братья-сарианты» Тевтонского ордена носили на своих серых плащах и военных полукафтаньях (а согласно представлениям иных историков и особенно художников - даже на щитах, шлемах и конских попонах!) не «полный» (четырехконечный) черный орденский крест, а «половинный», «половинчатый» или «антониев» крест в форме буквы «Т» (по-гречески эта буква именуется «Тау», в связи с чем и означенный «полукрест» порой именуется «Тау-крестом»). Автор настоящего очерка должен покаяться в том, что и сам долгое время также разделял это ошибочное мнение.
В действительности тевтонские «братья-сарианты», подобно «братьям-рыцарям» и «братьям-священникам», вступавшие в Орден Пресвятой Девы Марии вместе со всем своим движимым и недвижимым имуществом, приносившим те же три монашеских обета нестяжания (бедности), послушания и целомудрия (безбрачия), являлись полноправными членами Ордена (хотя и не благородного происхождения (в отличие большинства - но не всех! - тевтонских «братьев рыцарей») и потому с полным на то правом носили на своих серых плащах и военных полукафтаньях (а также щитах, выкрашенных не в серый, а в тот же самый белый цвет, что и у «братьев-рыцарей») отнюдь не «полукрест», а «полный» четырехконечный черный орденский крест. «Тау-крест» носили на одежде не «сарианты», а «полубратья» (лат.: «семифратеры») Тевтонского ордена, представлявшие собой совершенно иную категорию членов Ордена.
3.«Полубратья».
«Полубратьями» (лат.: «семифратрес», нем.: «гальббрюдер»)именовались благочестивые христиане (римско-католической веры), вступавшие в Орден Приснодевы Марии вместе со всем своим имуществом и приносившие три вышеупомянутых монашеских обета, но не обязанные ордену военной службой, а посвящавшие себя хозяйственной деятельностью в орденских имениях и факториях (земледелию, скотоводству, торговле - например, янтарем, рыбой, зерном или скотом в прусских владениях ордена, и т.д.). Эти тевтонские «хозяйственники» носили одежду такого же серого цвета, что и «братья-сарианты», но иного покроя - кафтаны, более короткие, чем у «сариантов», и укороченные (до колен) серые плащи с рукавами и «половинным» черным «Тау-крестом» на левом плече. «Полубратья» призывались орденом к оружию лишь в самых крайних случаях - например, при внезапном нападении неприятеля на орденские владения, в которых трудились эти «полубратья», или в случае острой нехватки живой силы (например, после серьезного поряжения орденского войска, понесшего тяжелые потери). В обычное же время «полубратья» были освобождены от военной службы и в орденском войске не числились.
V.Трубачи, горнисты и герольды.
Кроме сигналов, подаваемых знаменами-«баннерами», в орденском войске подавались также звуковые (акустические) сигналы. Хронисты ордена упоминают подачу сигналов трубными (роговыми) звуками, например, к снятию лагеря, к выступлению в поход и т.д. По состоянию на 1422 год в инвентарной описи Малой оружейной палаты Кенигсбергской комтурии ордена числился один боевой (или войсковой) горн, или рог (нем.: «геергорне»). Фанфары в описываемое время не упоминаются.
В Правилах (54) о должности «бирюча», или «глашатая» («аусруфера») сказано, что в военном стане он должен располагаться рядом с маршалом ордена, и выкрикивать («оглашать») приказы последнего, обязательные к выполнению для всех. В Правилах также неоднократно упоминаются «возгласы» (возглашения) глашатаев, поднимающих орденское войско по тревоге при приближении неприятеля.
В орденских расходных книгах нередко встречаются записи вроде:
«Итого за 12 марок куплено 3 «швейка» (так назывались лошади низкорослой прусской породы - В.А.) для 3 трубачей, сопровождавших нашего Верховного магистра в рейзе (походе)» (нем.: Item XII m. vor III sweyken den III pfyfern gekouft dy mit unserm homeyster in dy reise zoegen).
Музыканты играли особенно важную роль в поддержании боевого духа воинов ордена на марше и в лагере. Каждому орденскому воинскому контингенту было придано определенное число музыкантов. Трубачи (нем.: peiper, pypir, pyper, pipir, pfyfer, spillute) сопровождали также отряды военного ополчения подчиненных ордену городов (судя, например, по «Военной книге» города Эльбинга за 1383-1409 гг.). Контингенты съезжавшихся на подмогу Ордену европейских крестоносцев также имели в своем составе трубачей, а в некоторых случаях - также литаврщиков.
Трубач приехавшего в Пруссию для участия в крестовом походе француза Жана де Блуа был даже облачен своим богатым сеньором в рыцарские латы. Необходимо заметить, что нам точно не известно, на каких именно инструментах играли упоминающиеся в орденских хрониках «трубачи» (горнисты). Под «трубачами» могли подразумеваться не обязательно горнисты, но даже флейтисты или волынщики. В тевтонских «рейзах» знатных европейских крестоносцеы участвовали также герольды и декламаторы (в качестве важных свидетелей, всегда готовых подтвердить и воспеть подвиги своих сеньоров). По некоторым данным, при дворе гохмейстера Тевтонского ордена в Мариенбурге-на-Ногате или в Кенигсберге имелся орденский герольд. Точных доказательств на этот счет не существует. Однако совершенно точно доказано существование, по крайней мере, в 1388 году, герольда Верховного Магистра. Звали этого герольда Варфоломей (Бартоломеус) Лютенберг.
Приложение 4
О провиантской службе Тевтонского ордена
Русский с юности привык поститься и обходиться скудной пищей; если у него
есть вода, мука, соль и водка, то он долго может прожить ими, а немец не может.
Бальтазар Рюссов. Ливонская хроника.
Что русскому здорово, для немца - смерть.
Русская народная пословица.
Режим питания нарушать нельзя.
Николай Носов. Незнайка на Луне.
Не зря немецким воинам испокон веку приписывают поговорку: «Война войной, обед - обедом». В том, насколько большое внимание они во все времена придавали соблюдению правильного режима питания, можно убедиться на примере армии Тевтонского ордена Пресвятой Девы Марии.
В мирное время «гебитигер» (начальник) «орденского дома» (в этом случае «гебитигером» являлся комтур) или крепости-бурга (в этом случае «гебитигером» являлся кастеллан, или каштелян) и орденские «братья» вкушали пищу за одним столом в трапезной (ла.: «рефекториум», нем.: «ремтер»), храня во время еды полное молчание. Иногда назначался чтец (обычно из числа орденских «братьев-священников» - как правило, они были единственными грамотными среди членов Тевтонского ордена), читавший вслух священные или нравоучительные тексты (обычно жития святых). После того, как «братья-священники» и «братья-рыцари», завершив трапезу, вставали из-за стола и, прочитав благодарственную молитву («Благодарим Тебя, Христе Боже наш, еже насытил нас земных Твоих благ, не лиши нас и Небесного Твоего Царствия!»), за стол садились «услужающие братья» («братья-сарианты»,«сариантсбрюдер», «диненде брюдер» или просто «динеры»), а вслед за «услужающими братьями» - слуги («кнехты»).
Пища «братьев» и слуг не отличалась большим разнообразием. В ежедневный рацион членов Тевтонского ордена непременно входили хлеб и каша (овсяная, пшенная или гречневая), а также серый и белый горох. В закромах орденских замков постоянно хранились большие запасы овса, проса, пшеницы и ржи. Поскольку орденские «братья» были не только монахами, но и воинами, им необходимо было высоко калорийное питание, в том числе масло, сыр, творог и, разумеется, мясо. Чаще всего они ели говядину и телятину, но не брезговали также и свининой. Подобно обычным католическим монахам описываемой (и не только описываемой) эпохи, тевтонские воины-монахи пили не только чистую воду, но и пиво, мед, плодово-ягодные вина, молоко, а со временем (по мере развития виноградарства) перешли и на местное прусское вино. В постные дни вместо мяса они ели рыбу, сыр и яйца.
В походе основными продуктами питания были хлеб и пиво. При этом проводилось четкое различие между «господским хлебом» (нем.: «герренброт»), который пекли для командного состава, «братьев-рыцарей» и «гостей» Ордена (знатных крестоносцев), с одной, и «хлебом для слуг» (нем.: «кнехтброт») более грубого помола, которым должны были довольствоваться воины «низкого звания». В походе «господа» пили, главным образом, вино, а слуги довольствовались пивом.
Провиант, который брали с собой крестоносцы и воины Тевтонского ордена, должен был не портиться на протяжении нескольких недель (столько обычно длились орденские «рейзы» в земли язычников), и потому состоял, главным образом, из сухарей, соленой, сушеной и вяленой рыбы, сала, копченого мяса, колбас, ветчины и солонины. По возможности брали с собой муку, чтобы печь из нее хлеб в походе.
Естественно, при захвате языческих селений все найденные там припасы и вся живность съедались подчистую.
В рацион участников военных «рейз» Тевтонского ордена в Пруссии непременно входила и так называемая «круда» - смесь различных сладких сухофруктов, сдобренная пряностями, анисом и кориандром. Существовала даже специальная профессия «круденера» («крюденера», «криденера») - кулинара-кондитера, специализировавшегося на изготовлении «круды» и одновременно торговавшего этим высококалорийным лакомством. Особенно славился своими «круденерами» подчиненный Тевтонскому ордену портовый город Данциг (по-польски: Гданьск).
В 1405 году для снабжения участников орденской «рейзы» в Литву свежим хлебом был зафрахтован целый корабль, превращенный в плавучую пекарню (нем.: «бакшифф»). Кроме того, участники орденских «рейз», если представлялась такая возможность, брали с собой в поход живой скот (обычно быков) и домашнюю птицу с клетках, чтобы иметь возможность питаться свежим мясом хотя бы на начальном этапе военной экспедиции.
Провиант, предназначенный для транспортировки на вьючных лошадях, телегах или санях (в зимнее время), упаковывался преимущественно в бочки или в мешки. Шедшая в голове походной колонны провиантская команда доставляла на место очередного ночлега необходимую провизию («виктуалии») для воинов, а также овес и сено для лошадей еще до подхода основных сил орденского войска.
Воины ополчений, направленных в состав орденского войска подчиненными Тевтонскому ордену городами и сельскими общинами, а также светскими рыцарями - ленниками ордена -, обычно сами заботились о пропитании, транспортировке провианта и снаряжения. Участвовавшие в тевтонских «рейзах» знатные крестоносцы (в отличие от приученных к воздержанию в пище и питье членов Тевтонского ордена, привычных, будучи монахами, к соответствующему монашескому «ангельскому чину» аскетическому образу жизни) старались ни в чем себе не отказывать даже в суровых условиях прусского театра военных действий. Так, в 1363 г. для принимавшего участие в «рейзе» знатного французского сеньора Жана де Блуа был нанят специальный повар, искусный в печении пирогов с разнообразной начинкой и в приготовлении изысканных паштетов, а также зафрахтован отдельный корабль, на борту которого в садках со свежей водой везли живую рыбу.
Судя по этому описанию, французы, в отличие от неприхотливых в пище и питье «братьев» Тевтонского ордена (не говоря уже о русских воинах, довольствовавшихся, если верить западноевропейским путешественникам, горстью толокна в день), уже в XIV веке были не только героями, но и сибаритами.
Приложение 5
Цены на некоторые продовольственные и непродовольственные товары в прусских владениях Тевтонского ордена в период наивысшего расцвета тамошнего орденского государства (1340-1411 гг.):
Хорошая молочная корова: 18 скотов.
Поросенок: 1 скот.
Откормленная свинья: 24 скота.
Баран: 3 скота.
Бочка топленого масла: 60 скотов.
Фунт (500 г) свиного сала: 0,16 скотов.
Бочка с 300 головками сыра: 72 скота.
Очень хороший боевой конь: 360-432 скота.
Хороший боевой конь: 288-360 скотов.
«Швейка» (лошадь местной прусской породы): 72-192 скота.
Боевое знамя («баннер»): 144 скота.
Хороший арбалет: 24 скота.
Железная шляпа (шлем-шапель, «айзенгут»): 14 скотов.
Железная каска: 10 скотов.
Бочка с 300 головками сыра: 72 скота.
1000 кирпичей: 14 скотов.
Плуг с железным лемехом: 14 скотов.
1 локоть серого платьевого сукна для слуг: 1,5 скота.
1 локоть цветного платьевого сукна для слуг: 4 скота.
1 локоть сукна для «господской» одежды: 9-12 скотов.
Железный топор: 4,1 скота.
Фунт (500 г) воска: 1,2 скота.
Основной денежной единицей в прусских владениях Тевтонского ордена в описываемое время была марка. В одной марке содержалось 24 скота.
Период военно-политического и, соответственно, экономического процветания прусского орденского государства тевтонов (II половина XIV-I половина XV в.) характеризовался достаточно высоким уровнем оплаты труда. Наемный работник в орденских землях в среднем получал поденную плату, эквивалентную стоимости 26-34 килограммов ржи. Цены на дрова, мясо и молоко оставались достаточно низкими, а цены на импортные товары - наоборот, очень высокими. Священнослужители и воины, нанимавшиеся на службу к Тевтонскому ордену, получали очень высокое жалование (в отличие от членов ордена Пресвятой Девы Марии, получавших бесплатно еду, питье, крышу над головой и одежду - в обмен на свое переданное ордену движимое и недвижимое имущество).
Здесь конец и Господу нашему слава!
Добро пожаловать на Balto-Slavica, форум о Восточной Европе.
Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем нашим функциям. Зарегистрировавшись, вы сможете создавать темы, отвечать в существующих темах, получить доступ к другим разделам и многое другое. Это сообщение исчезнет после входа.Войти Создать учётную запись
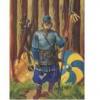
Грюнвальд
Started By
Folkvald
, июля 21 2009 06:58
#1

 Опубликовано 21 Июль 2009 - 06:58
Опубликовано 21 Июль 2009 - 06:58

http://folkvald.livejournal.com/
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
#2

 Опубликовано 21 Июль 2009 - 07:02
Опубликовано 21 Июль 2009 - 07:02




http://folkvald.livejournal.com/
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
#3

 Опубликовано 21 Июль 2009 - 07:08
Опубликовано 21 Июль 2009 - 07:08

''Новый Солдат'' № 094. Танненберг, 1410 г. Крах тевтонского ордена
http://www.infanata....ogo_ordena.html
http://rapidshare.co...Soldier_094.rar
http://natahaus.ifolder.ru/2543090
http://www.infanata....ogo_ordena.html
http://rapidshare.co...Soldier_094.rar
http://natahaus.ifolder.ru/2543090
http://folkvald.livejournal.com/
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
#4

 Опубликовано 23 Август 2009 - 08:29
Опубликовано 23 Август 2009 - 08:29

Цитата
В этой связи прежде всего следует заметить, что главным объектом борьбы являлась не какая-то населенная славянами земля, а Самогития – обширная и совершенно неосвоенная территория (именовавшаяся по-литовски «Жемайте», а по-польски «Жмудь»), дарованная Тевтонскому Ордену Великим князем («королем») Литовским Миндовгом (Миндаугасом) и населенная совершенно дикими языческими племенами, о которых современные им хронисты пишут, совсем как о гуннах и прочих варварах, как о «низкорослом народце, одетом в звериные шкуры, на маленьких, крепких мохнатых лошадках», сообщая еще немало «трогательных» подробностей в том же роде.
Ситуация, определяемая как реальная, реальна по своим последствиям.
#5

 Опубликовано 23 Август 2009 - 09:04
Опубликовано 23 Август 2009 - 09:04

Кошмар 
Как же эти "низкорослые и мохнатые" сумели Орден разбить при Сауле (1236) и Дурбе (1260)?
О битве при Сауле
http://www.osh.ru/pe...do/shaule.shtml
http://ru.wikipedia....
О битве при Дурбе
http://ru.wikipedia....
Как же эти "низкорослые и мохнатые" сумели Орден разбить при Сауле (1236) и Дурбе (1260)?
О битве при Сауле
http://www.osh.ru/pe...do/shaule.shtml
http://ru.wikipedia....
О битве при Дурбе
http://ru.wikipedia....
#6

 Опубликовано 23 Август 2009 - 20:23
Опубликовано 23 Август 2009 - 20:23

#7

 Опубликовано 23 Август 2009 - 21:04
Опубликовано 23 Август 2009 - 21:04

Цитата(Skalagrim @ 23.8.2009, 23:23) (смотреть оригинал)
А откуда дровишки?
Вольфганг Акунов. МИФЫ ТАННЕНБЕРГА
#9

 Опубликовано 24 Август 2009 - 12:12
Опубликовано 24 Август 2009 - 12:12

Цитата(Приднестровец @ 24.8.2009, 9:09) (смотреть оригинал)
Акунов "германофродит"(с), поэтому отношение к противникам немцев у него соответствующее. 
В принципе это "вина" не только Акунова. Он просто повторил, что до его о литовцах писали польские историки и писатели. Польский писатель Юзеф Игнацы Крашевский в своем произведении "Кунигас" (1881 г.) пишет о литовцах: "там дикие животные прыгают вместе с дикими людьми. Зверь и птица, человек и дерево - все настоящие братья". Его теорию о дикости жмудов почти повторил и Генрих Секнкевич в "Крестоносцах": "Ихние воины только дубинами вооружены, и только некоторые из них - медными мечами прадедов. - "Но я слышал, что в бою они славные мужи" - "Да, но голыми руками крепостей крестоносцев не возьмешь". Кстати, этих польских романтиков нельзя обвинить в неприязи к Литве. Например, Крашевский любил литовский народ и пытался его выставить невинным, близким к природе и т.д. Сенкевича тоже в антипатии к литовцам не обвинишь, но он как поляк пытался преувеличить миссию польского народа по крещению "диких". Так подобные романтики (не из плохих побуждений) посеяли миф о нынешних предках литовцев, которых все били, и только благодаря полякам они стали людьми
А то что в католических немецких хрониках о балтах пишут как о сарацинах, негодяях, варварах и т.д., то не секрет. Римляне варварами когда то самих германцев называли.
#10

 Опубликовано 24 Август 2009 - 16:17
Опубликовано 24 Август 2009 - 16:17

Видимо в среде польской аристократии мания величия не была редкостью. Отсюда польская заносчивость и высокомерие по отношению к соседям. Очень давно смотрел какой-то польский фильм. Вспоминаю кадры. В роскошном особняке , на втором этаже, в холле стоят стеллажи с книгами. Польский шляхтич в теплом хатате (на дворе зима) берет изящной тонкой рукой книгу с полки. Читает название. Восклицает : "Так это Катехизис Ловицкого !". (Он видимо в гостях...) Садится в кресло у камина. Идилическая картина - аристократ с хорошей книгой ,зимним вечером, у камина. И вдруг. Раздается треск за окном. Поляк вскидывает глаза и видит на дереве, против окна темную фигуру человека в рваном зипуне. Тот смотрит в светящеся окно. Затем сук обламывается. Мужик падает вниз, в снег. И убегает . На снегу крупным планом камера показывет отпечатки босых ног. По сюжету фильма это был местный полусумашедший. Жемайт по национальности. Противоставление польским режисером обеих персонажей было настолько бесстыдным, что мне эти кадры запомнились на всю жизнь.
”In hoc signo vinces”
#11

 Опубликовано 24 Август 2009 - 16:39
Опубликовано 24 Август 2009 - 16:39

Цитата(ВИТ @ 24.8.2009, 19:17) (смотреть оригинал)
Видимо в среде польской аристократии мания величия не была редкостью.
Напишу о собственных впечатлениях. Почти всегда работаю в Старом городе, а там много туристов. Заметил, что немец или какой итальянец всегда старается что-то спросить на английском. Поляк же все время будет говорить исключительно на польском, при том усердно удивляясь, что не все его понимают.
Я на одном фестивале в Польше (не подалеку от границы с Украиной) разговаривал с одним поляком - историческим реконструктором (это важно!). Он, конечно, на чистом великопольском, я на смеси русского и польского. Вдруг он мне говорит: "А вы жемайтов понимаете?". Я, к ему великому удивлению, ответил, что это практически один язык и произнес ему пару фраз на литовском. А он полагал, что мой ломанный русско-литовский является виленским диалектом польского
#12

 Опубликовано 26 Август 2009 - 11:51
Опубликовано 26 Август 2009 - 11:51

Довольно странный исторический парадокс в том, что Ливонский Орден, который уже некоторое время формально входил с состав ордена Тевтонского всё таки обладал не малой автономией и имел своего ландмайстера (местного магистра), в Грюнвальдской битве не участвовал. Еслиб присоеденилась и вся северная ветвь ордена, то неизвестно, какой бы была история Восточной Европы.
#13

 Опубликовано 22 Сентябрь 2009 - 08:21
Опубликовано 22 Сентябрь 2009 - 08:21

Бискуп М.
Великая война Польши и Литвы с Тевтонским орденом (1409—1411 гг.) в свете новейших исследований
В польской историографии значительное место занимает проблема вооруженной борьбы Польши и Литвы с Тевтонским орденом в Пруссии, поддерживаемым ливонской ветвью этой рыцарской духовной корпорации. Повышенный интерес к данным событиям можно объяснить тремя факторами: во-первых, серьезной ролью, которую вооруженная борьба сыграла в первой и особенно в начале второй половины XV в., обусловив сначала приостановление агрессии Тевтонского ордена против Литвы и северных земель Польского королевства (1409—1435 гг.), а затем и разгром орденского государства в Пруссии с помощью прусских сословий и подчинение остатков его территории Польше (1454—1466 гг.); последний этап борьбы — так называемая прусская война 1519—1521 гг., которая повлияла на процессы, направленные на секуляризацию подвластной ордену Пруссии в 1525 г.; во-вторых, формированием после 1945 г. коллективов, особенно в торуньском и лодзинском центрах, которые смогли предпринять более полные исследования широко понимаемых вопросов вооруженной борьбы Польши и Литвы с Орденом с использованием новейших методов, в том числе в области истории вооружения и археологии; в-третьих, получением более широкого доступа к архиву Немецкого ордена сначала в г. Гёттинген (ФРГ), в настоящее время — в Берлине (бывший Государственный архив в Кёнигсберге), а также к собраниям Центрального архива Немецкого ордена в Вене. Кроме того, исследователи использовали материалы польских архивов, особенно в Гданьске и Торуни, где хранятся основные источники по истории войн Польши и прусских сословий с Тевтонским орденом.
Все эти факторы в совокупности способствовали появлению ряда современных, выполненных польскими историками, в основном уже опубликованных исследований, которые позволяют сегодня шире и глубже осветить вооруженную борьбу Польши и Литвы с Тевтонским орденом в XV — начале XVI века.
Польская историография изучала сначала общие черты и условия функционирования и создания государства Тевтонского ордена в Пруссии. Полученные результаты нашли отражение в работах К. Гурского,1) Г. Лабуды и др.2) В них представлен общий фон экспансии Немецкого ордена сначала на Гданьское Поморье (аннексия его в 1308—1309 гг.) и неудачи политической и вооруженной борьбы возрожденного Польского королевства, лишь периодически поддерживаемого Литвой времен Гедимина, необходимость временного отказа от Гданьского Поморья в пользу Ордена в 1343 году. Однако в сознании польского общества и в политической идеологии времен последних Пястов и первых Ягеллонов проблема Гданьского Поморья осталась постоянным элементом программы возврата утраченных территорий хотя бы в более отдаленном будущем. Во второй половице XIV в. первое место в польской политике занимала проблема унии с Литвой (с 1386 г.), ее христианизации, совместной борьбы с нарастающей агрессией усиливающего свою мощь Тевтонского ордена.
Польские исследования указывают на серьезную угрозу, которую представляла собой так называемая вооруженная миссия Ордена по отношению к литовским землям, осуществляемая якобы в интересах всего западного христианства с помощью западного рыцарства, участвующего в походах против прибалтийских “сарацинов”. Их поддерживали и австрийские Габсбурги — враги Польши, а также Люксембурги Чехии и Венгрии. Орден узурпировал исключительное право на осуществление христианской миссии на Балтике, отвергая польскую деятельность как мнимую и спасая таким образом основы своего существования в данном регионе.
Используя стремления князя Витовта к сохранению независимости Литвы от Польши, Орден сумел в 1398 г. завладеть Жемайтией, добиваясь временного объединения прусской и ливонской ветвей вдоль побережья Балтики. В том же году Орден покорил шведский остров Готланд. В 1402 г. орденские власти выкупили у Сигизмунда Люксембургского так называемую Новую Марку, охватывая Польшу с северо-запада, вступили также во владение, в результате залогов, некоторыми северными землями Польского королевства (Добжинская земля). Одновременно Орден укреплял свои позиции в раздробленной территориально Ливонии, намереваясь начать экспансию на Новгород Великий.
Эти действия таили в себе большую опасность как для Литвы, охватываемой, как обручем, с северо-востока и запада, так и для Польши. В Восточной Европе встала, таким образом, дилемма “кто — кого”, и в складывавшейся политической обстановке было важно, какие позиции займет польско-литовская монархия.
Когда попытки мирных переговоров оказались безуспешными, а власть в Ордене с 1407 г. перешли к энергичному и экспансивному великому магистру Ульриху фон Юнгингену, стало неизбежным вооруженное столкновение Ордена с Польшей и Литвой, которые олицетворяли собой новые политические и социальные факторы и идеологические воззрения, получившие выражение в доктрине обращения язычников в христианство без применения насилия, с признанием их права на мирное существование. Орден же представлял устаревшую средневековую доктрину принудительного обращения в католицизм, не только обосновывающую “создание условий” для миссии, но и позволяющую захватывать языческие территории и порабощать их жителей.
Причиной начала так называемой Великой войны — первого крупного вооруженного столкновения Польши и Литвы с Тевтонским орденом — единодушно считается покорение и угнетение орденскими властями к 1409 г. Жемайтии, что привело к началу восстания, которое политически поддержали польский король Ягелло и великий князь литовский Витовт.
Великий магистр Тевтонского ордена Ульрих фон Юнгинген, предвосхищая возможность военной поддержки Литвы со стороны Польши, решил напасть на Ягелло. Тевтонский орден развязал вооруженную агрессию против совершенно не подготовленной к войне Польши в августе 1409 года. Поэтому первый этап Великой войны проходил под знаком превосходства тевтонских сил, которые временно заняли некоторые польские земли (Добжинская земля, северная Куявия).
Ягелло не оказал достойного сопротивления, к тому же войска Витовта могли прибыть в район боевых действий лишь на следующий год. Собранные наспех силы польского ополчения осенью 1409 г. смогли лишь частично вернуть утраченные территории в Куявии, поэтому король охотно согласился на девятимесячное перемирие (до 24 июня 1410 г.), которому способствовало посредничество чешского короля Вацлава Люксембургского. Не осуществив полную концентрацию польских и литовских сил, поздней осенью нельзя было продолжать кампанию в Пруссии, тем более что Тевтонский орден рассчитывал привлечь на свою сторону Витовта и изолировать Польшу. Однако эти расчеты оказались неверными, равно как и безуспешная попытка чешского посредничества. Вацлав Люксембургский в дальнейшем встал на позицию признаний права Ордена на всю Литву и запрещения Польше оказывать помощь “неверным” в Литве.
Польша и Литва зимой и весной 1410 г. начали широко задуманную подготовку к совместной кампании против Ордена после 24 июня, — кампании, которая должна была привести объединенные армии на поля Грюнвальда. Военная кампания 1410 г. и Грюнвальдская битва уже многие годы являются предметом интенсивных и углубленных исследований польских историков. Продолжительное время господствовали взгляды С. Кучинского, автора обширной монографии.3) Эта работа вызвала оживленную полемику, в которую включился и ее автор. Слабость его выводов заключалась в отсутствии полного анализа источников — основных летописных свидетельств (прежде всего так называемой Cronica conflictus и “Annales” Я. Длугоша), а также в недостаточном использовании материалов раскопок на поле боя под Грюнвальдом.
Невыясненными оставались вопросы о количестве войск и вооружения обеих воюющих сторон. Эти проблемы в последние годы освещены в работах лодзинских археологов и специалистов по оружию, работающих под руководством проф. А. Надольского.4) Он организовал коллектив, который с 1979 г. ведет раскопки на месте Грюнвальдской битвы. Работы шведского исследователя С. Экдаля о тевтонских отрядах и об источниках, касающихся Грюнвальда, также внесли много нового в исследование темы,5) которая, однако, не раскрыта полностью. Соответствующие исследования в Польше продолжаются, создано даже новое периодическое издание “Studia grunwaldzkie” (“Грюнвальдские исследования”).
В уже проведенных исследованиях была сделана попытка выяснить экономический и военный потенциал воюющих сторон весной 1410 года. По размерам территории Польское королевство (240 тыс. кв. км) и Великое княжество Литовское (1100 тыс. кв. км) значительно превосходили земли прусского Ордена (58 тыс. кв. км). По числу населения польско-литовская сторона (около 1800 тыс. человек в Польше, около 300 тыс. — в этнографической Литве, для входивших в ее состав русских земель нет данных) также имела превосходство над тевтонцами (около 500 тыс. человек). Но это подавляющее территориально-демографическое превосходство уравновешивалось более четкой организацией и более высоким уровнем урбанизированности Пруссии и ее богатыми финансовыми ресурсами. Тевтонский орден мог также рассчитывать на помощь ливонской и немецкой ветвей, а также Люксембургов Чехии и Венгрии, мог провести набор наемников за деньги. Польша и Литва такими возможностями не обладали. Ядром польских и литовских сил являлось конное ополчение шляхты или литовско-русских бояр, горожане и крестьяне (в рыцарских отрядах и немногочисленной пехоте).
Определение численного состава вооруженных сил Польши и Литвы, готовых к летнему походу 1410 г., весьма условно и указывает лишь на имевшиеся возможности: Польша — около 18 тыс. конницы, главным образом шляхетской, небольшое число наемников и около 12 тыс. обозных, мастеровых и представителей других вспомогательных служб — всего около 30 тыс. человек, вставших под родовые и земские хоругви не менее 50. Великое княжество Литовское — приблизительные оценочные данные, в частности 3. Сперальского,6) предполагают возможность набора около 11 тыс. конников в 40 хоругвях, состоящих из литовских, жемайтских и русских бояр с определенным количеством крестьянского элемента в роли боярской службы или в немногочисленных пеших отрядах. Следовательно, на долю Польши приходилось 2/3, а на долю Великого княжества около 1/3 конницы. Таким образом, вся польско-литовская армия могла насчитывать около 41 тыс. конников и некоторое количество пехоты, численность которой неизвестна. Эта армия была не только самой крупной за всю историю средневековой Польши и Литвы, но и Европы того времени.
В польской армии преобладал католический славянский элемент, прежде всего польский, было немного русских, еще меньше чехов и немцев (среди рыцарства или пеших горожан). Армия Великого княжества Литовского в этническом отношении была более сложной. Некоторые исследователи считают, что около 1/3 ее составляли балтийские литовцы и жмудины, а около 2/3 — русины, около 1 тыс. татар Джалалэддина. Часть воинов этой армия исповедовала католицизм, часть — православие, а остальные — татары, часть жмудинов и литовцев — были язычниками, что облегчало тевтонцам антиягеллонскую пропаганду.
Вооружение польской армии отвечало западноевропейским нормам (доспехи, холодное оружие — копья и мечи, арбалеты). Литовско-русские отряды имели более легкое оружие, в частности легкие пики и луки вместо копий и арбалетов, а также более легких коней, что обеспечивало конным отрядам большую маневренность. Весьма важным фактором была убежденность в необходимости решительного сражения со столь опасным врагом, угрожающим существованию государственной независимости (Литва), безопасности и политической роли “малой родины”, в частности северных земель Польши. Поэтому все исследователи говорят о высоком боевом духе польско-литовской армии, что оказало значительное влияние на ход многочасового сражения.
Враг — войска Ордена — располагал мощными вооруженными силами. По оценкам исследователей, сделанным в последнее время, у него насчитывалось около 16 тыс. конницы и около 5 тыс, пехоты, а если добавить несколько тысяч обозной челяди, то общее число достигало около 25 тыс. человек. Одних только тевтонских братьев насчитывалось около 500, но именно они были на командных постах, возглавляли “знамена”, отряды, состоящие из служебного рыцарства (светского), сельских старост (солтысов) и крестьян, а также ратников из больших городов, рыцарей из Западной Европы и около 3700 наемников из Силезии и Чехии.
Этнический состав этой армии был, однако, весьма сложным. Немецкий элемент, разумеется, преобладал в Ордене, а также среди определенной части рыцарей и наемников, горожан и крестьян. Но значительна была и роль славянского — поляков и кашубов, — а также балтийского элемента — пруссов из восточных районов Пруссии. Пропорции этих трех этнических групп — немецкой, славянской и балтийской — нельзя установить (возможно, по 1/3 каждая), но общий тон этой армии задавал немецкий элемент благодари командной роли, языку команд и песнопений на поле боя.
В вопрос о вооружении армии Ордена польские исследования внесли ряд уточнений: оно было похоже на польские или западноевропейские стандарты с некоторыми особенностями, заимствованными у пруссов (шлемы, щиты) и литовцев (пики). Тевтонская армия располагала большим числом арбалетов, а также артиллерией, которую намеревалась использовать в начале сражения. Крестоносцы обладали также значительным боевым опытом, полученным в сражениях с Литвой и на Балтике.
Моральный дух этой армии тоже был достаточно высок: идеология государства, осуществляющего миссию, была еще достаточно сильна в Пруссии и склоняла к лояльности большинство подданных Ордена. Поэтому противник польско-литовской стороны, несмотря на то, что он уступал ей почти на треть по численности, был достаточно грозным, располагая лучшим боевым оснащением по сравнению с легковооруженными литовско-русскими силами, а также имея большой боевой опыт, подкрепляемый хорошей организованностью и дисциплиной.
Важен вопрос, кто были главные военачальники воюющих сторон. Если войсками тевтонской стороны командовал великий магистр Ульрих фон Юнгинген, запальчивый воин, но хороший тактик, вопрос, кто был главным военачальником польско-литовской стороны, остается предметом многолетней дискуссии. Одни считают, что это был Ягелло, другие — Витовт, а может быть, даже и краковский мечник Зындрам из Машковиц. Можно сказать, что большинство исследователей с Кубинским во главе,7) используя источники, полностью исключает Зындрама из Машковиц, а главнокомандующим обеими армиями считает Ягелло — воина, опытного в сражениях с Орденом, Москвой и татарами, знакомого с военной тактикой как восточной, так и тевтонской. Конечно, Ягелло, командовавший армией Польского королевства, считался с мнениями командиров во главе с Витовтом, командовавшим литовско-русской армией. Но главное руководство обеими армиями было в руках опытного и талантливого вождя — Ягелло, поддерживаемого им же подобранными командирами и соратниками. Это не могло не повлиять на концепцию всей кампании, генерального сражения и его хода, в котором с блеском проявился настоящий полководческий гений короля.
Сегодня хорошо известно, что концепция летней кампании 1410 г. была заранее тщательно продумана Ягелло и другими командирами во главе с Витовтом. Она заключалась в новаторской идее сконцентрировать большинство вооруженных сил в одном пункте, чтобы оттуда после 24 июня нанести сокрушительный удар в сердце тевтонского государства — его столицу Мальборк. Одновременно планировалось создать видимость атаки рассеянными силами с нескольких сторон на Пруссию. Поэтому великий магистр счел необходимым рассредоточить собственные вооруженные силы почти на всем польско-литовском пограничье, а особенно в южной зоне Гданьского Поморья вдоль Вислы, и именно туда во второй половине июня стянул значительные силы (район Свеце).
В то же самое время до 30 июня 1410 г. была осуществлена концентрация польской и литовской армий на правом берегу Вислы, в Мазовии около Червиньска, что позволило им совершить марш на север в направлении Пруссии. Попытки ведения переговоров, предпринятые по инициативе послов венгерского короля Сигизмунда Люксембургского, не принесли результатов, поскольку Ягелло потребовал от Ордена отказаться от своих притязаний на Жемайтию и возвратить польскую Добжинскую землю. Таким образом, главной политической целью вооруженной кампании Польши и Литвы было приостановление экспансии крестоносцев в отношении Жемайтии (и вообще Литвы), а также против северных польских земель, причем без попытки ликвидировать существование Тевтонского ордена в Пруссии.
Эти переговоры ненадолго прервали поход великой армии, которая вступила в границы Пруссии, устремляясь к бродам на реке Дрвенца около замка в Кужентнике. Здесь выяснилось, что великий магистр сумел все же перебросить значительные силы с левого берега Вислы и неожиданно для наступавших перекрыл дорогу. Поэтому Ягелло принял решение немедленно отступить из-под Кужентника и направить всю армию на восток, чтобы обойти Дрвенцу и ее истоки в районе Оструды. Этот план был осуществлен. 13 июля польская и литовская армии заняли по пути городок и замок Домбрувно, беженцы из которого известили великого магистра о направлении марша войск Ягелло. В ночь на 15 июля они двинулись дальше в северо-восточном направлении и остановились поблизости озера Лубень, намереваясь после утреннего отдыха на его берегу следовать через село Стембарк (Танненберг) на Ольштынек — Оструду к истокам Дрвенцы.
Однако армия Ордена, которая пришла сюда, по всей вероятности, ранним утром 15 июля, хотя без некоторых своих отрядов (в частности, без опаздывающих наемников и группы войск с Гданьского Поморья), расположилась лагерем, вероятнее всего, между селами Стембарк и Грюнефельде, названным потом Грюнвальдом. В последнее время некоторые ученые (С. Экдаль) считают, что армия Ордена была размещена вдоль дороги Грюнвальд — Лодвигово, фронтом на восток, но до сих пор нет доказательств этого.
Скорее всего, войска Ордена были размещены между селами Стембарк и Лодвигово вместе с пушками и пехотой, поскольку великий магистр намеревался заставить войска Ягелло принять оборонительно-наступательную битву на склоне в долину, что было выгодно для армии Ордена. Следовательно, сначала он был намерен использовать артиллерию и пехоту с легкой конницей, за которой стояла тяжелая конница, выделив около 16 отрядов в качестве резерва для следующей фазы сражения. Это свидетельствовало о продуманном стратегическом замысле великого магистра. Отряды Ордена стояли под не менее чем 51 “знаменем” во главе с флюгером (гонфаноном) великого магистра с крестом Ордена.
Ягелло быстро разобрался в невыгодной для него обстановке на поле будущей битвы, поэтому несколько часов задерживал выступление в поход войск из лесов у озера Лубень. Лишь после концентрации всех сил и обследования местности он приказал развертывать боевые порядки шириной в 2,5 км между селами Лодвигово и Стембарк ближе к лесу. Польскими отрядами на левом фланге командовал Зындрам из Машковиц, литовско-русскими на правом фланге — Витовт. Часть конных отрядов была, однако, оставлена в тылу у озера Лубень в резерве. Пехота и артиллерия не учитывались Ягелло в плане сражения, которое рассматривалось как типичный средневековый бой конницы с конницей.
Польские отряды (всего около 30 тыс. человек) в так называемом колонном строю вступили в бой под родовыми или прежде всего земскими хоругвями, которых насчитывалось около 50. Литовско-русские отряды (приблизительно 11 тыс. конников) тоже выступили в колонном строю под 40 хоругвями. Достоверно установлено, что командиром хоругви Виленской земли был воевода Петр Гаштолт. Командование над тремя смоленскими отрядами принял князь Семен Лингвен, брат Ягелло. Татарские отряды были расставлены на правом фланге в качестве форпоста вместе с легковооруженными литовско-русскими отрядами.
Сам Ягелло как главнокомандующий всей армии Польши и Литвы предусмотрительно не намеревался включаться в вооруженную борьбу, со стороны наблюдая за ее ходом. Он намеренно, тактически оправданно медлил и не подавал сигнал к бою. Тогда великий магистр прислал к нему своих людей с двумя мечами для Ягелло и Витовта, вызвал их на бой (эти мечи до середины XIX в. находились в собраниях Чарторыских в Пулавах, потом были конфискованы царскими властями и пропали). Ягелло и Витовт спокойно восприняли этот оскорбительный вызов, который потом столетиями воспринимался поляками как символ тевтонского высокомерия и наглости. Великий магистр одновременно приказал отвести свои войска в долину Великого Потока, что дало больше места атакующим.
И вот тогда, около полудня, началось сражение с тевтонцами объединенных армий Польши и Литвы, продолжавшееся 6-7 часов. О его ходе имеются общие, неполные летописные данные, многие вопросы остаются еще не выясненными и дискуссионными. Битву начали легковооруженные литовские воины, находившиеся на правом фланге, поддерживаемые польскими наемными силами и форпостами с левого фланга. Эта атака смела тевтонскую артиллерию (бомбарды) и стрелков, замысел великого магистра использовать поначалу огнестрельное оружие и пехоту потерпел крах. В результате этого битва вскоре превратилась в столкновение конницы с конницей, согласно концепции Ягелло, причем в рукопашный бой включилась конница с обоих флангов.
Известно, что через некоторое время тевтонские войска стали теснить правофланговую литовскую группировку, которая начала отступать и частично покидать поле боя. До сих пор неясно, было ли бегство литовско-русских войск полностью или частично мнимым, по татарскому образцу (как предполагает С. Экдаль).8) Во всяком случае, часть из них (смоленские отряды) пробилась к левому польскому флангу или же укрылась среди резервных отрядов в лесу, часть бросилась врассыпную, увлекла за собой крупные силы тевтонцев с левого фланга, которые непредусмотрительно пустились в погоню в северо-восточном направлении, нанося большие потери преследуемым войскам. Это, впрочем, отвлекло силы крестоносцев от польского левого фланга, которому в дальнейшем пришлось вынести главную тяжесть сражения.
Несмотря на то, что Ягелло укрепил его резервными отрядами, польские силы оказались в критическом положении, особенно когда упало большое знамя с Белым орлом. Однако кризис был преодолен, и возвращающаяся из погони за литовско-русскими отрядами тевтонская тяжелая конница нашла положение совсем критическим для правого фланга Ордена, силы которого отступали под натиском Ягелло в западном направлении, а частично оказались окруженными. Великий магистр тогда принял неожиданное решение. Он стремительно отвел в тыл 16 отрядов, чтобы с фланга атаковать побеждающую уже польскую армию. Но этот маневр был вовремя распознан Ягелло и другими польскими командирами, выставившими усиленные заслоны против этой группировки противника.
К вечеру наступила предпоследняя кровавая фаза битвы, когда польские войска, по всей вероятности поддержанные также литовско-русскими отрядами, разгромили вспомогательные отряды Ордена, великий магистр Ульрих фон Юнгинген и главные сановники Ордена погибли. В этой фазе битвы капитулировали “знамена” Хелминской земли, позже тевтонские власти сочли это изменой своих подданных. Результат сражения был предрешен, но часть тевтонских конников вырвалась из окружения и укрылась в обозе между Стембарком и Грюнвальдом, намереваясь там под защитой конных повозок организовать оборону с использованием артиллерии и пехоты. Часть этих обращенных в бегство конников преследовала легкая татарская и литовско-русская конница. Попытка обороны тевтонского лагеря оказалась неудачной, пехотные отряды из армии Ягелло, то есть вооруженные крестьяне, пошли на штурм, завершившийся сокрушительным поражением тевтонских сил.
Битва закончилась вечером полным триумфом польской и литовской армий. В ней погибло 203 орденских брата вместе с командным составом и несколько тысяч воинов из тевтонских войск, более десяти тысяч было пленено, но большинство, прежде всего прусское рыцарство и горожан, Ягелло отпустил домой. В армии короля самые значительные потери понесли литовско-русские отряды, особенно в первой фазе сражения.
Причины этой необыкновенной победы Польши и Литвы сложны. Сегодня мы ищем их прежде всего в ошибках командования Ордена и командирских качествах Ягелло. Великий магистр был поставлен в тупик слишком быстрой концентрацией вооруженных сил противника. Кроме того, ему не хватило терпения дождаться, когда подоспеют подкрепления с Гданьского Поморья, что существенно ослабило боевую мощь войск Ордена.
На польско-Литовской стороне был не только численный перевес и превосходство боевого духа войск, но и настойчивая последовательность в выполнении боевых задач, направленных на окружение и уничтожение врага. Автором концепции сражения был Ягелло при непосредственном участии Витовта и польских командиров, причем их замысел предполагал ведение боя по средневековому образцу: борьбу польской и литовско-русской конницы с тевтонской с задачей оттеснить последнюю на запад и окружить, а затем истребить либо взять в плен. Особого внимания заслуживает применение тактики видимого отступления, дававшей возможность обеспечить необходимую передышку как для польских воинов, так и для их боевых коней. Тактическая мобильность позволяла в нужный момент перегруппировать войска, численно укрепить отряды на опасных участках.
Применение в первой фазе битвы легковооруженной литовско-татарской конницы и пресечение попытки врага применить артиллерию и пехотных стрелкой свидетельствуют о полководческом таланте главнокомандующего. Он не растерялся и не пал духом, когда началось беспорядочное отступление литовско-русского фланга, не отказался от осуществления поставленной задачи, потому что имел в своем распоряжении достаточные резервы как польских, так и литовско-русских конников. Это позволило устоять в наиболее критические моменты битвы, когда упало знамя с Белым орлом или когда пришлось отражать фланговую атаку 16 отрядов великого магистра. Концепция окружения значительной части неприятельской армия, а затем штурма орденского лагеря была осуществлена.
Без Ягелло не было бы такого Грюнвальда — так предполагают некоторые исследователи (с Кучинским во главе). Но ни в коей степени не отказывая польскому королю в его роли вождя, надо сказать, что осуществление его военного замысла было возможно только благодаря железной воле всей армии, как литовско-русской, так и польской, лишь в небольшой степени поддерживаемой наемными силезско-чешскими отрядами. Боевой вклад сначала литовско-русских бояр, а затем рыцарей из Малой Польши, Великой Польши и Червонной Руси, а в последней фазе битвы пеших воинов этих земель был необходимой гарантией конечной победы. Их мужество и стойкость в многочасовом сражении, то, что они не поддались настроениям отчаяния или паники в самой критической, послеполуденной фазе сражения, стали необходимым условием успеха их вождя, крупнейшего и беспримерного военного успеха Польского королевства и Литвы — победы над Тевтонским орденом.
Остается выяснить весьма существенный вопрос: каковы были последствия великой победы над Орденом для Польши и Литвы. Масштабы этой победы были неожиданными для самого польско-литовского командования — Ягелло и Витовта, а также их приближенных. Стало ясно, что реально осуществимы не только первоначальные цели борьбы (отпор экспансии Ордена против ягеллонской монархии, сохранение Литвой Жемайтии), но и вообще ликвидация самого тевтонского государства в Пруссии при условии получения поддержки и признания со стороны его подданных — прусских сословий. Другим последствием победы стало начало дипломатической и пропагандистской акции в Западной Европе, направленной против обвинения Польши тевтонскими властями в том, что она ведет вооруженную борьбу с духовной корпорацией, осуществляющей высокую миссию на благо христианства, что в этой борьбе она прибегает к помощи “язычников” во главе с “сарацинами”, то есть татарами или схизматическими противниками католической веры.
Обе эти цели с 16 июля начали реализовываться, причем главным стал вопрос овладения всем тевтонским государством, взятие его столицы Мальборка и привлечение на сторону Польши и Литвы прусских сословий. Осуществлению этой последней затеи (за исключением Восточной Пруссии с Кёнигсбергом) способствовали “послегрюнвальдский шок” и надежды сословий на хозяйственные и государственно-правовые уступки со стороны Ягелло. Более сложным оказалось взятке замка в Мальборке. Ягелло, в течение трех дней находившийся на поле боя или где-то поблизости, без промедления направил легковооруженные отряды, в том числе татар, к Мальборку, к которому они подошли самое позднее 22 июля. Но ворота замка были крепко заперты, светский командор Генрих фон Плауэн успел уже с 18 июля9) подготовиться к обороне.
25 июля подоспели главные силы армии Польши и Литвы с Ягелло и Витовтом, началась 7-недельная осада замка, которая, однако, оказалась безуспешной из-за отсутствия достаточного количества артиллерии и осадных машин. Плауэн, избранный великим магистром, не намеревался принимать новые требования Польши и Литвы: уступить не только Жемайтию и Добжинскую землю, но и Гданьское Поморье, Хелминскую землю и Повислье с Мальборком. Литва рассчитывала получить северо-восточные территории Пруссии (очевидно, на правом берегу Преголы с устьем Немана и Клайпедой), а Мазовия — ее южные районы, то есть Мазуры. Следовательно, Ордену оставалась лишь часть центральной Пруссии с Кёнигсбергом.
Плауэн ждал ответа на его призывы о вооруженной помощи, направляемые после 22 июля к Германской империи, а также Сигизмунду и Вацлаву Люксембургским. Он заявлял, что Ягелло с Витовтом заняли и разоряют Пруссию с помощью “сарацинов”, для которых хотят покорить прусское государство. Но реальную помощь Ордену оказала сначала тевтонская Ливония, которая в сентябре, угрожая польским и литовским селам в Пруссии, вынудила к отступлению войска Витовта и Ягелло из-под стен Мальборка. Позже Ягелло стал концентрировать свои силы на территории Куявии.
В октябре на Гданьское Поморье подошли вспомогательные отряды Ордена из Германии. Их удалось разбить в битве под Короновом (10 октября), которая, как и другие успехи местного значения, не смогла предотвратить возвращения Плауэном большинства прусских городов и земель. Кроме того, на территорию южной Польши в середине октября совершили из Словакии вооруженную диверсию войска Сигизмунда Люксембургского, что создало для Ягелло угрозу войны на два фронта. Поэтому в январе 1411 г. начались мирные переговоры с Плауэном. Они привели к заключению 1 февраля 1411 г. мирного договора в Торуни.
В договоре речь шла не о ликвидации господства Ордена или подчинении большинства поморско-прусских земель Польше и Литве, а о Жемайтии — основной цели польско-литовской борьбы до 15 июля 1410 года. Четвертый пункт договора констатировал, что как Ягелло, так и Витовт вправе пожизненно обладать Жемайтией, которая после их смерти должна беспрепятственно вернуться под власть Ордена. Остальные же замки, города и земли, взятые обеими сторонами, должны быть немедленно возвращены их прежним владельцам. Несмотря на компромиссный характер пункта, касающегося Жемайтии, все же она оставалась под властью Литвы, которая добровольно не согласилась бы отдать ее тевтонским властям.10) Поэтому можно сказать, что положения Торуньского договора 1411 г. в значительной степени реализовали первоначальные цели вооруженной польско-литовской кампании.
Можно ли считать, что договор 1411 г. был действительно “невыигранным миром” для Польши и Литвы, как утверждает большинство исследователей? Разумеется, нельзя, поскольку он давал, в конце концов, в значительной степени то, за что Польша и Литва боролись с осени 1409 г., то есть за освобождение Жемайтии и Добжинской земли, а также за предотвращение угрозы для Куявии и северной Мазовии. Осуществление этих целей было возможно только благодаря последствиям Грюнвальдской победы, которые явно повлияли на готовность Плауэна заключить соглашение с Польшей и Литвой.
Следовательно, договор 1411 г. документально закреплял факт отступления Ордена с его до сих пор нерушимой позиции на Балтийском море и приостановление его экспансии по отношению к землям Литвы и Польского королевства. Он открыл этап дальнейшей вооруженной борьбы Польши и Литвы с Орденом, продолжавшейся с 1414 до 1422 г., когда Литва окончательно добилась отказа Ордена от притязаний на Жемайтию и территории на Немане.
В середине XV в. Польша снискала себе нового союзника в прусских сословиях, которые в 1454 г. сдались Польше. В результате в Торуньском договоре 1466 г. была закреплена польская власть на нижней Висле (так называемая Королевская Пруссия), а остальные земли орденский Пруссии с Кенигсбергом перешли под косвенную, ленную власть Польши.
В этих полувековых переменах и противостояниях значительную роль играли результаты Великой войны и Грюнвальда, приведшие к экономическому и финансовому ослаблению Пруссии, вступившей в полосу внутреннего кризиса. Их итогом стало ослабление политической и военной мощи прусской ветви Ордена, обреченной с этих пор на помощь прусских сословий, что в свою очередь открыло путь к политической эмансипации и подорвало автократическую власть Ордена в результате основания в 1440 г. конфедерации прусских земель и городов (Прусского Союза). Это привело к подчинению прусских сословий Польше и ликвидации самостоятельности ордена в 1466 году.
В заключение добавим, что исследования Великой войны и венчающей ее Грюнвальдской битвы довольно живо ведутся в польской историографии, в Германии и других странах. Следует ожидать пересмотра ряда положений, касающихся как общих вопросов этой войны, так и хода самой битвы. Более того, расширяется изучение традиций Грюнвальда в историографии и историческом сознании Польши периода позднего средневековья, а также в старопольский период (XVI—XVII вв.). Эти исследования касаются также обновления традиций Грюнвальда как источника надежды и веры в условиях непрекращающегося влияния идеологии прусского государства Гогенцоллернов в XIX в;, идентифицирующегося с прошлым Ордена в Пруссии как экспансивного предшественника с антипольским лицом.
Определенную роль сыграли при этом польские произведения живописи (“Битва под Грюнвальдом” Я. Матейко) и художественной литературы (“Крестоносцы” Г. Сенкевича), которые приблизили к массам образ Грюнвальда, а с 1943 г. грюнвальдские традиции приобрели также международный характер (совместные действия славянского мира против гитлеровской Германии, причем взятие Берлина в 1945 г. отождествлялось с победой в 1410 г.), стали событием европейского масштаба, сыгравшим значительную роль и истории народов, живущих на Висле, Немане, Вилии, Двине и Днепре, и оказавшим существенное влияние на дальнейшее формирование их судеб.
--------------------------------------------------------------------------------
Бискуп Мариан — профессор истории университета в Торуни (Польша),
автор “Истории Ордена крестоносцев в Пруссии” и других книг.
--------------------------------------------------------------------------------
1) GÓRSKI K. Państwo krzyżacki w Prusaeh. Gdańsk – Bydgoszez 1946; ejsud. Lakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego. Wroctaw – Warzawa – Kraków – Gdańsk. 1977.
2) BISKUP M., LABUDA G. Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusah. Gdańsk. 1986.
3) KUCZYŃSKI S.M. Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411. Wyd.1. Warzawa.1955; wyd.5, Warzawa, 1987.
4) NOWAKOWSKI A. Uzbrojenie wojsk krzyżackih w Prusach w XIV w. i na poczatku XV w. Lódź. 1980.
5) EKDAHL S. Die “Banderia Prutenorum” des Jan Dlugosz. In: Eine Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410. Göttingen. 1976; ejsud. Die Schlacht bei Tannenberg 1410. T.1. Brl. 1982.
6) SPIERALSKI Z. Czy koniec sporów o Grunwald? — Zapiski Historyczne, t.39, z.2, 1971, s.91 i n.
7) KUCZYŃSKI S.M. Op. cit. Warzawa. 1960, s.160 in.
8) EKDAHL S. Die Flucht der Litauer in der Schlacht bei Tannenberg. — Zeitschrift für Ostforschung, t.12, 1963, S. 11 in.
9) BISKUP M. Echa bitwy grunwaldzkiej i obleżęnia Malborka w niemeckiej galezi Zakonu Krzyżackiego w lecie 1410 roku — Kommunikaty Mazursko-Warmińskie, 1984, nr. 1, s. 455-460.
10) KUCZYŃSKI S.M. Op.cit., s. 479 in.
http://annals.xlegio.../biskup.rar.htm
Великая война Польши и Литвы с Тевтонским орденом (1409—1411 гг.) в свете новейших исследований
В польской историографии значительное место занимает проблема вооруженной борьбы Польши и Литвы с Тевтонским орденом в Пруссии, поддерживаемым ливонской ветвью этой рыцарской духовной корпорации. Повышенный интерес к данным событиям можно объяснить тремя факторами: во-первых, серьезной ролью, которую вооруженная борьба сыграла в первой и особенно в начале второй половины XV в., обусловив сначала приостановление агрессии Тевтонского ордена против Литвы и северных земель Польского королевства (1409—1435 гг.), а затем и разгром орденского государства в Пруссии с помощью прусских сословий и подчинение остатков его территории Польше (1454—1466 гг.); последний этап борьбы — так называемая прусская война 1519—1521 гг., которая повлияла на процессы, направленные на секуляризацию подвластной ордену Пруссии в 1525 г.; во-вторых, формированием после 1945 г. коллективов, особенно в торуньском и лодзинском центрах, которые смогли предпринять более полные исследования широко понимаемых вопросов вооруженной борьбы Польши и Литвы с Орденом с использованием новейших методов, в том числе в области истории вооружения и археологии; в-третьих, получением более широкого доступа к архиву Немецкого ордена сначала в г. Гёттинген (ФРГ), в настоящее время — в Берлине (бывший Государственный архив в Кёнигсберге), а также к собраниям Центрального архива Немецкого ордена в Вене. Кроме того, исследователи использовали материалы польских архивов, особенно в Гданьске и Торуни, где хранятся основные источники по истории войн Польши и прусских сословий с Тевтонским орденом.
Все эти факторы в совокупности способствовали появлению ряда современных, выполненных польскими историками, в основном уже опубликованных исследований, которые позволяют сегодня шире и глубже осветить вооруженную борьбу Польши и Литвы с Тевтонским орденом в XV — начале XVI века.
Польская историография изучала сначала общие черты и условия функционирования и создания государства Тевтонского ордена в Пруссии. Полученные результаты нашли отражение в работах К. Гурского,1) Г. Лабуды и др.2) В них представлен общий фон экспансии Немецкого ордена сначала на Гданьское Поморье (аннексия его в 1308—1309 гг.) и неудачи политической и вооруженной борьбы возрожденного Польского королевства, лишь периодически поддерживаемого Литвой времен Гедимина, необходимость временного отказа от Гданьского Поморья в пользу Ордена в 1343 году. Однако в сознании польского общества и в политической идеологии времен последних Пястов и первых Ягеллонов проблема Гданьского Поморья осталась постоянным элементом программы возврата утраченных территорий хотя бы в более отдаленном будущем. Во второй половице XIV в. первое место в польской политике занимала проблема унии с Литвой (с 1386 г.), ее христианизации, совместной борьбы с нарастающей агрессией усиливающего свою мощь Тевтонского ордена.
Польские исследования указывают на серьезную угрозу, которую представляла собой так называемая вооруженная миссия Ордена по отношению к литовским землям, осуществляемая якобы в интересах всего западного христианства с помощью западного рыцарства, участвующего в походах против прибалтийских “сарацинов”. Их поддерживали и австрийские Габсбурги — враги Польши, а также Люксембурги Чехии и Венгрии. Орден узурпировал исключительное право на осуществление христианской миссии на Балтике, отвергая польскую деятельность как мнимую и спасая таким образом основы своего существования в данном регионе.
Используя стремления князя Витовта к сохранению независимости Литвы от Польши, Орден сумел в 1398 г. завладеть Жемайтией, добиваясь временного объединения прусской и ливонской ветвей вдоль побережья Балтики. В том же году Орден покорил шведский остров Готланд. В 1402 г. орденские власти выкупили у Сигизмунда Люксембургского так называемую Новую Марку, охватывая Польшу с северо-запада, вступили также во владение, в результате залогов, некоторыми северными землями Польского королевства (Добжинская земля). Одновременно Орден укреплял свои позиции в раздробленной территориально Ливонии, намереваясь начать экспансию на Новгород Великий.
Эти действия таили в себе большую опасность как для Литвы, охватываемой, как обручем, с северо-востока и запада, так и для Польши. В Восточной Европе встала, таким образом, дилемма “кто — кого”, и в складывавшейся политической обстановке было важно, какие позиции займет польско-литовская монархия.
Когда попытки мирных переговоров оказались безуспешными, а власть в Ордене с 1407 г. перешли к энергичному и экспансивному великому магистру Ульриху фон Юнгингену, стало неизбежным вооруженное столкновение Ордена с Польшей и Литвой, которые олицетворяли собой новые политические и социальные факторы и идеологические воззрения, получившие выражение в доктрине обращения язычников в христианство без применения насилия, с признанием их права на мирное существование. Орден же представлял устаревшую средневековую доктрину принудительного обращения в католицизм, не только обосновывающую “создание условий” для миссии, но и позволяющую захватывать языческие территории и порабощать их жителей.
Причиной начала так называемой Великой войны — первого крупного вооруженного столкновения Польши и Литвы с Тевтонским орденом — единодушно считается покорение и угнетение орденскими властями к 1409 г. Жемайтии, что привело к началу восстания, которое политически поддержали польский король Ягелло и великий князь литовский Витовт.
Великий магистр Тевтонского ордена Ульрих фон Юнгинген, предвосхищая возможность военной поддержки Литвы со стороны Польши, решил напасть на Ягелло. Тевтонский орден развязал вооруженную агрессию против совершенно не подготовленной к войне Польши в августе 1409 года. Поэтому первый этап Великой войны проходил под знаком превосходства тевтонских сил, которые временно заняли некоторые польские земли (Добжинская земля, северная Куявия).
Ягелло не оказал достойного сопротивления, к тому же войска Витовта могли прибыть в район боевых действий лишь на следующий год. Собранные наспех силы польского ополчения осенью 1409 г. смогли лишь частично вернуть утраченные территории в Куявии, поэтому король охотно согласился на девятимесячное перемирие (до 24 июня 1410 г.), которому способствовало посредничество чешского короля Вацлава Люксембургского. Не осуществив полную концентрацию польских и литовских сил, поздней осенью нельзя было продолжать кампанию в Пруссии, тем более что Тевтонский орден рассчитывал привлечь на свою сторону Витовта и изолировать Польшу. Однако эти расчеты оказались неверными, равно как и безуспешная попытка чешского посредничества. Вацлав Люксембургский в дальнейшем встал на позицию признаний права Ордена на всю Литву и запрещения Польше оказывать помощь “неверным” в Литве.
Польша и Литва зимой и весной 1410 г. начали широко задуманную подготовку к совместной кампании против Ордена после 24 июня, — кампании, которая должна была привести объединенные армии на поля Грюнвальда. Военная кампания 1410 г. и Грюнвальдская битва уже многие годы являются предметом интенсивных и углубленных исследований польских историков. Продолжительное время господствовали взгляды С. Кучинского, автора обширной монографии.3) Эта работа вызвала оживленную полемику, в которую включился и ее автор. Слабость его выводов заключалась в отсутствии полного анализа источников — основных летописных свидетельств (прежде всего так называемой Cronica conflictus и “Annales” Я. Длугоша), а также в недостаточном использовании материалов раскопок на поле боя под Грюнвальдом.
Невыясненными оставались вопросы о количестве войск и вооружения обеих воюющих сторон. Эти проблемы в последние годы освещены в работах лодзинских археологов и специалистов по оружию, работающих под руководством проф. А. Надольского.4) Он организовал коллектив, который с 1979 г. ведет раскопки на месте Грюнвальдской битвы. Работы шведского исследователя С. Экдаля о тевтонских отрядах и об источниках, касающихся Грюнвальда, также внесли много нового в исследование темы,5) которая, однако, не раскрыта полностью. Соответствующие исследования в Польше продолжаются, создано даже новое периодическое издание “Studia grunwaldzkie” (“Грюнвальдские исследования”).
В уже проведенных исследованиях была сделана попытка выяснить экономический и военный потенциал воюющих сторон весной 1410 года. По размерам территории Польское королевство (240 тыс. кв. км) и Великое княжество Литовское (1100 тыс. кв. км) значительно превосходили земли прусского Ордена (58 тыс. кв. км). По числу населения польско-литовская сторона (около 1800 тыс. человек в Польше, около 300 тыс. — в этнографической Литве, для входивших в ее состав русских земель нет данных) также имела превосходство над тевтонцами (около 500 тыс. человек). Но это подавляющее территориально-демографическое превосходство уравновешивалось более четкой организацией и более высоким уровнем урбанизированности Пруссии и ее богатыми финансовыми ресурсами. Тевтонский орден мог также рассчитывать на помощь ливонской и немецкой ветвей, а также Люксембургов Чехии и Венгрии, мог провести набор наемников за деньги. Польша и Литва такими возможностями не обладали. Ядром польских и литовских сил являлось конное ополчение шляхты или литовско-русских бояр, горожане и крестьяне (в рыцарских отрядах и немногочисленной пехоте).
Определение численного состава вооруженных сил Польши и Литвы, готовых к летнему походу 1410 г., весьма условно и указывает лишь на имевшиеся возможности: Польша — около 18 тыс. конницы, главным образом шляхетской, небольшое число наемников и около 12 тыс. обозных, мастеровых и представителей других вспомогательных служб — всего около 30 тыс. человек, вставших под родовые и земские хоругви не менее 50. Великое княжество Литовское — приблизительные оценочные данные, в частности 3. Сперальского,6) предполагают возможность набора около 11 тыс. конников в 40 хоругвях, состоящих из литовских, жемайтских и русских бояр с определенным количеством крестьянского элемента в роли боярской службы или в немногочисленных пеших отрядах. Следовательно, на долю Польши приходилось 2/3, а на долю Великого княжества около 1/3 конницы. Таким образом, вся польско-литовская армия могла насчитывать около 41 тыс. конников и некоторое количество пехоты, численность которой неизвестна. Эта армия была не только самой крупной за всю историю средневековой Польши и Литвы, но и Европы того времени.
В польской армии преобладал католический славянский элемент, прежде всего польский, было немного русских, еще меньше чехов и немцев (среди рыцарства или пеших горожан). Армия Великого княжества Литовского в этническом отношении была более сложной. Некоторые исследователи считают, что около 1/3 ее составляли балтийские литовцы и жмудины, а около 2/3 — русины, около 1 тыс. татар Джалалэддина. Часть воинов этой армия исповедовала католицизм, часть — православие, а остальные — татары, часть жмудинов и литовцев — были язычниками, что облегчало тевтонцам антиягеллонскую пропаганду.
Вооружение польской армии отвечало западноевропейским нормам (доспехи, холодное оружие — копья и мечи, арбалеты). Литовско-русские отряды имели более легкое оружие, в частности легкие пики и луки вместо копий и арбалетов, а также более легких коней, что обеспечивало конным отрядам большую маневренность. Весьма важным фактором была убежденность в необходимости решительного сражения со столь опасным врагом, угрожающим существованию государственной независимости (Литва), безопасности и политической роли “малой родины”, в частности северных земель Польши. Поэтому все исследователи говорят о высоком боевом духе польско-литовской армии, что оказало значительное влияние на ход многочасового сражения.
Враг — войска Ордена — располагал мощными вооруженными силами. По оценкам исследователей, сделанным в последнее время, у него насчитывалось около 16 тыс. конницы и около 5 тыс, пехоты, а если добавить несколько тысяч обозной челяди, то общее число достигало около 25 тыс. человек. Одних только тевтонских братьев насчитывалось около 500, но именно они были на командных постах, возглавляли “знамена”, отряды, состоящие из служебного рыцарства (светского), сельских старост (солтысов) и крестьян, а также ратников из больших городов, рыцарей из Западной Европы и около 3700 наемников из Силезии и Чехии.
Этнический состав этой армии был, однако, весьма сложным. Немецкий элемент, разумеется, преобладал в Ордене, а также среди определенной части рыцарей и наемников, горожан и крестьян. Но значительна была и роль славянского — поляков и кашубов, — а также балтийского элемента — пруссов из восточных районов Пруссии. Пропорции этих трех этнических групп — немецкой, славянской и балтийской — нельзя установить (возможно, по 1/3 каждая), но общий тон этой армии задавал немецкий элемент благодари командной роли, языку команд и песнопений на поле боя.
В вопрос о вооружении армии Ордена польские исследования внесли ряд уточнений: оно было похоже на польские или западноевропейские стандарты с некоторыми особенностями, заимствованными у пруссов (шлемы, щиты) и литовцев (пики). Тевтонская армия располагала большим числом арбалетов, а также артиллерией, которую намеревалась использовать в начале сражения. Крестоносцы обладали также значительным боевым опытом, полученным в сражениях с Литвой и на Балтике.
Моральный дух этой армии тоже был достаточно высок: идеология государства, осуществляющего миссию, была еще достаточно сильна в Пруссии и склоняла к лояльности большинство подданных Ордена. Поэтому противник польско-литовской стороны, несмотря на то, что он уступал ей почти на треть по численности, был достаточно грозным, располагая лучшим боевым оснащением по сравнению с легковооруженными литовско-русскими силами, а также имея большой боевой опыт, подкрепляемый хорошей организованностью и дисциплиной.
Важен вопрос, кто были главные военачальники воюющих сторон. Если войсками тевтонской стороны командовал великий магистр Ульрих фон Юнгинген, запальчивый воин, но хороший тактик, вопрос, кто был главным военачальником польско-литовской стороны, остается предметом многолетней дискуссии. Одни считают, что это был Ягелло, другие — Витовт, а может быть, даже и краковский мечник Зындрам из Машковиц. Можно сказать, что большинство исследователей с Кубинским во главе,7) используя источники, полностью исключает Зындрама из Машковиц, а главнокомандующим обеими армиями считает Ягелло — воина, опытного в сражениях с Орденом, Москвой и татарами, знакомого с военной тактикой как восточной, так и тевтонской. Конечно, Ягелло, командовавший армией Польского королевства, считался с мнениями командиров во главе с Витовтом, командовавшим литовско-русской армией. Но главное руководство обеими армиями было в руках опытного и талантливого вождя — Ягелло, поддерживаемого им же подобранными командирами и соратниками. Это не могло не повлиять на концепцию всей кампании, генерального сражения и его хода, в котором с блеском проявился настоящий полководческий гений короля.
Сегодня хорошо известно, что концепция летней кампании 1410 г. была заранее тщательно продумана Ягелло и другими командирами во главе с Витовтом. Она заключалась в новаторской идее сконцентрировать большинство вооруженных сил в одном пункте, чтобы оттуда после 24 июня нанести сокрушительный удар в сердце тевтонского государства — его столицу Мальборк. Одновременно планировалось создать видимость атаки рассеянными силами с нескольких сторон на Пруссию. Поэтому великий магистр счел необходимым рассредоточить собственные вооруженные силы почти на всем польско-литовском пограничье, а особенно в южной зоне Гданьского Поморья вдоль Вислы, и именно туда во второй половине июня стянул значительные силы (район Свеце).
В то же самое время до 30 июня 1410 г. была осуществлена концентрация польской и литовской армий на правом берегу Вислы, в Мазовии около Червиньска, что позволило им совершить марш на север в направлении Пруссии. Попытки ведения переговоров, предпринятые по инициативе послов венгерского короля Сигизмунда Люксембургского, не принесли результатов, поскольку Ягелло потребовал от Ордена отказаться от своих притязаний на Жемайтию и возвратить польскую Добжинскую землю. Таким образом, главной политической целью вооруженной кампании Польши и Литвы было приостановление экспансии крестоносцев в отношении Жемайтии (и вообще Литвы), а также против северных польских земель, причем без попытки ликвидировать существование Тевтонского ордена в Пруссии.
Эти переговоры ненадолго прервали поход великой армии, которая вступила в границы Пруссии, устремляясь к бродам на реке Дрвенца около замка в Кужентнике. Здесь выяснилось, что великий магистр сумел все же перебросить значительные силы с левого берега Вислы и неожиданно для наступавших перекрыл дорогу. Поэтому Ягелло принял решение немедленно отступить из-под Кужентника и направить всю армию на восток, чтобы обойти Дрвенцу и ее истоки в районе Оструды. Этот план был осуществлен. 13 июля польская и литовская армии заняли по пути городок и замок Домбрувно, беженцы из которого известили великого магистра о направлении марша войск Ягелло. В ночь на 15 июля они двинулись дальше в северо-восточном направлении и остановились поблизости озера Лубень, намереваясь после утреннего отдыха на его берегу следовать через село Стембарк (Танненберг) на Ольштынек — Оструду к истокам Дрвенцы.
Однако армия Ордена, которая пришла сюда, по всей вероятности, ранним утром 15 июля, хотя без некоторых своих отрядов (в частности, без опаздывающих наемников и группы войск с Гданьского Поморья), расположилась лагерем, вероятнее всего, между селами Стембарк и Грюнефельде, названным потом Грюнвальдом. В последнее время некоторые ученые (С. Экдаль) считают, что армия Ордена была размещена вдоль дороги Грюнвальд — Лодвигово, фронтом на восток, но до сих пор нет доказательств этого.
Скорее всего, войска Ордена были размещены между селами Стембарк и Лодвигово вместе с пушками и пехотой, поскольку великий магистр намеревался заставить войска Ягелло принять оборонительно-наступательную битву на склоне в долину, что было выгодно для армии Ордена. Следовательно, сначала он был намерен использовать артиллерию и пехоту с легкой конницей, за которой стояла тяжелая конница, выделив около 16 отрядов в качестве резерва для следующей фазы сражения. Это свидетельствовало о продуманном стратегическом замысле великого магистра. Отряды Ордена стояли под не менее чем 51 “знаменем” во главе с флюгером (гонфаноном) великого магистра с крестом Ордена.
Ягелло быстро разобрался в невыгодной для него обстановке на поле будущей битвы, поэтому несколько часов задерживал выступление в поход войск из лесов у озера Лубень. Лишь после концентрации всех сил и обследования местности он приказал развертывать боевые порядки шириной в 2,5 км между селами Лодвигово и Стембарк ближе к лесу. Польскими отрядами на левом фланге командовал Зындрам из Машковиц, литовско-русскими на правом фланге — Витовт. Часть конных отрядов была, однако, оставлена в тылу у озера Лубень в резерве. Пехота и артиллерия не учитывались Ягелло в плане сражения, которое рассматривалось как типичный средневековый бой конницы с конницей.
Польские отряды (всего около 30 тыс. человек) в так называемом колонном строю вступили в бой под родовыми или прежде всего земскими хоругвями, которых насчитывалось около 50. Литовско-русские отряды (приблизительно 11 тыс. конников) тоже выступили в колонном строю под 40 хоругвями. Достоверно установлено, что командиром хоругви Виленской земли был воевода Петр Гаштолт. Командование над тремя смоленскими отрядами принял князь Семен Лингвен, брат Ягелло. Татарские отряды были расставлены на правом фланге в качестве форпоста вместе с легковооруженными литовско-русскими отрядами.
Сам Ягелло как главнокомандующий всей армии Польши и Литвы предусмотрительно не намеревался включаться в вооруженную борьбу, со стороны наблюдая за ее ходом. Он намеренно, тактически оправданно медлил и не подавал сигнал к бою. Тогда великий магистр прислал к нему своих людей с двумя мечами для Ягелло и Витовта, вызвал их на бой (эти мечи до середины XIX в. находились в собраниях Чарторыских в Пулавах, потом были конфискованы царскими властями и пропали). Ягелло и Витовт спокойно восприняли этот оскорбительный вызов, который потом столетиями воспринимался поляками как символ тевтонского высокомерия и наглости. Великий магистр одновременно приказал отвести свои войска в долину Великого Потока, что дало больше места атакующим.
И вот тогда, около полудня, началось сражение с тевтонцами объединенных армий Польши и Литвы, продолжавшееся 6-7 часов. О его ходе имеются общие, неполные летописные данные, многие вопросы остаются еще не выясненными и дискуссионными. Битву начали легковооруженные литовские воины, находившиеся на правом фланге, поддерживаемые польскими наемными силами и форпостами с левого фланга. Эта атака смела тевтонскую артиллерию (бомбарды) и стрелков, замысел великого магистра использовать поначалу огнестрельное оружие и пехоту потерпел крах. В результате этого битва вскоре превратилась в столкновение конницы с конницей, согласно концепции Ягелло, причем в рукопашный бой включилась конница с обоих флангов.
Известно, что через некоторое время тевтонские войска стали теснить правофланговую литовскую группировку, которая начала отступать и частично покидать поле боя. До сих пор неясно, было ли бегство литовско-русских войск полностью или частично мнимым, по татарскому образцу (как предполагает С. Экдаль).8) Во всяком случае, часть из них (смоленские отряды) пробилась к левому польскому флангу или же укрылась среди резервных отрядов в лесу, часть бросилась врассыпную, увлекла за собой крупные силы тевтонцев с левого фланга, которые непредусмотрительно пустились в погоню в северо-восточном направлении, нанося большие потери преследуемым войскам. Это, впрочем, отвлекло силы крестоносцев от польского левого фланга, которому в дальнейшем пришлось вынести главную тяжесть сражения.
Несмотря на то, что Ягелло укрепил его резервными отрядами, польские силы оказались в критическом положении, особенно когда упало большое знамя с Белым орлом. Однако кризис был преодолен, и возвращающаяся из погони за литовско-русскими отрядами тевтонская тяжелая конница нашла положение совсем критическим для правого фланга Ордена, силы которого отступали под натиском Ягелло в западном направлении, а частично оказались окруженными. Великий магистр тогда принял неожиданное решение. Он стремительно отвел в тыл 16 отрядов, чтобы с фланга атаковать побеждающую уже польскую армию. Но этот маневр был вовремя распознан Ягелло и другими польскими командирами, выставившими усиленные заслоны против этой группировки противника.
К вечеру наступила предпоследняя кровавая фаза битвы, когда польские войска, по всей вероятности поддержанные также литовско-русскими отрядами, разгромили вспомогательные отряды Ордена, великий магистр Ульрих фон Юнгинген и главные сановники Ордена погибли. В этой фазе битвы капитулировали “знамена” Хелминской земли, позже тевтонские власти сочли это изменой своих подданных. Результат сражения был предрешен, но часть тевтонских конников вырвалась из окружения и укрылась в обозе между Стембарком и Грюнвальдом, намереваясь там под защитой конных повозок организовать оборону с использованием артиллерии и пехоты. Часть этих обращенных в бегство конников преследовала легкая татарская и литовско-русская конница. Попытка обороны тевтонского лагеря оказалась неудачной, пехотные отряды из армии Ягелло, то есть вооруженные крестьяне, пошли на штурм, завершившийся сокрушительным поражением тевтонских сил.
Битва закончилась вечером полным триумфом польской и литовской армий. В ней погибло 203 орденских брата вместе с командным составом и несколько тысяч воинов из тевтонских войск, более десяти тысяч было пленено, но большинство, прежде всего прусское рыцарство и горожан, Ягелло отпустил домой. В армии короля самые значительные потери понесли литовско-русские отряды, особенно в первой фазе сражения.
Причины этой необыкновенной победы Польши и Литвы сложны. Сегодня мы ищем их прежде всего в ошибках командования Ордена и командирских качествах Ягелло. Великий магистр был поставлен в тупик слишком быстрой концентрацией вооруженных сил противника. Кроме того, ему не хватило терпения дождаться, когда подоспеют подкрепления с Гданьского Поморья, что существенно ослабило боевую мощь войск Ордена.
На польско-Литовской стороне был не только численный перевес и превосходство боевого духа войск, но и настойчивая последовательность в выполнении боевых задач, направленных на окружение и уничтожение врага. Автором концепции сражения был Ягелло при непосредственном участии Витовта и польских командиров, причем их замысел предполагал ведение боя по средневековому образцу: борьбу польской и литовско-русской конницы с тевтонской с задачей оттеснить последнюю на запад и окружить, а затем истребить либо взять в плен. Особого внимания заслуживает применение тактики видимого отступления, дававшей возможность обеспечить необходимую передышку как для польских воинов, так и для их боевых коней. Тактическая мобильность позволяла в нужный момент перегруппировать войска, численно укрепить отряды на опасных участках.
Применение в первой фазе битвы легковооруженной литовско-татарской конницы и пресечение попытки врага применить артиллерию и пехотных стрелкой свидетельствуют о полководческом таланте главнокомандующего. Он не растерялся и не пал духом, когда началось беспорядочное отступление литовско-русского фланга, не отказался от осуществления поставленной задачи, потому что имел в своем распоряжении достаточные резервы как польских, так и литовско-русских конников. Это позволило устоять в наиболее критические моменты битвы, когда упало знамя с Белым орлом или когда пришлось отражать фланговую атаку 16 отрядов великого магистра. Концепция окружения значительной части неприятельской армия, а затем штурма орденского лагеря была осуществлена.
Без Ягелло не было бы такого Грюнвальда — так предполагают некоторые исследователи (с Кучинским во главе). Но ни в коей степени не отказывая польскому королю в его роли вождя, надо сказать, что осуществление его военного замысла было возможно только благодаря железной воле всей армии, как литовско-русской, так и польской, лишь в небольшой степени поддерживаемой наемными силезско-чешскими отрядами. Боевой вклад сначала литовско-русских бояр, а затем рыцарей из Малой Польши, Великой Польши и Червонной Руси, а в последней фазе битвы пеших воинов этих земель был необходимой гарантией конечной победы. Их мужество и стойкость в многочасовом сражении, то, что они не поддались настроениям отчаяния или паники в самой критической, послеполуденной фазе сражения, стали необходимым условием успеха их вождя, крупнейшего и беспримерного военного успеха Польского королевства и Литвы — победы над Тевтонским орденом.
Остается выяснить весьма существенный вопрос: каковы были последствия великой победы над Орденом для Польши и Литвы. Масштабы этой победы были неожиданными для самого польско-литовского командования — Ягелло и Витовта, а также их приближенных. Стало ясно, что реально осуществимы не только первоначальные цели борьбы (отпор экспансии Ордена против ягеллонской монархии, сохранение Литвой Жемайтии), но и вообще ликвидация самого тевтонского государства в Пруссии при условии получения поддержки и признания со стороны его подданных — прусских сословий. Другим последствием победы стало начало дипломатической и пропагандистской акции в Западной Европе, направленной против обвинения Польши тевтонскими властями в том, что она ведет вооруженную борьбу с духовной корпорацией, осуществляющей высокую миссию на благо христианства, что в этой борьбе она прибегает к помощи “язычников” во главе с “сарацинами”, то есть татарами или схизматическими противниками католической веры.
Обе эти цели с 16 июля начали реализовываться, причем главным стал вопрос овладения всем тевтонским государством, взятие его столицы Мальборка и привлечение на сторону Польши и Литвы прусских сословий. Осуществлению этой последней затеи (за исключением Восточной Пруссии с Кёнигсбергом) способствовали “послегрюнвальдский шок” и надежды сословий на хозяйственные и государственно-правовые уступки со стороны Ягелло. Более сложным оказалось взятке замка в Мальборке. Ягелло, в течение трех дней находившийся на поле боя или где-то поблизости, без промедления направил легковооруженные отряды, в том числе татар, к Мальборку, к которому они подошли самое позднее 22 июля. Но ворота замка были крепко заперты, светский командор Генрих фон Плауэн успел уже с 18 июля9) подготовиться к обороне.
25 июля подоспели главные силы армии Польши и Литвы с Ягелло и Витовтом, началась 7-недельная осада замка, которая, однако, оказалась безуспешной из-за отсутствия достаточного количества артиллерии и осадных машин. Плауэн, избранный великим магистром, не намеревался принимать новые требования Польши и Литвы: уступить не только Жемайтию и Добжинскую землю, но и Гданьское Поморье, Хелминскую землю и Повислье с Мальборком. Литва рассчитывала получить северо-восточные территории Пруссии (очевидно, на правом берегу Преголы с устьем Немана и Клайпедой), а Мазовия — ее южные районы, то есть Мазуры. Следовательно, Ордену оставалась лишь часть центральной Пруссии с Кёнигсбергом.
Плауэн ждал ответа на его призывы о вооруженной помощи, направляемые после 22 июля к Германской империи, а также Сигизмунду и Вацлаву Люксембургским. Он заявлял, что Ягелло с Витовтом заняли и разоряют Пруссию с помощью “сарацинов”, для которых хотят покорить прусское государство. Но реальную помощь Ордену оказала сначала тевтонская Ливония, которая в сентябре, угрожая польским и литовским селам в Пруссии, вынудила к отступлению войска Витовта и Ягелло из-под стен Мальборка. Позже Ягелло стал концентрировать свои силы на территории Куявии.
В октябре на Гданьское Поморье подошли вспомогательные отряды Ордена из Германии. Их удалось разбить в битве под Короновом (10 октября), которая, как и другие успехи местного значения, не смогла предотвратить возвращения Плауэном большинства прусских городов и земель. Кроме того, на территорию южной Польши в середине октября совершили из Словакии вооруженную диверсию войска Сигизмунда Люксембургского, что создало для Ягелло угрозу войны на два фронта. Поэтому в январе 1411 г. начались мирные переговоры с Плауэном. Они привели к заключению 1 февраля 1411 г. мирного договора в Торуни.
В договоре речь шла не о ликвидации господства Ордена или подчинении большинства поморско-прусских земель Польше и Литве, а о Жемайтии — основной цели польско-литовской борьбы до 15 июля 1410 года. Четвертый пункт договора констатировал, что как Ягелло, так и Витовт вправе пожизненно обладать Жемайтией, которая после их смерти должна беспрепятственно вернуться под власть Ордена. Остальные же замки, города и земли, взятые обеими сторонами, должны быть немедленно возвращены их прежним владельцам. Несмотря на компромиссный характер пункта, касающегося Жемайтии, все же она оставалась под властью Литвы, которая добровольно не согласилась бы отдать ее тевтонским властям.10) Поэтому можно сказать, что положения Торуньского договора 1411 г. в значительной степени реализовали первоначальные цели вооруженной польско-литовской кампании.
Можно ли считать, что договор 1411 г. был действительно “невыигранным миром” для Польши и Литвы, как утверждает большинство исследователей? Разумеется, нельзя, поскольку он давал, в конце концов, в значительной степени то, за что Польша и Литва боролись с осени 1409 г., то есть за освобождение Жемайтии и Добжинской земли, а также за предотвращение угрозы для Куявии и северной Мазовии. Осуществление этих целей было возможно только благодаря последствиям Грюнвальдской победы, которые явно повлияли на готовность Плауэна заключить соглашение с Польшей и Литвой.
Следовательно, договор 1411 г. документально закреплял факт отступления Ордена с его до сих пор нерушимой позиции на Балтийском море и приостановление его экспансии по отношению к землям Литвы и Польского королевства. Он открыл этап дальнейшей вооруженной борьбы Польши и Литвы с Орденом, продолжавшейся с 1414 до 1422 г., когда Литва окончательно добилась отказа Ордена от притязаний на Жемайтию и территории на Немане.
В середине XV в. Польша снискала себе нового союзника в прусских сословиях, которые в 1454 г. сдались Польше. В результате в Торуньском договоре 1466 г. была закреплена польская власть на нижней Висле (так называемая Королевская Пруссия), а остальные земли орденский Пруссии с Кенигсбергом перешли под косвенную, ленную власть Польши.
В этих полувековых переменах и противостояниях значительную роль играли результаты Великой войны и Грюнвальда, приведшие к экономическому и финансовому ослаблению Пруссии, вступившей в полосу внутреннего кризиса. Их итогом стало ослабление политической и военной мощи прусской ветви Ордена, обреченной с этих пор на помощь прусских сословий, что в свою очередь открыло путь к политической эмансипации и подорвало автократическую власть Ордена в результате основания в 1440 г. конфедерации прусских земель и городов (Прусского Союза). Это привело к подчинению прусских сословий Польше и ликвидации самостоятельности ордена в 1466 году.
В заключение добавим, что исследования Великой войны и венчающей ее Грюнвальдской битвы довольно живо ведутся в польской историографии, в Германии и других странах. Следует ожидать пересмотра ряда положений, касающихся как общих вопросов этой войны, так и хода самой битвы. Более того, расширяется изучение традиций Грюнвальда в историографии и историческом сознании Польши периода позднего средневековья, а также в старопольский период (XVI—XVII вв.). Эти исследования касаются также обновления традиций Грюнвальда как источника надежды и веры в условиях непрекращающегося влияния идеологии прусского государства Гогенцоллернов в XIX в;, идентифицирующегося с прошлым Ордена в Пруссии как экспансивного предшественника с антипольским лицом.
Определенную роль сыграли при этом польские произведения живописи (“Битва под Грюнвальдом” Я. Матейко) и художественной литературы (“Крестоносцы” Г. Сенкевича), которые приблизили к массам образ Грюнвальда, а с 1943 г. грюнвальдские традиции приобрели также международный характер (совместные действия славянского мира против гитлеровской Германии, причем взятие Берлина в 1945 г. отождествлялось с победой в 1410 г.), стали событием европейского масштаба, сыгравшим значительную роль и истории народов, живущих на Висле, Немане, Вилии, Двине и Днепре, и оказавшим существенное влияние на дальнейшее формирование их судеб.
--------------------------------------------------------------------------------
Бискуп Мариан — профессор истории университета в Торуни (Польша),
автор “Истории Ордена крестоносцев в Пруссии” и других книг.
--------------------------------------------------------------------------------
1) GÓRSKI K. Państwo krzyżacki w Prusaeh. Gdańsk – Bydgoszez 1946; ejsud. Lakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego. Wroctaw – Warzawa – Kraków – Gdańsk. 1977.
2) BISKUP M., LABUDA G. Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusah. Gdańsk. 1986.
3) KUCZYŃSKI S.M. Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411. Wyd.1. Warzawa.1955; wyd.5, Warzawa, 1987.
4) NOWAKOWSKI A. Uzbrojenie wojsk krzyżackih w Prusach w XIV w. i na poczatku XV w. Lódź. 1980.
5) EKDAHL S. Die “Banderia Prutenorum” des Jan Dlugosz. In: Eine Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410. Göttingen. 1976; ejsud. Die Schlacht bei Tannenberg 1410. T.1. Brl. 1982.
6) SPIERALSKI Z. Czy koniec sporów o Grunwald? — Zapiski Historyczne, t.39, z.2, 1971, s.91 i n.
7) KUCZYŃSKI S.M. Op. cit. Warzawa. 1960, s.160 in.
8) EKDAHL S. Die Flucht der Litauer in der Schlacht bei Tannenberg. — Zeitschrift für Ostforschung, t.12, 1963, S. 11 in.
9) BISKUP M. Echa bitwy grunwaldzkiej i obleżęnia Malborka w niemeckiej galezi Zakonu Krzyżackiego w lecie 1410 roku — Kommunikaty Mazursko-Warmińskie, 1984, nr. 1, s. 455-460.
10) KUCZYŃSKI S.M. Op.cit., s. 479 in.
http://annals.xlegio.../biskup.rar.htm
http://folkvald.livejournal.com/
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
#14

 Опубликовано 13 Февраль 2010 - 15:13
Опубликовано 13 Февраль 2010 - 15:13

Флоря Б.Н. Грюнвальдская битва
В 1189—1190 гг. во время третьего крестового похода был основан Тевтонский орден, одна из организаций рыцарей, которые должны были защищать владения крестоносцев в Палестине. Его название свидетельствует о том, что он был создан из рыцарей немецкого происхождения. Не получая притока новых сил из Европы, Орден в конце XII — начале XIII в. влачил жалкое существование. В 20-е годы XIII в. польские князья пригласили для защиты своих владений от набегов язычников-пруссов рыцарей этого Ордена. Так было положено начало созданию в Европе новой военной державы — Орденского государства в Пруссии. Оно «прославилось» особо жестокой, организованной «по-военному» эксплуатацией закрепощенного населения, а его существование зиждилось на политике постоянной агрессии по отношению к соседним странам и народам. Людские ресурсы для пополнения администрации и армии давали Орденскому государству обедневшие слои немецкого рыцарства, искавшие в его рядах возможности для возвышения и обогащения. Орден как защитник веры и борец с язычниками опирался на поддержку всей католической Европы, начиная с ее высших институтов — Священной Римской империи германской нации и папства, санкционировавших захваты крестоносцев, и кончая рыцарством почти всех европейских стран.
При поддержке этих сил Орден, завершивший в 80-е годы XIII в. покорение пруссов и превратившийся в сильную военную державу, стал все чаще обращать острие своей экспансии против соседних стран и народов. Хронист Ордена Петр Дюсбург записал под 1283 г.: «Закончилась война с пруссами. Началась война с литовцами».1) Плацдармом для агрессии стали замки, поставленные крестоносцами в устье Немана и в заливе, куда эта река впадала. Поначалу речь шла об ослаблении Литвы непрерывными опустошительными походами (ставшими со времени покорения пруссов главным методом внешней политики Ордена). Однако планы Ордена распространялись не только на земли «язычников» — литовцев, но и на земли «схизматиков» (православных) — белорусские и украинские, оказавшиеся с конца XIII — начала XIV в. под властью великих князей литовских. Жалованной грамотой, выданной Ордену в декабре 1337 г., император Людовик Баварский отдавал тевтонским рыцарям не только «Литву», но и «Русь».2) Еще прежде, чем эти планы стали претворяться в жизнь, крестоносцы напали на католическую Польшу. Захватив Гданьское Поморье, они отрезали Польское государство от Балтики, и на западе их владения сомкнулись с Бранденбургом, через земли которого к ним приходили все новые отряды немецкого рыцарства.
Агрессия тевтонских рыцарей с характерной для нее войной на уничтожение встречалa закономерный, все нарастающий отпор соседних народов. 40 лет сопротивлялись натиску Ордена пруссы. Ожесточенный отпор литовцев и белорусов встретили попытки тевтонских рыцарей укрепиться в нижнем течении Немана.3) Взялись за оружие поляки, которые в битве под Пловцами (1331 г.) нанесли серьезный удар войску крестоносцев. Но силы противников Ордена были разобщены. Польское рыцарство не желало тогда иметь ничего общего с литовцами-язычниками. Литовское боярство оспаривало у польских феодалов подчиненные ими земли Галицкой Руси и стремилось распространить свое влияние на Северо-Восточную Русь, что вело к конфликтам между [106] Великим княжеством Литовским и русскими княжествами, прежде всего Московским. В этих условиях Орден продолжал укреплять свои позиции. По миру, заключенному в 1343 г. в Калише, Польша оказалась вынужденной признать захват Поморья крестоносцами. Резко усилился их натиск на Великое княжество Литовское. Во второй половине XIV в. объектом больших походов Тевтонского ордена неоднократно становились уже не только пограничные литовские и белорусские области, но и главные центры Литовского государства — Вильнюс и Троки.4) Основные усилия крестоносцы направляли тогда на подчинение Жемайтии. Захват этой литовской земли позволил бы им не только полностью отрезать Литву от моря, но и сомкнуть в единое целое владения Тевтонского ордена с владениями другого, признававшего верховную власть великого магистра, однако сохранявшего определенную автономию государства крестоносцев в Прибалтике, — Ливонского ордена, который, покорив латышей и эстов, угрожал Литве и землям Северо-Западной Руси. Используя внутренние конфликты в Великом княжестве Литовском, которые властями Ордена всячески разжигались, в начале 80-х годов XIV в. Орден сделал серьезные шаги, чтобы укрепиться в Жемайтии. Опасность для исторических судеб поляков, литовцев, восточнославянских народов резко возросла.
В этом драматическом положении был сделан первый важный шаг к объединению сил противников Ордена. В 1385 г. польским королем был избран литовский великий князь Ягайло, принявший христианство вместе со своими литовским подданными.5) Несомненно, предпринимая такую акцию, польские политики думали о совместном выступлении Польши и Великого княжества Литовского против Ордена. Ягайло (в крещении Владислав), вступая на польский трон, принял на себя обязательство вернуть Польскому королевству земли, захваченные крестоносцами.6) Однако до совместного выступления обоих государств против Ордена прошло еще почти четверть века. Одной из причин несогласованности действий были столкновения между польскими и литовскими феодалами по вопросу о формах будущего объединения. Обострению этих столкновений всячески способствовал Орден. Лишь к середине 90-х годов XIV в., когда фактическим правителем Великого княжества Литовского под верховной властью Ягайло стал его двоюродный брат Витовт, спор был улажен.
Существовали и иные причины задержки. В правящих кругах Польши и Великого княжества Литовского сталкивались разные внешнеполитические концепции. Польских феодалов и литовское боярство манили планы расширения своих границ на Востоке за счет русских земель. Отсюда — дилемма, характерная для предгрюнвальдской политики обоих государств: либо политика экспансии на Востоке, что предполагало соглашение с Орденом и уступку его требованиям; либо решительная борьба с Орденом, что означало мир и политическое сближение с русскими княжествами. Колебаниями воспользовался Орден, и на первых порах не без успеха. Одной из вех на этом пути стал польский договор с Орденом, подписанный в мае 1404 г. в Рацёнже. Ордену отдавалась Жемайтия, признавалось «право» ливонских рыцарей на Псков, взамен же Орден охотно обещал свою поддержку Ягайле и Витовту в завоевании русских земель7) и такую помощь действительно послал. Каковы же были результаты соглашений? На Востоке, столкнувшись с объединенными силам русских княжеств, в войне, продолжавшейся более трех лет, Витовт и Ягайло не добились существенных успехов. Подобная политика вызвала лишь политический кризис в их собственных владениях: в 1408 г. отъехал в Москву родной брат Ягайлы Свидригайло вместе с рядом русских князей, а с ним «бояре черниговъскые и дебрянские, и любутьскые, и рославские».8) А тем временем Орден укреплял позиции в Жемайтии, устанавливая там свою администрацию и закладывая новые замки. [107]
В этих условиях борьба взглядов в польско-литовских правящих кругах привела к победе политического реализма. С русскими был заключен мир, а весной 1409 г. началось восстание в Жемайтии при прямой поддержке из Вильнюса. В начавшейся войне Польша и Литва совместно двинули свои войска против Ордена. Жемайтию Орден, захваченный врасплох, удержать не смог. Но и союзники еще не были готовы к большой войне. Осенью военные действия были прерваны перемирием, срок которого истекал в июне 1410 года. За это время стороны должны были подготовиться к решающему столкновению. С поражением союзников Орден связывал далеко идущие цели; так, в договоре о союзе с венгерским королем Сигизмундом Люксембургским он специально оговаривал свое право на захват Литвы, Жемайтии, части польских земель.9) Однако в Мариенбурге (Мальборк), Данциге (Гданьск) и Кенигсберге (ныне Калининград) понимали, что добиться этой цели будет нелегко: Ордену впервые открыто противостояли объединенные силы его противников.
Крестоносцы рассчитывали на содействие Сигизмунда Люксембургского. Но, занятый борьбой с османами и Венецией, тот не мог немедленно начать военные действия. Поэтому гораздо больше они надеялись на помощь ливонских рыцарей. Великий магистр потребовал от ландмейстера Ливонского ордена, чтобы тот по окончании перемирия объявил Витовту войну и нападением на Литву отвлек на себя литовские силы. Ответ же оказался неожиданным. Ландмейстер в мае извещал, что готов объявить войну, но согласно ранним соглашениям может начать военные действия лишь через три месяца после разрыва отношений. Так как срок перемирия между Тевтонским орденом и его противниками истекал в июне, такой ответ фактически означал отказ. Великий магистр, получивший ответ за девять дней до начала войны, пришел в ярость и потребовал от Ливонского ордена вернуть данные ему взаймы деньги и пушки.10) Современный польский исследователь С. М. Кучиньский11) считает, что главная причина создавшейся ситуации заключалась в том, что после мира 1408 г. началось сближение Польши и Великого княжества Литовского с русскими землями — Великим княжеством Московским, Новгородом и Псковом. В грядущей войне эти земли по существу приняли сторону, враждебную Тевтонскому ордену, и ливонские рыцари в этих условиях решили не вмешиваться в события.
Теперь Ордену оставалось рассчитывать лишь на искусство своих военачальников. Но в начале военной кампании оно оказалось явно не на высоте. В возобновившихся летом 1410 г. военных действиях инициатива с самого начала принадлежала польско-литовской стороне. Несмотря на усилия орденских властей, им не удалось проникнуть в военные планы противника. Предпринятые в июне с разных направлений нападения войск, как Польского королевства, так и Великого княжества Литовского дезориентировали военное командование Ордена, вынужденного воздерживаться от активных действий. В этих условиях Витовту и Ягайле удалось успешно достичь той цели, которую они ставили перед собой на первом этапе кампании: 2 июля на Висле, севернее Варшавы, в районе Червиньска беспрепятственно соединились армии обоих государств. 6 июля они перешли прусскую границу, и война развернулась на землях Ордена.
Польско-литовское войско двинулось в глубь вражеской территории, в сторону Мальборка, столицы Ордена.12) Войска союзников «все шли плохими лесными дорогами [108] и не могли найти ровного и широкого поля, где бы можно было остановиться и дать бой, и были большие и ровные поля около немецкого города Дубровна».13) Именно на север от этого города, взятого союзниками на пути к Мальборку, войску великого магистра Ордена Ульриха фон Юнгингена преградило путь польско-литовским силам. По крайней мере на день раньше армия крестоносцев стала на поле, к которому продвигались отряды его противника.
Какими же силами располагали перед решающей битвой обе армии? Точными данными для ответа на этот вопрос мы не располагаем.14) Одно не подлежит сомнению: Орден собрал все свои силы и широко раскрыл казну для вербовки наемников. Лишь в одной из счетных книг Ордена записаны выплаты жалованья для 5750 человек, нанятых на орденскую службу перед битвой при Грюнвальде.15) Но, кроме наемников, благодаря призывам Ордена в Пруссию прибыли большие отряды «гостей» — рыцарей, снарядившихся за свой счет, явившихся сюда в поисках добычи и рыцарских лавров, завоеванных в борьбе с язычниками. В составе армии крестоносцев были отряды рыцарей не только из Мейссена, Вестфалии и рейнских земель, но даже из Швейцарии, «пришедшие на помощь магистру прусскому и Ордену собственным иждивением».16) Составитель Хроники Быховца был не так далек от истины, написав, что магистр выступил на войну «со всей Германской империей».17) Но главное, Орден постарался выжать максимум сил из собственных подданных: там, где сохранились данные, видно, что отдельные прусские города выставили контингенты по размеру в несколько раз большие, чем во время других военных кампаний.18) Для решающей битвы, писал современник, великий магистр собрал все силы, «оставив всю землю и все зáмки» без военачальников и гарнизонов.19)
Точный в подсчетах французский хронист Жильбер де Ланнуа отметил, что уже после Грюнвальда ослабленный Орден выставил в 1413 г. для войны с поляками и литовцами 21 тыс. всадников и множество пехоты. В 1410 г. армия Ордена должна была значительно превышать эти цифры. Учитывая сказанное, с доверием можно отнестись к сведениям документов, которые рассказывали о заупокойных службах по убитым со стороны Ордена: в них упоминалась цифра 18 тысяч.20) [109]
Польша и Великое княжество Литовское также собрали к месту битвы свои основные силы. Из перечня отрядов (хоругвей) в составе войска союзников видно, что и Ягайло и Витовт привели с собой войска не только с расположенных сравнительно близко от Ордена польских, белорусских и литовских, а также русских (Смоленщина) территорий, но и с украинских земель: в польском войске были хоругви Галицкой земли, Холмщины, Подолии, в литовском — Киевская, Кременецкая, Стародубская.21) Поскольку по размерам территории и числу жителей Польское королевство и Великое княжество Литовское значительно превосходили Орден, из этого иногда делался вывод о большом численном превосходстве войск союзников. Ряд обстоятельств говорит, однако, против этого предположения. Во-первых, союзники не располагали той огромной внешней поддержкой, которой пользовался Орден. В составе польского войска были, правда, наемные отряды и добровольцы, но все они (и добровольцы и наемники) пришли из Силезии, польской земли, входившей в то время в состав Чешского королевства, а также из самой Чехии, которая была, таким образом, единственной страной католической Европы, оказавшей помощь противникам Ордена.22) Вступая в ряды польского войска, чехи и силезцы действовали вопреки желанию чешского короля Вацлава IV, который, стремясь сохранить за собой трон Священной Римской империи, в начавшейся войне явно поддерживал крестоносцев.
Хронисты Ордена и находившиеся под их влиянием хронисты западноевропейских стран писали об огромном войске татар, участвовавших в войне на польско-литовской стороне во главе с самим «татарским императором».23) В действительности речь могла идти лишь о небольшом отряде Джелал ад-Дина, сына Тохтамыша, который нашел в то время приют у Витовта, потерпев поражение в борьбе с Едигеем.24) Союзники получили также помощь от молдавского господаря, но это был небольшой отряд, насчитывавший 800 человек.25) Существенно и другое: если Орден смог собрать все свои силы под Грюнвальдом, не опасаясь нападения с другой стороны, то союзники не могли себе этого позволить. Длугош прямо свидетельствует о том, что часть польских войск осталась на южной границе для защиты от нападения союзника крестоносцев Сигизмунда Люксембургского.26) Немалая часть войск Великого княжества Литовского продолжала охранять границы с Ливонским орденом и Золотой Ордой.
Таким образом, хотя союзники и располагали, судя по всему, численным перевесом,27) он не мог быть подавляющим и в битве на открытом поле компенсировался преимуществами тяжеловооруженной рыцарской конницы, тогда как войска из украинских земель Польши и Великого княжества Литовского располагали более легким вооружением. Несомненно одно: в сражении с обеих сторон участвовали десятки тысяч человек. Следовательно, битва при Грюнвальде была одним из крупнейших сражений эпохи средневековья.
Разным был и моральный дух сторон. Прибывшие с войском Ордена наемники и «гости» стремились к захвату добычи, а прусские города и рыцари тяготились деспотической властью Ордена и не испытывали горячего желания сражаться за его интересы. В другом же лагере — поляков, литовцев, белорусов, украинцев и воинов русской Смоленщины объединяло желание дать отпор агрессору, давно и жестоко разорявшему их земли, не скрывавшему планов расчленения и порабощения соседних государств и народов. И это не могло не повлиять на исход развернувшейся битвы. [110]
Утром 15 июля войска крестоносцев, выстроившись в боевой порядок, стали на поле между поселениями Танненберг и Грюнвальд. Между тем войска союзников (на правом крыле стояло войско Польского королевства, на левом — Великого княжества Литовского) не торопились начинать битву, не выдвигаясь пока вперед из окружавших долину лесов. В этот момент к Ягайле и Витовту явились герольды от великого магистра с необычным заявлением, которое именно поэтому отмечено во всех главных источниках о битве.28) «Светлейший король! Великий магистр Пруссии Ульрих шлет тебе и твоему брату два меча, как поощрение к предстоящей битве, чтобы ты с ними и со своим войском незамедлительно и с большей отвагой, чем ты выказываешь, вступил в бой и не таился дольше, затягивая сражение и отсиживаясь среди лесов и рощ. Если же ты считаешь поле тесным и узким для развертывания твоего строя, то магистр Пруссии Ульрих... готов отступить сколько ты хочешь от ровного поля, занятого его войском».29) И вслед за появлением герольдов войска крестоносцев действительно отошли назад. По правилам войны, принятым в то время, это был вызов, граничащий с оскорблением, за которым должно было по логике событий последовать немедленное выступление союзных войск против армии крестоносцев.
Так и произошло. По согласному свидетельству источников,30) первыми начали сражение войска Великого княжества Литовского. Им и пришлось узнать, что скрывалось за «рыцарским» вызовом магистра. Еще в XVI в. составителю Хроники Быховца рассказали, что на будущем поле битвы крестоносцы «накопали ям и прикрыли их землею, чтобы в них падали люди и кони». В эти ямы и попала двинувшаяся в атаку литовская конница. Здесь погиб один из военачальников, имевший земли в Подолии, князь Иван Жедевид, «и еще многим людям от тех ям большой вред был».31) Таким образом, уже в первой фазе битвы крестоносцы с помощью вероломства нанесли существенный вред левому крылу союзников. Это сказалось на дальнейшем ходе сражения. Против литовского войска устремились отряды «гостей», желавших встретиться с «язычниками»,32) а войска, собранные в Пруссии, начали бой с хоругвями польского войска, ударив на них, по сообщению Длугоша, «с более высокого места». «Когда же ряды сошлись, то поднялся такой шум и грохот от ломающихся копий и ударов о доспехи, как будто рушилось какое-то огромное строение... Нога наступала на ногу, доспехи ударялись о доспехи и острия копий направлялись в лица врагов... Наконец, когда копья были переломаны, ряды той и другой стороны и доспехи с доспехами настолько сомкнулись, что издавали под ударами мечей и секир, насаженных на древки, страшный грохот, какой производят молоты о наковальни, и люди бились, давимые конями».33)
В течение часа ни одна из сторон не могла добиться успеха. Затем под натиском крестоносцев, к которым подошли свежие силы, левое крыло союзников стало «отступать и наконец обратилось в бегство... Враги рубили и забирали в плен бегущих, преследуя их на расстоянии многих миль... Бегущих же охватил такой страх, что большинство их прекратило бегство, только достигнув Литвы».34) Несмотря на определенность и категоричность суждений Длугоша, эта часть его рассказа давно вызывала сомнение, т. к. находилась в противоречии с данными других источников. Отсюда — длительный спор о характере действий левого крыла армии союзников в Грюнвальдской битве.35) Лишь сравнительно недавно был обнаружен важный источник, окончательно подтвердивший правоту критиков Длугоша. Уже после Грюнвальда один из начальников Ордена предупреждал магистра, что в новом сражении [111] противники могут умышленно вызвать бегство нескольких отрядов, чтобы привести к разрыву боевых порядков тяжелой конницы так же, как это произошло в «великой битве».36) Значение этого свидетельства состоит прежде всего в том, что оно подтверждает «с противной стороны» то описание действий литовцев, которое дал неизвестный поляк, автор «Cronica conflictus». Ведь он пишет, что, когда литовцы стали отступать, отряды крестоносцев, «полагая, что они уже одержали победу, рассеялись [удалившись] от своих знамен, нарушив порядок своих отрядов».
Нарушив боевой строй, дававший ей силу удара, тяжелая рыцарская конница сошла с поля в болотисто-пересеченную местность, где все преимущества были на стороне привыкших действовать в таких условиях литовцев и белорусов. «Затем, — продолжает «Cronica conflictus», — когда они захотели вернуться к своим людям и знаменам, окруженные людьми короля (так хронист называет все войска, подчиненные верховной власти Ягайло. — Б. Ф.), они были взяты в плен или погибли, сраженные мечом».37) Лишь некоторым из этих отрядов удалось вернуться назад. Искусный маневр был вынужденным и, конечно, рискованным, а предпринят он был уже после того, как, по выражению «Cronica conflictus», были «убиты многие и с той и с другой стороны» и какая-то часть литовского войска могла действительно обратиться в бегство. Но главные силы левого крыла остались на поле битвы и сумели нанести ощутимый урон крестоносцам.
В своем рассказе Длугош противопоставил поведение литовского войска действиям трех смоленских полков, которые в отличие от других отрядов не отступили, продолжая сражение с крестоносцами. «Хотя под одним знаменем они были жестоко изрублены и знамя их втоптано в землю, однако в двух остальных отрядах они вышли победителями, сражаясь с величайшей храбростью, как подобало мужам и рыцарям, и, наконец, соединились с польскими войсками».38) Почему они не отошли вместе со всем войском Великого князя Литовского? Прямых сведений нет, ответ же подсказывается общим пополнением на поле битвы: отход литовских войск, хотя и приносивший определенные выгоды, вместе с тем был чреват серьезной опасностью. Преследуя отступавших, конница крестоносцев могла зайти в тыл войскам правого крыла. Именно эту опасность предотвратили, «соединившись с польским войском», смоленские полки. В тяжелый для армии союзников момент «примыкавшие к польскому войску справа смоленские полки прочно занимали отведенное им место и, несмотря на тяжелые потери, обеспечили защиту польских полков от флангового удара рыцарей».39) Это имело большое значение для общего исхода сражения.
Тем временем бой на правом крыле разгорался со все большей силой. Здесь с крестоносцами сражались войска Польского королевства. Главным объектом атаки крестоносцев стала большая хоругвь Краковской земли, над которой поднималось знамя с главной эмблемой государства — белым орлом. Крестоносцы, по-видимому, считали, что под этим знаменем сражается сам польский король, и его захват решит исход сражения.40) Наступил момент, когда под вражеским натиском знамя упало на землю. У знамени завязалась отчаянная схватка: «Отборный отряд храбрейших рыцарей встал около него грудью, защищая его своими телами и оружием», и враг был отброшен.41) По-видимому, положение восстановила часть брошенных в бой резервов, под натиском которых войска Ордена начали медленно отходить.42)
Это не осталось незамеченным в лагере крестоносцев, и великий магистр, придя к заключению, что уже все силы союзников вступили в бой, решил нанести решающий удар. В его распоряжении был еще значительный резерв (16 хоругвей, почти треть армии крестоносцев), который массированной атакой должен был решить исход битвы. Убежденный, что силы противника исчерпаны, магистр с главными сановниками Ордена встал во главе идущих в бой рыцарей. Бой продолжался [112] уже шесть часов, наступал переломный момент сражения. Атака крестоносцев была снова направлена на то место, где, по мнению крестоносцев, находился король. Но в этот самый момент Ягайло и Витовт ввели в бой свои резервы: поляки с одной стороны и литовцы — с другой ударили на войско магистра. Столкнулись мчащиеся навстречу друг другу потоки конницы. И в этой решающей схватке отборные силы Ордена, «окруженные отовсюду, были повержены и раздавлены, почти все воины, сражавшиеся под шестнадцатью знаменами, были перебиты или взяты в плен». Погибли магистр и ряд других сановников Ордена. Войска крестоносцев стали отходить с поля битвы. Увидев перемену военного счастья, начали складывать оружие отряды «гостей». Перешла целиком на польскую сторону во главе со своим хорунжим хоругвь захваченной крестоносцами польской Хелминской земли. Часть Орденского войска обратилась в паническое бегство.43)
В дальнейшем ходе битвы рыцарская конница уже не участвовала. Однако из рассказа Длугоша можно заключить, что само сражение на этом не закончилось. Большая часть воинов Ордена, бежавших с поля боя, «искала защиты в прусском обозе при стане». Там была предпринята серьезная попытка организовать сопротивление, что следует из слов хрониста «они были перебиты» (т. е. встретили врага с оружием в руках).44) Скупость сведений хронистов об эпилоге битвы удачно объяснил польский историк С. Инглот.45) На штурм лагеря двинулась пехота, состоявшая из людей «подлого звания»,46) не знавших рыцарских правил и стремившихся лишь к одному — уничтожить врага. Если рыцари, преследовавшие вражеских рыцарей, по приказу Ягайлы «избегали резни» и, не пуская в ход оружие, привели пленных «невредимыми, без насилья и увечья»,47) то в лагере картина была иная. «Все находившиеся в нем погибли от меча». «На этом месте, — указывается в источнике, — было видно больше трупов, чем [убитых] во всей битве».48) Так сломленное в конной битве войско Ордена было уничтожено вооруженными польскими, литовскими, белорусскими, украинскими и русскими крестьянами. В лагере победители обнаружили возы с цепями, которыми крестоносцы рассчитывали заковать пленных.49)
Армия Ордена практически перестала существовать: большая ее часть была уничтожена, значительное число воинов попало в плен. Победителям достались обоз, артиллерия, боевые знамена крестоносцев (51 захваченное знамя было доставлено в Краков, остальные отправлены в Вильнюс).50) В битве погибли или попали в плен не только почти все главные чины Ордена, но и наместники округов — комтуры (кроме одного, не участвовавшего в битве). Поражение было сокрушительным. От нанесенного удара Орден так и не смог оправиться, несмотря на то, что политики Польши и Великого княжества Литовского не сумели в полной мере воспользоваться плодами победы. В последующих столкновениях с соседями вплоть до 1525 г., года ликвидации Ордена, он боролся лишь за сохранение своих позиций. Угроза агрессии со стороны немецких феодалов по отношению к полякам, литовцам, восточным славянам была надолго устранена.
В историческую традицию этих народов битва под Грюнвальдом, происходившая 575 лет тому назад, вошла не только как символ мужества и героизма в борьбе за родную землю против иноземных захватчиков, но и как свидетельство того, что, когда народы объединяются, чтобы общими силами дать отпор агрессору, отстоять свою свободу и независимость, они добиваются победы.
1) Chronicon terrae Prussiae von Peter von Dilsburg. In: Scriptores rerum Prussicanum (SRP). T. I. Leipzig. 1861, S. 146.
2) Preussisches Urkundenbuch. Bd. III, Tl. 1. Königsberg. 1944. S. 101.
3) Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. М. 1959, с. 416 сл.
4) Łowmiański Н. Agresja Zakonu krzyżackiego па Litwę w wiekach XII-XV. — Przegląd historyczny, 1954, № 2-3, s. 357 n.
5) Данный шаг не повлиял на политику Ордена, продолжавшего перед лицом всей Европы именовать литовцев «язычниками» и устраивать на Литву новые крестовые походы, к участию в которых широко призывалось рыцарство католической Европы.
6) Akta unii Polski z Litwą. Kraków. 1932. № I, s. 2.
7) Коlankowski L. Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów. T. I. Warszawa. 1930, s. 83.
8) ПСРЛ. T. 25. М.-Л. 1949, c. 237.
9) Nowak Z. Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411. Toruń. 1964. s. 98-100.
10) Prochaska A. Dzieje Witolda wielkiego księcia Litwy. Wilno. 1914, s. 124-125.
11) Kuczyński S. M. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409—1411. Warszawa. 1980. s. 331-332.
12) О первой фазе войны подробнее см.: Kuczyński S. М. Ор. cit., s. 334-368. В архиве Ордена сохранилось много документов о войне 1409—1411 годов. Большая часть из них опубликована в издании: Codex epistolaris Vitoldi. Cracoviae. 1882. Обзор и частичная публикация не вошедших в это издание материалов см.: Biskup М. Z badań nad «Wielka wojną» z Zakonem Krzyżckim. — Kwartalnik historyczny, 1959, № 3. О самой битве эти документы сведений не содержат. Ее описания сохранились лишь в хрониках. Из источников, отражающих точку зрения Ордена, следует отметить составленное неизвестным лицом продолжение «Хроники» Иоанна Посильге, официала помезанского епископа. Записи здесь близки по времени событиям, которые поданы с точки зрения стороны, враждебной польско-литовской: войска Великого княжества Литовского для него — войска язычников. У других хронистов, писавших на территории Пруссии, сохранились краткие записи о войне и битве (все соответствующие тексты собраны в издании: SRP. Т. III. Leipzig. 1866). С польско-литовской стороны наиболее ранним и достоверным источником является т. н. Cronica conflictus Wladislai regis Poloniae cum crueiferis. Anno Christi, 1410. Poznań. 1911 (издание с факсимильным воспроизведением оригинала). К сожалению, это описание войны, составленное по следам событий в канцелярии короля, дошло до нас в сильном сокращении, сделанном неизвестным клириком, использовавшим его как материал для проповеди в годовщину победы при Грюнвальде. Полным текстом «Cronica conflictus» располагал и широко использовал его в своей «Хронике» работавший во второй половине XV в. Ян Длугош. Однако текст этого источника он использовал не механически, а перерабатывал под влиянием сообщений своего покровителя, краковского епископа Збнгнева Олесницкого, относившегося с большой неприязнью к литовцам и православным. Отсюда — выступающая в его повествовании тенденция приписать основную заслугу в победе под Грюнвальдом польскому войску (описание войны и битвы помещено в начале книги XII «Хроники»: Joannis Dlugossii seu Longini canonici Cracoviensi opera omnia. T. XIII. Cracoviae. 1877). Современный русский перевод: Длугош Я. Грюнвальдская битва. М.-Л. 1962 {см. здесь}. Противоположная тенденция может быть отмечена в рассказе «Хроники Быховца», где отразились предания о битве, бытовавшие в среде аристократии Великого княжества Литовского в XVI веке. Наряду с недостоверными этот рассказ содержит ряд важных и точных сведений, отсутствующих в других источниках (см. Kuczyński, S. М. Inormacje tzw. latopisu Byshowca o «Wielkiej wojnie» lat 1409—1411. In: Studia z dziejór Europy Wschodniej X—XVII w. Warszawa. 1965). Ср. также: ПСРЛ. Т. 32. М. 1975; русск. пер.: Хроника Быховца. М. 1966 {см. здесь}.
13) Хроника Быховца, с. 78.
14) Kuczyński S. М. Spór о Grünwald. Warszawa. 1968, s. 86.
15) Екdahl S. Kilka uwag o księdze żołdu Zakonu krzyżackiego z okresu „Welikiej wojny” 1410—1411. —Zapiski histeryczne, 1968, № 3.
16) Длугош Я., ук. соч., с. 93-95.
17) Kuczyński S. М. Spór о Grünwald. Warszawa. 1968, s. 86.
18) Kuczyński S. М. Spór о Grünwald, s. 86.
19) SRP. Т. III, S. 314-315.
20) Jahrbücher Johannes Lindenblatts oder Chronik Johannes von der Posilie, Officials zu Riesenburg. Königsberg. 1823, S. 257-258.
21) Длугош Я. Ук. соч., с. 89. Cronica conflictus также упоминает при описании боя «хоругвь Галицкой земли» (s. 27).
22) Длугош Я. Ук. соч., с. 88-90. В составе одного из таких отрядов гетмана Яна Сокола принял участие в Грюнвальдской битве Ян Жижка (там же, с. 134).
23) SRP. Т. III, S. 7, 314-315, 405-407, 413, 453-455.
24) Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая орда и ее падение. М.-Л. 1950, С. 398-400.
25) Codex epistolaris Vitoldi, App. XXXVII, р. 1064.
26) Длугош Я. Ук. соч., с. 63.
27) «Прусское войско как рыцарской силой, так и числом знамен уступало польскому (там же, с. 90).
28) SRP. Т. III, S. 310; Cronica conflictus, s. 22.
29) Длугош Я. ук. соч., С. 98-99.
30) Там же, с. 101.
31) Хроника Быховца, с. 79; из сообщений Длугоша можно заключить, что в такие ямы крестоносцы ставили колья и покрывали их соломой (Dlugоssii J. Opera omnia. T. XIII, s. 295, 304).
32) Cronica conflictus, s. 25.
33) Длугош Я. Ук. соч., с. 101.
34) Там же, с. 102.
35) Обзор дискуссии: Kuczyński S. М. Taktyka walki skrzydła litewsko-ruskiego w bitwie pod Grünwaldem. In: Studia i materiały do historii wojskowości. Т. X, cz. II. Warszawa. 1964.
36) Еkdahl S. Die Flucht der Litauer in der Schlacht bei Tannenberg. — Zeitschrift für Ostforschung, 1963. Hf. 1, S. 16-17.
37) Cronica conflictus, s. 26.
38) Длугош Я. Ук. соч., с. 102.
39) Караев Г. Н., Королюк В. Д. К 550-летию Грюнвальдской битвы. — Вопросы истории, 1960, № 7, с. 98.
40) Длугош Я. Ук. соч., с. 88: Kuczyński S. М. Wielka wojna, s. 401.
41) SRP. Т. III. S. 316: Длугош Я. Ук. соч., с. 104.
42) Kuczyński S. М. Wielka wojna. s. 402-403.
43) Об этом решающем моменте сражения см.: Длугош Я. Ук. соч., с 104-107; Cronica conflictus. s. 27-28. Об участии литовцев в атаке на войско магистра говорят продолжатель хроники Посильге (SRP. Т. III, S. 316).
44) Длугош Я. Ук. соч., с. 108. В Cronica conflictus (s. 28) еще более определенно указано, что укрывшиеся в лагере пробовали создать вокруг себя защиту из возов.
45) Inglot S. Udział chłopów w obronie Polski. Łódż. 1946, s. 21.
46) О людях «неблагородного звания», или просто крестьянах, в составе польского войска имеются прямые свидетельства документов из архива Ордена (Biskup М. Ор. cit., s. 686, 699, 703-704, 709).
47) Длугош Я. Ук. соч., с. 109.
48) Cronica conflictus. s. 28.
49) Длугош Я. Ук. соч., с. 108.
50) Там же, с. 157; Długosz J. Banderia Prutenorum. Warszawa. 1958; Хроника Быховца, с. 80.
В 1189—1190 гг. во время третьего крестового похода был основан Тевтонский орден, одна из организаций рыцарей, которые должны были защищать владения крестоносцев в Палестине. Его название свидетельствует о том, что он был создан из рыцарей немецкого происхождения. Не получая притока новых сил из Европы, Орден в конце XII — начале XIII в. влачил жалкое существование. В 20-е годы XIII в. польские князья пригласили для защиты своих владений от набегов язычников-пруссов рыцарей этого Ордена. Так было положено начало созданию в Европе новой военной державы — Орденского государства в Пруссии. Оно «прославилось» особо жестокой, организованной «по-военному» эксплуатацией закрепощенного населения, а его существование зиждилось на политике постоянной агрессии по отношению к соседним странам и народам. Людские ресурсы для пополнения администрации и армии давали Орденскому государству обедневшие слои немецкого рыцарства, искавшие в его рядах возможности для возвышения и обогащения. Орден как защитник веры и борец с язычниками опирался на поддержку всей католической Европы, начиная с ее высших институтов — Священной Римской империи германской нации и папства, санкционировавших захваты крестоносцев, и кончая рыцарством почти всех европейских стран.
При поддержке этих сил Орден, завершивший в 80-е годы XIII в. покорение пруссов и превратившийся в сильную военную державу, стал все чаще обращать острие своей экспансии против соседних стран и народов. Хронист Ордена Петр Дюсбург записал под 1283 г.: «Закончилась война с пруссами. Началась война с литовцами».1) Плацдармом для агрессии стали замки, поставленные крестоносцами в устье Немана и в заливе, куда эта река впадала. Поначалу речь шла об ослаблении Литвы непрерывными опустошительными походами (ставшими со времени покорения пруссов главным методом внешней политики Ордена). Однако планы Ордена распространялись не только на земли «язычников» — литовцев, но и на земли «схизматиков» (православных) — белорусские и украинские, оказавшиеся с конца XIII — начала XIV в. под властью великих князей литовских. Жалованной грамотой, выданной Ордену в декабре 1337 г., император Людовик Баварский отдавал тевтонским рыцарям не только «Литву», но и «Русь».2) Еще прежде, чем эти планы стали претворяться в жизнь, крестоносцы напали на католическую Польшу. Захватив Гданьское Поморье, они отрезали Польское государство от Балтики, и на западе их владения сомкнулись с Бранденбургом, через земли которого к ним приходили все новые отряды немецкого рыцарства.
Агрессия тевтонских рыцарей с характерной для нее войной на уничтожение встречалa закономерный, все нарастающий отпор соседних народов. 40 лет сопротивлялись натиску Ордена пруссы. Ожесточенный отпор литовцев и белорусов встретили попытки тевтонских рыцарей укрепиться в нижнем течении Немана.3) Взялись за оружие поляки, которые в битве под Пловцами (1331 г.) нанесли серьезный удар войску крестоносцев. Но силы противников Ордена были разобщены. Польское рыцарство не желало тогда иметь ничего общего с литовцами-язычниками. Литовское боярство оспаривало у польских феодалов подчиненные ими земли Галицкой Руси и стремилось распространить свое влияние на Северо-Восточную Русь, что вело к конфликтам между [106] Великим княжеством Литовским и русскими княжествами, прежде всего Московским. В этих условиях Орден продолжал укреплять свои позиции. По миру, заключенному в 1343 г. в Калише, Польша оказалась вынужденной признать захват Поморья крестоносцами. Резко усилился их натиск на Великое княжество Литовское. Во второй половине XIV в. объектом больших походов Тевтонского ордена неоднократно становились уже не только пограничные литовские и белорусские области, но и главные центры Литовского государства — Вильнюс и Троки.4) Основные усилия крестоносцы направляли тогда на подчинение Жемайтии. Захват этой литовской земли позволил бы им не только полностью отрезать Литву от моря, но и сомкнуть в единое целое владения Тевтонского ордена с владениями другого, признававшего верховную власть великого магистра, однако сохранявшего определенную автономию государства крестоносцев в Прибалтике, — Ливонского ордена, который, покорив латышей и эстов, угрожал Литве и землям Северо-Западной Руси. Используя внутренние конфликты в Великом княжестве Литовском, которые властями Ордена всячески разжигались, в начале 80-х годов XIV в. Орден сделал серьезные шаги, чтобы укрепиться в Жемайтии. Опасность для исторических судеб поляков, литовцев, восточнославянских народов резко возросла.
В этом драматическом положении был сделан первый важный шаг к объединению сил противников Ордена. В 1385 г. польским королем был избран литовский великий князь Ягайло, принявший христианство вместе со своими литовским подданными.5) Несомненно, предпринимая такую акцию, польские политики думали о совместном выступлении Польши и Великого княжества Литовского против Ордена. Ягайло (в крещении Владислав), вступая на польский трон, принял на себя обязательство вернуть Польскому королевству земли, захваченные крестоносцами.6) Однако до совместного выступления обоих государств против Ордена прошло еще почти четверть века. Одной из причин несогласованности действий были столкновения между польскими и литовскими феодалами по вопросу о формах будущего объединения. Обострению этих столкновений всячески способствовал Орден. Лишь к середине 90-х годов XIV в., когда фактическим правителем Великого княжества Литовского под верховной властью Ягайло стал его двоюродный брат Витовт, спор был улажен.
Существовали и иные причины задержки. В правящих кругах Польши и Великого княжества Литовского сталкивались разные внешнеполитические концепции. Польских феодалов и литовское боярство манили планы расширения своих границ на Востоке за счет русских земель. Отсюда — дилемма, характерная для предгрюнвальдской политики обоих государств: либо политика экспансии на Востоке, что предполагало соглашение с Орденом и уступку его требованиям; либо решительная борьба с Орденом, что означало мир и политическое сближение с русскими княжествами. Колебаниями воспользовался Орден, и на первых порах не без успеха. Одной из вех на этом пути стал польский договор с Орденом, подписанный в мае 1404 г. в Рацёнже. Ордену отдавалась Жемайтия, признавалось «право» ливонских рыцарей на Псков, взамен же Орден охотно обещал свою поддержку Ягайле и Витовту в завоевании русских земель7) и такую помощь действительно послал. Каковы же были результаты соглашений? На Востоке, столкнувшись с объединенными силам русских княжеств, в войне, продолжавшейся более трех лет, Витовт и Ягайло не добились существенных успехов. Подобная политика вызвала лишь политический кризис в их собственных владениях: в 1408 г. отъехал в Москву родной брат Ягайлы Свидригайло вместе с рядом русских князей, а с ним «бояре черниговъскые и дебрянские, и любутьскые, и рославские».8) А тем временем Орден укреплял позиции в Жемайтии, устанавливая там свою администрацию и закладывая новые замки. [107]
В этих условиях борьба взглядов в польско-литовских правящих кругах привела к победе политического реализма. С русскими был заключен мир, а весной 1409 г. началось восстание в Жемайтии при прямой поддержке из Вильнюса. В начавшейся войне Польша и Литва совместно двинули свои войска против Ордена. Жемайтию Орден, захваченный врасплох, удержать не смог. Но и союзники еще не были готовы к большой войне. Осенью военные действия были прерваны перемирием, срок которого истекал в июне 1410 года. За это время стороны должны были подготовиться к решающему столкновению. С поражением союзников Орден связывал далеко идущие цели; так, в договоре о союзе с венгерским королем Сигизмундом Люксембургским он специально оговаривал свое право на захват Литвы, Жемайтии, части польских земель.9) Однако в Мариенбурге (Мальборк), Данциге (Гданьск) и Кенигсберге (ныне Калининград) понимали, что добиться этой цели будет нелегко: Ордену впервые открыто противостояли объединенные силы его противников.
Крестоносцы рассчитывали на содействие Сигизмунда Люксембургского. Но, занятый борьбой с османами и Венецией, тот не мог немедленно начать военные действия. Поэтому гораздо больше они надеялись на помощь ливонских рыцарей. Великий магистр потребовал от ландмейстера Ливонского ордена, чтобы тот по окончании перемирия объявил Витовту войну и нападением на Литву отвлек на себя литовские силы. Ответ же оказался неожиданным. Ландмейстер в мае извещал, что готов объявить войну, но согласно ранним соглашениям может начать военные действия лишь через три месяца после разрыва отношений. Так как срок перемирия между Тевтонским орденом и его противниками истекал в июне, такой ответ фактически означал отказ. Великий магистр, получивший ответ за девять дней до начала войны, пришел в ярость и потребовал от Ливонского ордена вернуть данные ему взаймы деньги и пушки.10) Современный польский исследователь С. М. Кучиньский11) считает, что главная причина создавшейся ситуации заключалась в том, что после мира 1408 г. началось сближение Польши и Великого княжества Литовского с русскими землями — Великим княжеством Московским, Новгородом и Псковом. В грядущей войне эти земли по существу приняли сторону, враждебную Тевтонскому ордену, и ливонские рыцари в этих условиях решили не вмешиваться в события.
Теперь Ордену оставалось рассчитывать лишь на искусство своих военачальников. Но в начале военной кампании оно оказалось явно не на высоте. В возобновившихся летом 1410 г. военных действиях инициатива с самого начала принадлежала польско-литовской стороне. Несмотря на усилия орденских властей, им не удалось проникнуть в военные планы противника. Предпринятые в июне с разных направлений нападения войск, как Польского королевства, так и Великого княжества Литовского дезориентировали военное командование Ордена, вынужденного воздерживаться от активных действий. В этих условиях Витовту и Ягайле удалось успешно достичь той цели, которую они ставили перед собой на первом этапе кампании: 2 июля на Висле, севернее Варшавы, в районе Червиньска беспрепятственно соединились армии обоих государств. 6 июля они перешли прусскую границу, и война развернулась на землях Ордена.
Польско-литовское войско двинулось в глубь вражеской территории, в сторону Мальборка, столицы Ордена.12) Войска союзников «все шли плохими лесными дорогами [108] и не могли найти ровного и широкого поля, где бы можно было остановиться и дать бой, и были большие и ровные поля около немецкого города Дубровна».13) Именно на север от этого города, взятого союзниками на пути к Мальборку, войску великого магистра Ордена Ульриха фон Юнгингена преградило путь польско-литовским силам. По крайней мере на день раньше армия крестоносцев стала на поле, к которому продвигались отряды его противника.
Какими же силами располагали перед решающей битвой обе армии? Точными данными для ответа на этот вопрос мы не располагаем.14) Одно не подлежит сомнению: Орден собрал все свои силы и широко раскрыл казну для вербовки наемников. Лишь в одной из счетных книг Ордена записаны выплаты жалованья для 5750 человек, нанятых на орденскую службу перед битвой при Грюнвальде.15) Но, кроме наемников, благодаря призывам Ордена в Пруссию прибыли большие отряды «гостей» — рыцарей, снарядившихся за свой счет, явившихся сюда в поисках добычи и рыцарских лавров, завоеванных в борьбе с язычниками. В составе армии крестоносцев были отряды рыцарей не только из Мейссена, Вестфалии и рейнских земель, но даже из Швейцарии, «пришедшие на помощь магистру прусскому и Ордену собственным иждивением».16) Составитель Хроники Быховца был не так далек от истины, написав, что магистр выступил на войну «со всей Германской империей».17) Но главное, Орден постарался выжать максимум сил из собственных подданных: там, где сохранились данные, видно, что отдельные прусские города выставили контингенты по размеру в несколько раз большие, чем во время других военных кампаний.18) Для решающей битвы, писал современник, великий магистр собрал все силы, «оставив всю землю и все зáмки» без военачальников и гарнизонов.19)
Точный в подсчетах французский хронист Жильбер де Ланнуа отметил, что уже после Грюнвальда ослабленный Орден выставил в 1413 г. для войны с поляками и литовцами 21 тыс. всадников и множество пехоты. В 1410 г. армия Ордена должна была значительно превышать эти цифры. Учитывая сказанное, с доверием можно отнестись к сведениям документов, которые рассказывали о заупокойных службах по убитым со стороны Ордена: в них упоминалась цифра 18 тысяч.20) [109]
Польша и Великое княжество Литовское также собрали к месту битвы свои основные силы. Из перечня отрядов (хоругвей) в составе войска союзников видно, что и Ягайло и Витовт привели с собой войска не только с расположенных сравнительно близко от Ордена польских, белорусских и литовских, а также русских (Смоленщина) территорий, но и с украинских земель: в польском войске были хоругви Галицкой земли, Холмщины, Подолии, в литовском — Киевская, Кременецкая, Стародубская.21) Поскольку по размерам территории и числу жителей Польское королевство и Великое княжество Литовское значительно превосходили Орден, из этого иногда делался вывод о большом численном превосходстве войск союзников. Ряд обстоятельств говорит, однако, против этого предположения. Во-первых, союзники не располагали той огромной внешней поддержкой, которой пользовался Орден. В составе польского войска были, правда, наемные отряды и добровольцы, но все они (и добровольцы и наемники) пришли из Силезии, польской земли, входившей в то время в состав Чешского королевства, а также из самой Чехии, которая была, таким образом, единственной страной католической Европы, оказавшей помощь противникам Ордена.22) Вступая в ряды польского войска, чехи и силезцы действовали вопреки желанию чешского короля Вацлава IV, который, стремясь сохранить за собой трон Священной Римской империи, в начавшейся войне явно поддерживал крестоносцев.
Хронисты Ордена и находившиеся под их влиянием хронисты западноевропейских стран писали об огромном войске татар, участвовавших в войне на польско-литовской стороне во главе с самим «татарским императором».23) В действительности речь могла идти лишь о небольшом отряде Джелал ад-Дина, сына Тохтамыша, который нашел в то время приют у Витовта, потерпев поражение в борьбе с Едигеем.24) Союзники получили также помощь от молдавского господаря, но это был небольшой отряд, насчитывавший 800 человек.25) Существенно и другое: если Орден смог собрать все свои силы под Грюнвальдом, не опасаясь нападения с другой стороны, то союзники не могли себе этого позволить. Длугош прямо свидетельствует о том, что часть польских войск осталась на южной границе для защиты от нападения союзника крестоносцев Сигизмунда Люксембургского.26) Немалая часть войск Великого княжества Литовского продолжала охранять границы с Ливонским орденом и Золотой Ордой.
Таким образом, хотя союзники и располагали, судя по всему, численным перевесом,27) он не мог быть подавляющим и в битве на открытом поле компенсировался преимуществами тяжеловооруженной рыцарской конницы, тогда как войска из украинских земель Польши и Великого княжества Литовского располагали более легким вооружением. Несомненно одно: в сражении с обеих сторон участвовали десятки тысяч человек. Следовательно, битва при Грюнвальде была одним из крупнейших сражений эпохи средневековья.
Разным был и моральный дух сторон. Прибывшие с войском Ордена наемники и «гости» стремились к захвату добычи, а прусские города и рыцари тяготились деспотической властью Ордена и не испытывали горячего желания сражаться за его интересы. В другом же лагере — поляков, литовцев, белорусов, украинцев и воинов русской Смоленщины объединяло желание дать отпор агрессору, давно и жестоко разорявшему их земли, не скрывавшему планов расчленения и порабощения соседних государств и народов. И это не могло не повлиять на исход развернувшейся битвы. [110]
Утром 15 июля войска крестоносцев, выстроившись в боевой порядок, стали на поле между поселениями Танненберг и Грюнвальд. Между тем войска союзников (на правом крыле стояло войско Польского королевства, на левом — Великого княжества Литовского) не торопились начинать битву, не выдвигаясь пока вперед из окружавших долину лесов. В этот момент к Ягайле и Витовту явились герольды от великого магистра с необычным заявлением, которое именно поэтому отмечено во всех главных источниках о битве.28) «Светлейший король! Великий магистр Пруссии Ульрих шлет тебе и твоему брату два меча, как поощрение к предстоящей битве, чтобы ты с ними и со своим войском незамедлительно и с большей отвагой, чем ты выказываешь, вступил в бой и не таился дольше, затягивая сражение и отсиживаясь среди лесов и рощ. Если же ты считаешь поле тесным и узким для развертывания твоего строя, то магистр Пруссии Ульрих... готов отступить сколько ты хочешь от ровного поля, занятого его войском».29) И вслед за появлением герольдов войска крестоносцев действительно отошли назад. По правилам войны, принятым в то время, это был вызов, граничащий с оскорблением, за которым должно было по логике событий последовать немедленное выступление союзных войск против армии крестоносцев.
Так и произошло. По согласному свидетельству источников,30) первыми начали сражение войска Великого княжества Литовского. Им и пришлось узнать, что скрывалось за «рыцарским» вызовом магистра. Еще в XVI в. составителю Хроники Быховца рассказали, что на будущем поле битвы крестоносцы «накопали ям и прикрыли их землею, чтобы в них падали люди и кони». В эти ямы и попала двинувшаяся в атаку литовская конница. Здесь погиб один из военачальников, имевший земли в Подолии, князь Иван Жедевид, «и еще многим людям от тех ям большой вред был».31) Таким образом, уже в первой фазе битвы крестоносцы с помощью вероломства нанесли существенный вред левому крылу союзников. Это сказалось на дальнейшем ходе сражения. Против литовского войска устремились отряды «гостей», желавших встретиться с «язычниками»,32) а войска, собранные в Пруссии, начали бой с хоругвями польского войска, ударив на них, по сообщению Длугоша, «с более высокого места». «Когда же ряды сошлись, то поднялся такой шум и грохот от ломающихся копий и ударов о доспехи, как будто рушилось какое-то огромное строение... Нога наступала на ногу, доспехи ударялись о доспехи и острия копий направлялись в лица врагов... Наконец, когда копья были переломаны, ряды той и другой стороны и доспехи с доспехами настолько сомкнулись, что издавали под ударами мечей и секир, насаженных на древки, страшный грохот, какой производят молоты о наковальни, и люди бились, давимые конями».33)
В течение часа ни одна из сторон не могла добиться успеха. Затем под натиском крестоносцев, к которым подошли свежие силы, левое крыло союзников стало «отступать и наконец обратилось в бегство... Враги рубили и забирали в плен бегущих, преследуя их на расстоянии многих миль... Бегущих же охватил такой страх, что большинство их прекратило бегство, только достигнув Литвы».34) Несмотря на определенность и категоричность суждений Длугоша, эта часть его рассказа давно вызывала сомнение, т. к. находилась в противоречии с данными других источников. Отсюда — длительный спор о характере действий левого крыла армии союзников в Грюнвальдской битве.35) Лишь сравнительно недавно был обнаружен важный источник, окончательно подтвердивший правоту критиков Длугоша. Уже после Грюнвальда один из начальников Ордена предупреждал магистра, что в новом сражении [111] противники могут умышленно вызвать бегство нескольких отрядов, чтобы привести к разрыву боевых порядков тяжелой конницы так же, как это произошло в «великой битве».36) Значение этого свидетельства состоит прежде всего в том, что оно подтверждает «с противной стороны» то описание действий литовцев, которое дал неизвестный поляк, автор «Cronica conflictus». Ведь он пишет, что, когда литовцы стали отступать, отряды крестоносцев, «полагая, что они уже одержали победу, рассеялись [удалившись] от своих знамен, нарушив порядок своих отрядов».
Нарушив боевой строй, дававший ей силу удара, тяжелая рыцарская конница сошла с поля в болотисто-пересеченную местность, где все преимущества были на стороне привыкших действовать в таких условиях литовцев и белорусов. «Затем, — продолжает «Cronica conflictus», — когда они захотели вернуться к своим людям и знаменам, окруженные людьми короля (так хронист называет все войска, подчиненные верховной власти Ягайло. — Б. Ф.), они были взяты в плен или погибли, сраженные мечом».37) Лишь некоторым из этих отрядов удалось вернуться назад. Искусный маневр был вынужденным и, конечно, рискованным, а предпринят он был уже после того, как, по выражению «Cronica conflictus», были «убиты многие и с той и с другой стороны» и какая-то часть литовского войска могла действительно обратиться в бегство. Но главные силы левого крыла остались на поле битвы и сумели нанести ощутимый урон крестоносцам.
В своем рассказе Длугош противопоставил поведение литовского войска действиям трех смоленских полков, которые в отличие от других отрядов не отступили, продолжая сражение с крестоносцами. «Хотя под одним знаменем они были жестоко изрублены и знамя их втоптано в землю, однако в двух остальных отрядах они вышли победителями, сражаясь с величайшей храбростью, как подобало мужам и рыцарям, и, наконец, соединились с польскими войсками».38) Почему они не отошли вместе со всем войском Великого князя Литовского? Прямых сведений нет, ответ же подсказывается общим пополнением на поле битвы: отход литовских войск, хотя и приносивший определенные выгоды, вместе с тем был чреват серьезной опасностью. Преследуя отступавших, конница крестоносцев могла зайти в тыл войскам правого крыла. Именно эту опасность предотвратили, «соединившись с польским войском», смоленские полки. В тяжелый для армии союзников момент «примыкавшие к польскому войску справа смоленские полки прочно занимали отведенное им место и, несмотря на тяжелые потери, обеспечили защиту польских полков от флангового удара рыцарей».39) Это имело большое значение для общего исхода сражения.
Тем временем бой на правом крыле разгорался со все большей силой. Здесь с крестоносцами сражались войска Польского королевства. Главным объектом атаки крестоносцев стала большая хоругвь Краковской земли, над которой поднималось знамя с главной эмблемой государства — белым орлом. Крестоносцы, по-видимому, считали, что под этим знаменем сражается сам польский король, и его захват решит исход сражения.40) Наступил момент, когда под вражеским натиском знамя упало на землю. У знамени завязалась отчаянная схватка: «Отборный отряд храбрейших рыцарей встал около него грудью, защищая его своими телами и оружием», и враг был отброшен.41) По-видимому, положение восстановила часть брошенных в бой резервов, под натиском которых войска Ордена начали медленно отходить.42)
Это не осталось незамеченным в лагере крестоносцев, и великий магистр, придя к заключению, что уже все силы союзников вступили в бой, решил нанести решающий удар. В его распоряжении был еще значительный резерв (16 хоругвей, почти треть армии крестоносцев), который массированной атакой должен был решить исход битвы. Убежденный, что силы противника исчерпаны, магистр с главными сановниками Ордена встал во главе идущих в бой рыцарей. Бой продолжался [112] уже шесть часов, наступал переломный момент сражения. Атака крестоносцев была снова направлена на то место, где, по мнению крестоносцев, находился король. Но в этот самый момент Ягайло и Витовт ввели в бой свои резервы: поляки с одной стороны и литовцы — с другой ударили на войско магистра. Столкнулись мчащиеся навстречу друг другу потоки конницы. И в этой решающей схватке отборные силы Ордена, «окруженные отовсюду, были повержены и раздавлены, почти все воины, сражавшиеся под шестнадцатью знаменами, были перебиты или взяты в плен». Погибли магистр и ряд других сановников Ордена. Войска крестоносцев стали отходить с поля битвы. Увидев перемену военного счастья, начали складывать оружие отряды «гостей». Перешла целиком на польскую сторону во главе со своим хорунжим хоругвь захваченной крестоносцами польской Хелминской земли. Часть Орденского войска обратилась в паническое бегство.43)
В дальнейшем ходе битвы рыцарская конница уже не участвовала. Однако из рассказа Длугоша можно заключить, что само сражение на этом не закончилось. Большая часть воинов Ордена, бежавших с поля боя, «искала защиты в прусском обозе при стане». Там была предпринята серьезная попытка организовать сопротивление, что следует из слов хрониста «они были перебиты» (т. е. встретили врага с оружием в руках).44) Скупость сведений хронистов об эпилоге битвы удачно объяснил польский историк С. Инглот.45) На штурм лагеря двинулась пехота, состоявшая из людей «подлого звания»,46) не знавших рыцарских правил и стремившихся лишь к одному — уничтожить врага. Если рыцари, преследовавшие вражеских рыцарей, по приказу Ягайлы «избегали резни» и, не пуская в ход оружие, привели пленных «невредимыми, без насилья и увечья»,47) то в лагере картина была иная. «Все находившиеся в нем погибли от меча». «На этом месте, — указывается в источнике, — было видно больше трупов, чем [убитых] во всей битве».48) Так сломленное в конной битве войско Ордена было уничтожено вооруженными польскими, литовскими, белорусскими, украинскими и русскими крестьянами. В лагере победители обнаружили возы с цепями, которыми крестоносцы рассчитывали заковать пленных.49)
Армия Ордена практически перестала существовать: большая ее часть была уничтожена, значительное число воинов попало в плен. Победителям достались обоз, артиллерия, боевые знамена крестоносцев (51 захваченное знамя было доставлено в Краков, остальные отправлены в Вильнюс).50) В битве погибли или попали в плен не только почти все главные чины Ордена, но и наместники округов — комтуры (кроме одного, не участвовавшего в битве). Поражение было сокрушительным. От нанесенного удара Орден так и не смог оправиться, несмотря на то, что политики Польши и Великого княжества Литовского не сумели в полной мере воспользоваться плодами победы. В последующих столкновениях с соседями вплоть до 1525 г., года ликвидации Ордена, он боролся лишь за сохранение своих позиций. Угроза агрессии со стороны немецких феодалов по отношению к полякам, литовцам, восточным славянам была надолго устранена.
В историческую традицию этих народов битва под Грюнвальдом, происходившая 575 лет тому назад, вошла не только как символ мужества и героизма в борьбе за родную землю против иноземных захватчиков, но и как свидетельство того, что, когда народы объединяются, чтобы общими силами дать отпор агрессору, отстоять свою свободу и независимость, они добиваются победы.
1) Chronicon terrae Prussiae von Peter von Dilsburg. In: Scriptores rerum Prussicanum (SRP). T. I. Leipzig. 1861, S. 146.
2) Preussisches Urkundenbuch. Bd. III, Tl. 1. Königsberg. 1944. S. 101.
3) Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. М. 1959, с. 416 сл.
4) Łowmiański Н. Agresja Zakonu krzyżackiego па Litwę w wiekach XII-XV. — Przegląd historyczny, 1954, № 2-3, s. 357 n.
5) Данный шаг не повлиял на политику Ордена, продолжавшего перед лицом всей Европы именовать литовцев «язычниками» и устраивать на Литву новые крестовые походы, к участию в которых широко призывалось рыцарство католической Европы.
6) Akta unii Polski z Litwą. Kraków. 1932. № I, s. 2.
7) Коlankowski L. Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów. T. I. Warszawa. 1930, s. 83.
8) ПСРЛ. T. 25. М.-Л. 1949, c. 237.
9) Nowak Z. Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411. Toruń. 1964. s. 98-100.
10) Prochaska A. Dzieje Witolda wielkiego księcia Litwy. Wilno. 1914, s. 124-125.
11) Kuczyński S. M. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409—1411. Warszawa. 1980. s. 331-332.
12) О первой фазе войны подробнее см.: Kuczyński S. М. Ор. cit., s. 334-368. В архиве Ордена сохранилось много документов о войне 1409—1411 годов. Большая часть из них опубликована в издании: Codex epistolaris Vitoldi. Cracoviae. 1882. Обзор и частичная публикация не вошедших в это издание материалов см.: Biskup М. Z badań nad «Wielka wojną» z Zakonem Krzyżckim. — Kwartalnik historyczny, 1959, № 3. О самой битве эти документы сведений не содержат. Ее описания сохранились лишь в хрониках. Из источников, отражающих точку зрения Ордена, следует отметить составленное неизвестным лицом продолжение «Хроники» Иоанна Посильге, официала помезанского епископа. Записи здесь близки по времени событиям, которые поданы с точки зрения стороны, враждебной польско-литовской: войска Великого княжества Литовского для него — войска язычников. У других хронистов, писавших на территории Пруссии, сохранились краткие записи о войне и битве (все соответствующие тексты собраны в издании: SRP. Т. III. Leipzig. 1866). С польско-литовской стороны наиболее ранним и достоверным источником является т. н. Cronica conflictus Wladislai regis Poloniae cum crueiferis. Anno Christi, 1410. Poznań. 1911 (издание с факсимильным воспроизведением оригинала). К сожалению, это описание войны, составленное по следам событий в канцелярии короля, дошло до нас в сильном сокращении, сделанном неизвестным клириком, использовавшим его как материал для проповеди в годовщину победы при Грюнвальде. Полным текстом «Cronica conflictus» располагал и широко использовал его в своей «Хронике» работавший во второй половине XV в. Ян Длугош. Однако текст этого источника он использовал не механически, а перерабатывал под влиянием сообщений своего покровителя, краковского епископа Збнгнева Олесницкого, относившегося с большой неприязнью к литовцам и православным. Отсюда — выступающая в его повествовании тенденция приписать основную заслугу в победе под Грюнвальдом польскому войску (описание войны и битвы помещено в начале книги XII «Хроники»: Joannis Dlugossii seu Longini canonici Cracoviensi opera omnia. T. XIII. Cracoviae. 1877). Современный русский перевод: Длугош Я. Грюнвальдская битва. М.-Л. 1962 {см. здесь}. Противоположная тенденция может быть отмечена в рассказе «Хроники Быховца», где отразились предания о битве, бытовавшие в среде аристократии Великого княжества Литовского в XVI веке. Наряду с недостоверными этот рассказ содержит ряд важных и точных сведений, отсутствующих в других источниках (см. Kuczyński, S. М. Inormacje tzw. latopisu Byshowca o «Wielkiej wojnie» lat 1409—1411. In: Studia z dziejór Europy Wschodniej X—XVII w. Warszawa. 1965). Ср. также: ПСРЛ. Т. 32. М. 1975; русск. пер.: Хроника Быховца. М. 1966 {см. здесь}.
13) Хроника Быховца, с. 78.
14) Kuczyński S. М. Spór о Grünwald. Warszawa. 1968, s. 86.
15) Екdahl S. Kilka uwag o księdze żołdu Zakonu krzyżackiego z okresu „Welikiej wojny” 1410—1411. —Zapiski histeryczne, 1968, № 3.
16) Длугош Я., ук. соч., с. 93-95.
17) Kuczyński S. М. Spór о Grünwald. Warszawa. 1968, s. 86.
18) Kuczyński S. М. Spór о Grünwald, s. 86.
19) SRP. Т. III, S. 314-315.
20) Jahrbücher Johannes Lindenblatts oder Chronik Johannes von der Posilie, Officials zu Riesenburg. Königsberg. 1823, S. 257-258.
21) Длугош Я. Ук. соч., с. 89. Cronica conflictus также упоминает при описании боя «хоругвь Галицкой земли» (s. 27).
22) Длугош Я. Ук. соч., с. 88-90. В составе одного из таких отрядов гетмана Яна Сокола принял участие в Грюнвальдской битве Ян Жижка (там же, с. 134).
23) SRP. Т. III, S. 7, 314-315, 405-407, 413, 453-455.
24) Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая орда и ее падение. М.-Л. 1950, С. 398-400.
25) Codex epistolaris Vitoldi, App. XXXVII, р. 1064.
26) Длугош Я. Ук. соч., с. 63.
27) «Прусское войско как рыцарской силой, так и числом знамен уступало польскому (там же, с. 90).
28) SRP. Т. III, S. 310; Cronica conflictus, s. 22.
29) Длугош Я. ук. соч., С. 98-99.
30) Там же, с. 101.
31) Хроника Быховца, с. 79; из сообщений Длугоша можно заключить, что в такие ямы крестоносцы ставили колья и покрывали их соломой (Dlugоssii J. Opera omnia. T. XIII, s. 295, 304).
32) Cronica conflictus, s. 25.
33) Длугош Я. Ук. соч., с. 101.
34) Там же, с. 102.
35) Обзор дискуссии: Kuczyński S. М. Taktyka walki skrzydła litewsko-ruskiego w bitwie pod Grünwaldem. In: Studia i materiały do historii wojskowości. Т. X, cz. II. Warszawa. 1964.
36) Еkdahl S. Die Flucht der Litauer in der Schlacht bei Tannenberg. — Zeitschrift für Ostforschung, 1963. Hf. 1, S. 16-17.
37) Cronica conflictus, s. 26.
38) Длугош Я. Ук. соч., с. 102.
39) Караев Г. Н., Королюк В. Д. К 550-летию Грюнвальдской битвы. — Вопросы истории, 1960, № 7, с. 98.
40) Длугош Я. Ук. соч., с. 88: Kuczyński S. М. Wielka wojna, s. 401.
41) SRP. Т. III. S. 316: Длугош Я. Ук. соч., с. 104.
42) Kuczyński S. М. Wielka wojna. s. 402-403.
43) Об этом решающем моменте сражения см.: Длугош Я. Ук. соч., с 104-107; Cronica conflictus. s. 27-28. Об участии литовцев в атаке на войско магистра говорят продолжатель хроники Посильге (SRP. Т. III, S. 316).
44) Длугош Я. Ук. соч., с. 108. В Cronica conflictus (s. 28) еще более определенно указано, что укрывшиеся в лагере пробовали создать вокруг себя защиту из возов.
45) Inglot S. Udział chłopów w obronie Polski. Łódż. 1946, s. 21.
46) О людях «неблагородного звания», или просто крестьянах, в составе польского войска имеются прямые свидетельства документов из архива Ордена (Biskup М. Ор. cit., s. 686, 699, 703-704, 709).
47) Длугош Я. Ук. соч., с. 109.
48) Cronica conflictus. s. 28.
49) Длугош Я. Ук. соч., с. 108.
50) Там же, с. 157; Długosz J. Banderia Prutenorum. Warszawa. 1958; Хроника Быховца, с. 80.
http://folkvald.livejournal.com/
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
#15

 Опубликовано 19 Июль 2010 - 17:29
Опубликовано 19 Июль 2010 - 17:29

Битва при Грюнвальде.М., 1961.
http://www.infanata....aramzin-gb.html
http://infanata.ifolder.ru/18553452
http://rapidshare.co..._____1961_.djvu
http://www.infanata....aramzin-gb.html
http://infanata.ifolder.ru/18553452
http://rapidshare.co..._____1961_.djvu
http://folkvald.livejournal.com/
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
#16

 Опубликовано 21 Июль 2010 - 06:55
Опубликовано 21 Июль 2010 - 06:55

По поводу статьи Акунова.
Конечно, раздражает превознесение одних и уничижение других; и неумеренное употребление прописных букв, при описывании "своих" (для автора).
Но сути эта шелуха не меняет: 1)этнический фактор инрал в Средние века далеко не определяющую роль; 2)рыцарства, как оно описано в романах, не существовало - по-рыцарски рыцари вели себя только по отношению к рыцарям, не гнушались они интригами да и предательством; наверно, тевтонцы были и не совсем "рыцари", но и не совсем уж "псами"; 3)война всегда война, она не бывает красивой, саги о героях сочиняются после войн; на войне ни одна сторона никогда не бывает полностью белой и пушистой.
Конечно, раздражает превознесение одних и уничижение других; и неумеренное употребление прописных букв, при описывании "своих" (для автора).
Но сути эта шелуха не меняет: 1)этнический фактор инрал в Средние века далеко не определяющую роль; 2)рыцарства, как оно описано в романах, не существовало - по-рыцарски рыцари вели себя только по отношению к рыцарям, не гнушались они интригами да и предательством; наверно, тевтонцы были и не совсем "рыцари", но и не совсем уж "псами"; 3)война всегда война, она не бывает красивой, саги о героях сочиняются после войн; на войне ни одна сторона никогда не бывает полностью белой и пушистой.
#17

 Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 17:24
Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 17:24

Р.Б.Рагуа. Грюнвальд в источниках: Хроника конфликта Владислава, короля Польши, с крестоносцами в год Христов 1410.
Монография посвящена одному из основных нарративных источников для исследования событий Грюнвальдской битвы 1410 года. Комплексное исследование хроники позволило автору по-новому интерпретировать различные аспекты знаменитого сражения.
Предназначена для историков, культурологов, студентов, а также всех интересующихся средневековой историей Беларуси и Европы.
http://www.infanata....stochnikax.html
http://infanata.ifolder.ru/20258936
Монография посвящена одному из основных нарративных источников для исследования событий Грюнвальдской битвы 1410 года. Комплексное исследование хроники позволило автору по-новому интерпретировать различные аспекты знаменитого сражения.
Предназначена для историков, культурологов, студентов, а также всех интересующихся средневековой историей Беларуси и Европы.
http://www.infanata....stochnikax.html
http://infanata.ifolder.ru/20258936
http://folkvald.livejournal.com/
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
#20

 Опубликовано 15 Июль 2015 - 17:07
Опубликовано 15 Июль 2015 - 17:07

Цитата(Краки Нифлунг @ 15.7.2015, 16:09) (смотреть оригинал)
И Невской битвы 775-ая
что не сопоставимо, ни по значению, ни по массштабу.
#21

 Опубликовано 15 Июль 2015 - 17:16
Опубликовано 15 Июль 2015 - 17:16

Цитата(doors @ 15.7.2015, 20:07) (смотреть оригинал)
что не сопоставимо, ни по значению, ни по массштабу.
Ну и что? А про значение, это смотря для какого региона. Для Северной Руси еще как значимо.
#22

 Опубликовано 16 Июль 2015 - 19:13
Опубликовано 16 Июль 2015 - 19:13

Цитата(Weissthorr @ 24.8.2009, 19:39) (смотреть оригинал)
Напишу о собственных впечатлениях. Почти всегда работаю в Старом городе, а там много туристов. Заметил, что немец или какой итальянец всегда старается что-то спросить на английском. Поляк же все время будет говорить исключительно на польском, при том усердно удивляясь, что не все его понимают.
Я на одном фестивале в Польше (не подалеку от границы с Украиной) разговаривал с одним поляком - историческим реконструктором (это важно!). Он, конечно, на чистом великопольском, я на смеси русского и польского. Вдруг он мне говорит: "А вы жемайтов понимаете?". Я, к ему великому удивлению, ответил, что это практически один язык и произнес ему пару фраз на литовском. А он полагал, что мой ломанный русско-литовский является виленским диалектом польского Ну, думаю, а ведь человек интересуется историей, должен ведь хотя бы приблизительно знать что к чему. Кстати, против этого человека я ничего не имею, так как в нём не заметил совершенно никакой арроганции или шовинизма. Видимо, им в школе что-то вдалбливают и они свято верят в такую свою "историографию".
Ну, думаю, а ведь человек интересуется историей, должен ведь хотя бы приблизительно знать что к чему. Кстати, против этого человека я ничего не имею, так как в нём не заметил совершенно никакой арроганции или шовинизма. Видимо, им в школе что-то вдалбливают и они свято верят в такую свою "историографию".
Я на одном фестивале в Польше (не подалеку от границы с Украиной) разговаривал с одним поляком - историческим реконструктором (это важно!). Он, конечно, на чистом великопольском, я на смеси русского и польского. Вдруг он мне говорит: "А вы жемайтов понимаете?". Я, к ему великому удивлению, ответил, что это практически один язык и произнес ему пару фраз на литовском. А он полагал, что мой ломанный русско-литовский является виленским диалектом польского
да, поляки обладают феноменальной уверенностью, что все эти города - "их". И этому можно сколько угодно удивляться... удивления не хватить, если учесть что претензии на Литву, половину Беларуси и половину Украины, они все-непременно заявляли во время, самых тяжелых, для Польши, веков оккупации и кровавых подавлений восстаний. Заявляли прямо в глаза русским царям. И умирали с сознанием этого)
Я конечно, против "ополячивания"... национальные культуры нет необходимости размывать. Но первенство Польши, в стратегическом союзе, надо признать. Другие просто не обладают таким потенциалом.
Сообщение изменено: doors, 16 Июль 2015 - 19:14.
#23

 Опубликовано 01 Сентябрь 2020 - 21:18
Опубликовано 01 Сентябрь 2020 - 21:18

Находки этого года на предполагаемом месте битвы:







- профессор Перзеев, Eugene_rus, varang и ещё один пользователь сказал "Спасибо"
Minuć u tumanie stahodździ,
I stal sparachnieje ŭščent,
A my tut byli, i my tut budziem,
Pakul isnuje hety śviet.
I stal sparachnieje ŭščent,
A my tut byli, i my tut budziem,
Pakul isnuje hety śviet.
Ответить в эту тему

Посетителей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться


 Наверх
Наверх Ответить
Ответить Цитировать
Цитировать






