Посмотрим теперь, как вопрос "призвания варягов" излагает Белинский. Представления о самих варягах у него самые смутные: "согласно летописям, варяго-русы занимали узкую полосу земли (ориентировочно до 50 километров) вдоль правого рукава реки Неман" [Б2, с. 181]. Подделанные Екатериной II летописи в очередной раз превращаются в надежный источник. Впрочем, зря, потому что ни в каких летописях такой локализации нет: гипотеза о связи термина "Русь" с названием одного из рукавов Немана была выдвинута в середине XIX века Н.И. Костомаровым в рамках его теории о литовском происхождении летописных варягов [172, с. 8-9]. Эту гипотезу он публично защищал на открытом диспуте с М.П. Погодиным в 1852 г., однако со временем сам от нее отказался. Как видно, Белинский с самими текстами летописей совершенно незнаком, и цитирует их фрагментами из исторических исследований.
Костомаров как главный осведомитель Белинского по части содержания ПВЛ и далее попадает в поле зрения автора, и – как и все иные историки – подвергается извращениям. Утверждается, например, что "одновременно Н.И. Костомаров объяснил ситуацию относительно Изборска. Оказалось, что это был главный город чуди" [Б2, с. 179]. Хотя сам историк (независимо от его правоты или неправоты в данном конкретном вопросе) писал нечто совершенно противоположное измышлениям от его имени:
"Не следует соблазняться тем, что летописец называет чудские племена, когда говорит о призвании союзниками варяжских князей. Известно, что географические названия переживают не только независимость народов, которые сообщили эти имена своей родине, но даже само существование тех народов. Весь, меря и находившаяся под господством Изборска чудь, были покорены славянами, следовательно, составляли с ними в географическом отношении целое. Ведь и в наше время Сибирь слово не русское, а если бы пришлось сказать: "Сибирь этого хочет", то разумелось бы при этом выражении русское население, а не туземные народы, уступившие первенство в своей земле пришлому славянскому элементу; то же можно бы сказать об Астрахани или о Крыме, – названия татарские, и татары живут в краях, которые эти названия до сих пор носят, а самобытности не имеют, и древнее географическое имя их сделалось достоянием другого народа, одержавшего верх и господство. Призывавшие варяго-русов народы были наголо славяне..." [172, с. 19].
В "пространстве бреда" хоть какие-то варяги на Немане, возможно, и были, но их на Русь никто не приглашал. "Мы с полной уверенностью имеем право утверждать невиновность Нестора: "легенду про призвание варягов" вставили в древнюю киевскую летопись не в XII веке, а значительно позже – в XVIII веке. [Б2, с. 188]. Злобную руку императрицы видит Белинский и в появлении на страницах летописей братьев Рюрика – Синеуса и Трувора. Сделано это было для того, чтобы хоть кого-то из них разместить в "финно-угорских землях": "Никаких Синеуса и Трувора не существовало. Эта часть летописи является обычной вставкой и не больше" [Б2, с. 189]. Да и вообще "теория про Варяго-Русов – это исключительно екатерининская мысль, которую она изложила в своем труде "Размышления про проект истории России XVIII века", написанном собственноручно и сохранившимся в черновом оригинале" [Б2, с. 52]. А ранее прародителем русских князей у Белинского вообще считался... Олег! [Б1, с. 300].
Представим себе на мгновение, что все сотни списков русских летописей вдруг испарились. Но даже тогда окажется, что Рюрик с братьями впервые появился на страницах исторических трудов лет за триста до коварной Екатерины с ее миллерами и карамзиными. Первым "призвание варягов" упомянул патриарх польской историографии Ян Длугош, автор многотомного труда "Анналы или хроники славного королевства Польши" (Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae). Дадим слово пану Яну:
"...некоторые русские народы (Ruthenorum naciones) ...приняли трех князей от варягов, поскольку из своих им не хотелось никого выбирать из-за равенства. Первый же звался Рурек (Rurek); он расположился в Новгороде; второй – Шинев (Szinyev); он осел на Белом озере (Byalye yeszyoro), то есть у Albus lacus [лат. – "белое озеро" – А.К.]; третий – Трубор (Trubor); он расположился в Изборске (Zborsk)" [93, с. 79, 226].
Если учесть неизбежное для иностранного автора искажение имен, то все равно выходит все та же история, которую, по уверениям Белинского, триста лет спустя вписали в "украинские летописи" ненавистные моксели. Эх, беда-то какая!
Ян Длугош выпустил перо из рук в 1480 году. А всего через несколько десятилетий, в 20-е годы XVI века, призвание варягов было еще раз подтверждено иным государственным мужем и историком, бароном Сигизмундом Герберштейном, который так рассказывает о начале хорошо ему знакомой Руси:
"Так, однажды между русскими (Rhuteni) возник спор о верховной власти, из-за которой начались у них, распаляемых взаимной ненавистью, великие распри. Тогда Гостомысл, муж благоразумный и уважаемый новгородцами, посоветовал отправить послов к варягам, чтобы просить трех братьев, бывших там в большом почете, принять власть. Последовав этому совету, послали просить в государи трех родных братьев, которые по прибытии поделили между собой державу, добровольно врученную им русскими. Рюрик (Rurick) получил княжество Новгородское и сел в Ладоге в тридцати шести немецких милях вниз от Новгорода Великого. Синеус (Sinaus) сел на Белом озере (Albus lacus), Трувор (Truwor) же – в княжестве Псковском (Plescoviensis) в городе Свуортзех (Svuortzech)" [88, с. 60; 89].
В статье ПВЛ о призвании варягов впервые звучит название Ростова как одного из подвластных Рюрику городов:
"И прия власть Рюрикъ, и раздая мужемъ своимъ грады, овому Полотескъ, овому Ростовъ, другому Белоозеро. И по темъ городомъ суть находници варязи, а перьвии насельници в Новегороде словене, въ Полотьски кривичи, в Ростове меря, в Беле-озере весь, в Муроме мурома; и теми всеми обладаше Рюрикъ" [1, стб. 20]
Эту статью ПВЛ Белинский огульно объявляет "поддельной". Почему? А неужели и так не ясно? Впрочем, и стала она ему известна лишь из статьи Н.И. Костомарова, потому как летописей Белинский никогда и не читал. Иначе ему было б известно, что второй раз Ростов упоминается во включенном в текст ПВЛ официальном и вполне достоверном документе: русско-греческом договоре, подписанном в 907 г. после похода великого князя Олега на Константинополь:
"И заповеда Олег дати воем на 2000 корабль по 12 гривен на ключь, и потом даяти уклады на рускыа грады: первое на Киевъ, та же на Чернигов, на Переаславль, на Полтескъ, на Ростов, на Любечь и на прочаа городы; по тем бо городомъ седяху велиции князи, под Олгом сущее" [1, стб. 31]
Мы не знаем, какой вассальный Олегу князь правил тогда в ростовской земле, но сам Ростов однозначно называется среди "русских градов", дружины которых имели право на свою долю греческого золота. Как не тщится представить автор отсутствие интереса у Рюриковичей к их северным владениям, сразу после своего захвата Киева (около 882 г.), Олег:
"устави дани словеномъ, кривичемъ и мери, и устави варягомъ дань даяти от Новагорода гривенъ 300 на лето, мира деля, еже до смерти Ярославле даяше варягомъ" [1, стб. 23-24]
Белинский же твердо убежден, что "Олег забыл про свои владения в новгородской и мерянской землях. Тех владений просто не существовало" [Б2, с. 191]. И это при том, что, как сообщает ПВЛ, Олег был похоронен в Ладоге – и как его только туда могло занести? Не иначе как специально вывезли тело покойного князя куда-то к черту на кулички, в "тмутаракань".
Не знал, дескать, про свои земли на севере и следующий киевский князь – Игорь Рюрикович [Б2, с. 193]. Совсем иного мнения придерживался крупнейший научный авторитет того века Константин Багрянородный. Ему было известно даже имя тогдашнего новгородского князя. Описывая речные путешествия русов, царь пишет, что:
"приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы [лодки – А.К.] являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии..." [60, с. 45].
Эти самые "росские моноксилы" довольно интенсивно чертили в те годы по водам окрестных морей. В 912-13 гг. произошел большой набег русов на западное побережье Каспийского моря. Этот факт дал некоторым историкам основания предполагать, что поход был организован Игорем. Белинский в этой связи цитирует БСЭ и уверяет, что "аналогичные сообщения есть в "общерусских летописных сводах". И, конечно же, они были вписаны злодейской рукой обманщиков, чтобы каким-то образом привязать древних киевских князей к своей нечестивой московской трясине. Но, торжествует Белинский, "путь из Киева на западное побережье Каспия никогда не пролегал через таежное междуречье Оки и Волги. Лживые намеки российских историков про возможную связь этого похода с колыбелью великороссов – неуместны" [Б2, с. 192].
Еще одним доказательством лживости московских историков и полного отсутствия связей между "Русью-Украиной" и "таежным междуречьем" стало якобы путешествие, которое в 922 г. совершил уже нами упомянутый посол багдадского халифа Ахмед ибн Фадлан к правителю Волжской Булгарии. На своем пути Ибн Фадлан "имел контакт с многими народами, в том числе русичами", но ничего о походе Игоря на Каспий не слышал. "Чтоб пройти на Каспий Игорь должен был разгромить Хазарский каганат, но ...про поход русов на хазар в 913 г. ни арабы, ни булгары, ни огузы, ни печенеги не ведали" [Б2, с. 192], а, стало быть, все выдумала Екатерина II с присными.
Попробуем разгрести эту гору словесной шелухи. Начнем с того, что ни в каких летописях о походе Игоря или русов вообще на Каспий не говорится. Сведения о набеге русов на каспийские берега принадлежат арабскому историку Х века Абуль-Хасану Али ибн Хуссейну, известному под прозвищем Аль-Масуди (вероятно, его труд тоже написали карамзины с мусин-пушкиными!). По сведениям Аль-Масуди, русы на 500 кораблях вошли в устье Дона и попросили у хазарского царя разрешение переправиться на Волгу, обещая за это половину добычи. Хазары на это согласились, но затем напали на нагруженных благоприобретенным имуществом пиратов на их обратном пути с Каспийского моря и всех перебили [69, с. 130-131].
А вот тот самый Ахмед ибн Фадлан во время своей поездки в Булгарию встречал множество русских купцов именно на той самой таежной и недоступной Волге, причем в ее среднем течении, значительно выше хазарских владений в низовье реки:
"Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились на реке Атиль... Они прибывают из своей страны и причаливают свои корабли на Атиле, а это большая река" [68, с. 141].
Ибн Фадлан ехал в Булгарию сухопутным путем из Хорезма и не был в Хазарии (хотя сведения об этой стране тоже сообщает). Он ничего не пишет о том, что русские купцы перетаскивали свои корабли из Дона в Волгу (как это было сделано в 912 г.) и затем поднимались вверх по течению до Булгара. Следовательно, эти русы, которых посол халифа видел и описал, приходили из верховьев реки Атиль, из того самого, так нелюбимого "таежного междуречья".
Оживленная и не всегда безопасная активность Руси на берегах Волги была хорошо известна и хазарам. В письме визирю кордовского халифа Хасдаю ибн Шапруту хазарский царь Иосиф говорит, что:
"я живу у устья реки, с помощью всемогущего. Я охраняю устье реки и не пускаю Русов, приходящих на кораблях, приходить морем, чтобы идти на исмаильтян [мусульман – А.К.]" [70, с. 100].
Возможно, его величество здесь слегка лукавил, желая доказать свои благодеяния мусульманам: то ли сам он, то ли кто-то из его предшественников в 912 г. пропустил 500 кораблей с корсарами, от дел которых "с ужасом возопили" исламские жители каспийских стран. Но упоминание Иосифа о том, что русы в его страну приходят по Волге на кораблях, а не волоком с Дона, тоже говорит о наличии этих самых русов в верховьях Итиля. Хотя у Белинского, конечно, "этого не может быть, потому что не может быть никогда".
Решающий удар Хазарии нанес наследник Игоря Святослав, которого император Константин застал правителем Новгорода. Сопоставляя ПВЛ с данными арабских и византийских источников того времени, А.А. Шахматов обратил внимание на хронологическое несоответствие событий, – например, поход князя Святослава на хазар и поездка его матери, княгини Ольги в Константинополь были датированы различно. Из этого ученый сделал вполне логичный вывод, что хронология ПВЛ Х века – произвольная, а составители этого свода не знали точных дат событий столетней давности и определяли их "на глаз". Это вполне возможно: например, такой же произвольной и проставленной "задним числом" является хронология написанной в конце XIII века Галицко-Волынской летописи. А о произвольности ранней хронологии ПВЛ уже двести лет назад сказал Карамзин. Белинский же по этому поводу начинает бушевать, обвиняя в трусости "шулера" Шахматова: "как и во всех своих работах ученый А.А. Шахматов списал ошибки и откровенную ложь на летописцев" [Б2, с. 194-195], ибо боялся-де говорить известную ему правду о злодеяниях "екатерининской комиссии".
Сам князь Святослав, оказывается, никак не мог произнести своей дружине знаменитые слова "да не посрамим земли русской, но ляжем костьми, мертвые сраму не имут", ибо "подобное политическое словоблудие могло появиться в тексте не ранее появления самой Российской империи, то есть не ранее XVIII века" [Б2, с. 196]. Жаль, искренне жаль, что Святослав Игоревич не может хоть на одну минуту побеседовать с нынешним блудословом с глазу на глаз и своими руками объяснить, что о нем думает. Мы же отметим мастерство "комиссии по фальсификации истории", с которым ею были "подделаны" византийские хроники, так излагающие знаменитые слова князя:
"Погибла слава, которая шествовала вслед за войском росов, легко побеждавшим соседние народы и без кровопролития порабощавшим целые страны, если мы теперь позорно отступим перед ромеями. Итак, проникнемся мужеством, [которое завещали] нам предки, вспомним о том, что мощь росов до сих пор была несокрушимой, и будем ожесточенно сражаться за свою жизнь. Не пристало нам возвращаться на родину, спасаясь бегством; [мы должны] либо победить и остаться в живых, либо умереть со славой, совершив подвиги, [достойные] доблестных мужей!" [61, с. 79].
Негодование Белинского также вызывает известный по ПВЛ поход Святослава на вятичей:
"В лето 6472 [964]. И иде на Оку реку и на Волгу, и налезе вятичи, и рече вятичемъ: "Кому дань даете?". Они же реша: "Козаромъ по щьлягу от рала даемъ" [1, стб. 65].
Конечно же, истинно "украинский князь Святослав" мог испытывать к этим таежным рекам лишь нестерпимое отвращение, а упоминания о "выдуманных" вятичах вписаны все теми же злодеями-фальсификаторами. "Комиссия не удержалась от искушения подкинуть в описание походов князя Святослава незначительную вставку, чтобы направить военные усилия князя в "колыбель великороссов" [Б2, с. 194]. Этого-де не могло быть, ибо "ходить в низовья Волги через Оку не было смысла" [Б2, с. 195]. Почему и отчего из притока нельзя войти в главную реку и спуститься по ней до устья Белинский не объясняет – мол, и так понятно, что... нельзя! Ибо начальник главка запретил! Помалкивает он и том, что наследнику Святослава Владимиру пришлось еще один раз вразумлять мятежных вятичей, а ПВЛ четко говорит: это покорение было для них уже вторым: "в лето 6490 [982]. Заратишася вятичи, и иде на ня Володимиръ, и победи я второе" [1, стб. 83].
Итак, мы подошли уже ко княжению Владимира Святославича. Возвращение "под власть Киева" северных земель (за исключением, конечно же, забытой всеми и никому не нужной московской "тайги") описывается Белинским так: "в 980 году Ярополк военной силой захватил Новгород. Но младший брат Владимир его подло убил. Еще раз обращаю внимание: даже Новгород становился киевским владением только после покорения его силой" [Б2, с. 198]. Все просто, как мычание – киевский князь пришел и завоевал Новгород, а потом был "подло убит" неведомо из каких коноплей выпрыгнувшим братом. Это ничего, что Владимир княжил именно в Новгороде и как новгородский князь вел войну с Ярополком. Да, в ходе этой войны Владимир сперва был побежден и изгнан из своих владений, но потом вернулся на Русь с варяжской помощью и, в свою очередь, сверг и умертвил брата. Так что если кто кого и завоевывал, то не Киев Новгород, а наоборот, причем делал это, как минимум, трижды. Во всех столкновениях IX-X веках между русскими "севером" и "югом" победили именно северные правители – Олег, Владимир и Ярослав, в то время как "выдвиженцы" Киева Аскольд, Ярополк и Святополк проиграли во всех трех случаях из трех.
Белинский скромно помалкивает о том, что Владимир не только пришел к власти волею северян, но даже взялся расселять их для защиты южных границ по "истинно-украинским" землям. И среди этих колонистов оказались – о ужас! – те самые вятичи и даже, сказать страшно – финно-угорская чудь, с их каменными молотками и настриженными из шерсти жучек одеяниями:
"И рече Володимеръ: "Се не добро, еже мало городъ около Киева". И нача ставити городы по Десне, и по Востри, и по Трубежеви, и по Суле, и по Стугне. И поча нарубати мужи лучьшии от словень, и от кривичь, и от чюди, и от вятичь, и от сихъ насели грады" [1, стб. 121].
И того мало, эта самая чудь достигла при внуках Владимира весьма влиятельного положения. В 1072 г. некто Микула Чудин в 1072 г. был княжеским наместником в Вышгороде. В ближайшее же окружение князя Изяслава Ярославича, а затем и его брата Всеволода входил и брат Чудина по имени Тукы, – то-то, наверно, злорадствовали Мусин-Пушкин с Карамзиным, выводя на страницах летописей эти страшные и такие непривычные славянскому уху имена! Сыновья обоих финно-угров тоже были княжескими боярами – Иванко Чудинович в Чернигове, а Станислав Тукиевич в Переяславле, где занимал пост тысяцкого. Горько, чай, рыдала земля украинская от такого над ней надругательства таежных лесовиков!
С именем князя Владимира связано следующее наглое преступление московских обманщиков: на сей раз они осмелились поместить двух сыновей "украинского князя" правителями в какие-то "зачастокольные избы" своего таежного болота – ужасный Ростов и не менее кошмарный Муром:
"Само упоминание финских столиц является полным абсурдом для "князя-славянина". Эти вставки могли появиться в летописи гораздо позже. А рассказ про убийство Бориса и Глеба полностью фальсифицирован. В этом просматривается дальняя цель" [Б2, с. 201]. И далее: "желая добыть для страны Моксель киевских князей, московиты полностью фальсифицировали события после смерти святого Владимира, которая наступила в 1025 году, и смерти его сыновей Бориса и Глеба" [Б3, с. 47].
Белинский твердо уверен, что "разоблачил" злодеяния Екатерины II и ее подручных, опоганивших тексты "чистых как слеза" украинских летописей:
"У князя Владимира было 12 сыновей. Но "общероссийские летописные своды" почему-то рассказали нам под 988 годом про выделение уделов лишь четырем. И что интересно: не по старшинству, а вразброс. Читаем летопись: "посади убо сего оканьнааго Святопълка въ княжении Пиньске, а Ярослава Новегороде, а Бориса Ростове, а Глеба Моуроме". Про других сыновей князя – молчок: мол, знал летописец, где сидели князья, но не считал необходимым говорить про это" [Б2, с. 200-201].
В этой фразе нагромождены такие горы глупости и невежества, что и не знаешь, с какой стороны к ним подойти. Начнем с того, что само количество сыновей Владимира известно именно по "общероссийским летописным сводам". ПВЛ под 988 г. описывает полное распределение волостей между княжичами таким образом:
"Бе бо у него сыновъ: Вышеславъ, Изяславъ, Ярославъ, Святополкъ, Всеволодъ, Святославъ, Мьстиславъ, Борисъ, Глебь, Станиславъ, Позвиздъ, Судиславъ. И посади Вышеслава в Новегороде, а Изяслава Полотьске, а Святополка Турове, а Ярослава Ростове. Умершю же старейшему Вышеславу Новегороде, посадиша Ярослава Новегороде, а Бориса Ростове, а Глеба Муроме, Святослава Деревехъ, Всеволода Володимери, Мстислава Тмуторокани" [1, стб. 121].
Как видим, здесь упоминаются все те же ненавистные Белинскому Ростов и Муром, куда – о горе и ужас! – были отправлены княжить Борис и Глеб. Любые белинизмы о создании этого текста во времена Екатерины II опровергаются нашим свидетелем XV века, почтенным Яном Длугошем. По его словам, Владимир:
"разделил королевство между сыновьями: Вышеславу, старшему по рождению, дал Новгород, Изяславу – Полоцк, Святополку – Туров, Ярославу – Ростов; но после того как Вышеслав был похищен роком, Ярослав [получил] Новгород, Борис – Ростов (Rostow), Глеб – Моронье (Moronye), Святослав – древлян, Всеволод – Владимир, Мстислав – Тмутаракань" [93, с. 88, 235].
Фраза же "посади убо сего оканьнааго Святопълка въ княжении Пиньске, а Ярослава Новегороде, а Бориса Ростове, а Глеба Моуроме" содержится в памятнике, известном как "Сказание, страсть и похвалу святую мученику Бориса и Глеба". Это отдельно составленное житие святых князей. Исследуя отношение этого текста к летописному, А.А. Шахматов замечает, что "составитель сказания умышленно ограничился только четырьмя названными князьями, ибо "о них и повесть си есть"; но, как видно из его слов, он знал, где сидели и другие князья, знал, следовательно, летописную статью 988 года ("и посажа вся по роснамъ землямъ въ княжении, иже инъде съкажемъ") [145, с. 33-34].
Сложность для историков заключается в том, что существует еще один вариант жития святых князей. Это так называемое "Чтение о житии и о погублении блаженую стростотьрпьцю Бориса и Глеба". В отличии от "Сказания" и ПВЛ, у этого текста достоверно известен автор. Им был монах Киево-Печерской лавры преподобный Нестор. Есть много версий того, в какой степени "Нестор-летописец" принимал участие в написании или редактировании ПВЛ, на каком этапе составления летописного свода и в какое время он работал над дошедшим до нас текстом, но "Чтение", несомненно, принадлежит "Нестору-агиографу".
И вот этот вариант имеет существенные различия от текста ПВЛ и "Сказания" относительно мест княжений Бориса и Глеба. Мы уже рассказывали, как Шахматов путем сличения и анализа всех трех памятников – ПВЛ, "Сказания" и "Чтения" – выдвинул гипотезу, что именно последний, Несторов текст был самым ранним из трех. Белинский тут же забывает, что историк – "шулер" и "верный слуга московского шовинизма", – и прыгает от радости: "Отлично! Наконец профессор А.А. Шахматов добился истины. И далее он говорит истинную правду" (сокращенно цитируется Шахматов):
"Нестор сообщает, что Глеб был при отце, но после смерти последнего бежал из Киева, опасаясь Святополка. Летопись говорит, что Борис получил в удел Ростов, Нестор вместо Ростова называет Владимир. Летопись утверждает, что Глебовым уделом был Муром, Нестор представляет дело так, что малолетний Глеб совсем не был посажен отцом на удел. Трудно допустить, чтобы Нестор умышленно извратил летописные данные..." [145, с. 53-54].
Далее же начальник главка от имени академика усердно натягивает сову на глобус: "профессор А.А. Шахматов в свойственном ему стиле доказал, что князь Киевский Владимир Великий никакого отношения к ростовско-суздальской земле не имел. А вымыслы про назначение в финскую землю в 988 году его сыновей Бориса и Глеба – неправда позднейших времен. Профессор взял под личную защиту великого Нестора, подтвердив, что давний летописец к фальсификации летописи не имел никакого отношения. Он, правда, не сообщил, кто и когда внес изменения в киевскую летопись. Скорее всего, такое говорить было нельзя" [Б2, с. 204].
Естественно, что никакой подобной глупости Шахматов никогда не доказывал. И не считал ПВЛ или "Сказание" "фальсификацией" или "подделкой" истинного текста, "по человеческой глупости или по незнанию" [Б2, с. 187]. Он лишь показал, что так называемый Начальный свод ПВЛ был создан позже текста Нестора-агиографа, но при том не позже конца XI века. А составители обоих текстов могли пользоваться разными источниками, и не всегда более ранний из них был более достоверным. По словам историка, "разумеется, мы не спросим: кто же прав – Нестор или Начальный свод? Для решения такого вопроса мы совсем не располагаем данными" [145, с. 69].
Стремясь "опровергнуть московскую фальсификацию" про княжения Бориса и Глеба в "колыбели великороссов", Белинский ставит под сомнение даже сам факт гибели святых князей. В этом, дескать, не было необходимости: "весь анекдот великороссийской летописной неправды заключается в том, что сыновья Владимира Борис и Глеб не были в роду старшими, а поэтому не могли быть претендентами на великокняжеский престол. Чувствуете весь комизм ситуации – старшие братья остались в живых, а младших Святополк испугался?" [Б2, с. 202]
Но ведь именно об убийстве младших братьев старшим и писал в "Чтении" тот самый "великий Нестор", именем которого Белинский клянется и божится! И для Нестора-агиографа как раз то, что младшие не подняли руки на старшего в роду, и стало доказательством святости Бориса и Глеба. Не говоря уже о том, что старше Святополка среди живших на тот момент сыновей Владимира могли быть разве что Изяслав, получивший Полоцкое княжество как наследие матери и от борьбы за власть в Киеве устранившийся, и Ярослав, с которым Святополк упорно боролся и, конечно, охотно бы убил, если б это у него получилось.
Шахматов в этой связи обратил внимание на то, что в "Чтении" Нестора прослеживается очень актуальный именно для того времени политический подтекст. Инок Нестор не просто от пущего благочестия создавал свою версию жития, а хотел в ней дать пример современному ему поколению князей. Внимание историка привлекла фраза Нестора: "видите ли, братие, коль высоко покорение, еже стяжаста святая къ стареишому брату си; аще бо быста супротивилися ему, едва быста такому дару чюдесному сподоблена отъ Бога; мнози бо суть ныне детескы князи, не покоряющеся старешимъ и супротивящеся имъ и оубиваеми суть, ти не суть такой благодати сподоблени, якоже святая сия". По мнению Шахматова, "единственно подходящий момент, когда уместно было сказать об убиении "детъскыхъ" князей, супротивящихся старейшим, был во второй половине XI столетия 1078 год, когда в битве у Нежатины Нивы был убит в сражении с дядей Изяславом Борис Вячеславич, и 1079 год, когда был убит половцами Роман Святославич, приведший их против дяди Всеволода. Имена Бориса и Романа не могли не вспомниться Нестору, когда он обратил свое увещательное слово к тем о братолюбии и покорении старшим" [145, с. 47].
Противоречия между Борисом и Глебом в летописи и теми же персонажами в их житиях, несомненно, есть, и многие поколения историков ломают копья вокруг этих моментов [180]. Самое главное из этих несоответствий касается возраста святых князей в момент их гибели. ПВЛ сообщает, что матерью обоих братьев была болгарская княжна: "а от болгарыни – Бориса и Глеба". Это подтверждается тем, что само имя "Борис" – болгарское. Имя "Глеб" по происхождению скандинавское, однако крестные имена обоих князей – Роман и Давид – совпадают с именами двух живших в то время болгарских царей.
Если мать Бориса и Глеба происходила из болгарской правящей династии, то оба княжича не могли родиться позже 988-989 гг., когда их отец женился на греческой царевне Анне и отослал всех прежних жен. Таким образом, на момент гибели даже младшему Глебу не могло быть менее 25-26 лет, возраст зрелого мужчины. Между тем в церковных легендах Глеб изображается юным беззащитным отроком, которого ведут на смерть "акы агня незлобиво". Нестор-агиограф особенно подчеркивает несовершеннолетие Глеба как свидетельство его невинности и чистоты.
А если мы в качестве эксперимента отбросим всю церковную составляющую истории Бориса и Глеба, то могут возникнуть очень интересные выводы. Например, загадочное для многих поколений историков перемещение Глеба из Мурома на берег Волги (т.е. на север) может быть с достаточной степенью вероятности объяснено начатой Владимиром незадолго до смерти войной против его мятежного сына Ярослава, правившего тогда в Новгороде. Вполне вероятно, что великий князь призвал к военным действиям и всех послушных ему детей, и в этом случае муромский князь Глеб – не мальчик, но муж – со своей дружиной мог двинуться на север, чтоб оттуда вторгнуться в новгородские земли. А уже потом, узнав о смерти отца, повернул на запад и где-то на Днепре встретил свою смерть. И, заметим, случилось это в 1015 г., а не в 1025-м, как по своему незнанию думает Белинский.
Кроме того, в "деле Бориса и Глеба" имеются и независимые иностранные источники. Тот же Длугош, например, пишет, что Борис и Святополк нанесли поражение Ярославу, и уже после этой победы Святополк убил брата. А есть еще и скандинавская "Сага про Эймунда", главный герой которой со своей дружиной отправился из Норвегии в страну Гардарики, где поступил на службу к конунгу города Хольмгард Ярицлейфу, сыну конунга Вальдамара. Наниматель же Эймунда в этой время вел войну со своим братом Бурицлавом, конунгом Кенугарда. После долгих перипетий викинги внезапно напали на шатер Бурицлава и отрубили ему голову, которую и принесли брату. Гардарики саги это старое скандинавское название Руси, Хольмгард – Новгород, Кенугард – Киев, конунг Ярицлейф Вальдамарсон это, конечно, будущий Ярослав Мудрый, а вот кто такой убиенный его наемниками брат Бурицлав? Вот тут и возникают вопросы...
Легенда о Борисе и Глебе складывалась на протяжении как минимум шестидесяти лет после гибели обоих князей. На ее создание влияли две могущественные силы. Князь Ярослав, открытый мятежник против отца, стремился доказать свое законное право на великокняжеский престол как мстителя "окаянному" братоубийце Святополку. В том же были заинтересованы и следующие поколения Ярославичей. В свою очередь, Церковь хотела изобразить князей Бориса и Глеба невинными овечками, истинными образцами христианского смирения и "непротивления злу". В результате же совместных действий княжеской и церковной власти возникло воистину самое темное место в истории Руси.
Но даже если мы допустим, что все сведения ПВЛ о княжении Бориса в Ростове и Глеба в Муроме действительно недостоверны, то и тогда ничего особо не изменится. Первым князем ростовско-суздальской земли окажется в таком случае Ярослав Владимирович, который после смерти старшего брата был переведен отцом в Новгород: "и посади Вышеслава в Новегороде, а Ярослава Ростове. Умершю же старейшему Вышеславу Новегороде, посадиша Ярослава Новегороде". Никаких противоречий в этом сообщении летописи не отыскано. Вещественным же доказательством княжения Ярослава в тех землях является основание им города Ярославль. Это название появляется в летописи уже под 1071 г., следовательно, город не мог быть основан позже этой даты. Других же Ярославов кроме Мудрого среди русских князей до того года не было.
Не забывал про эти земли Ярослав и в последующие годы. Один связанный с ним эпизод излагается Белинским так: "1024 год. В ростовско-суздальской земле в том году свирепствовал голод. Князя в той земле не было, княжеской власти – также. Как свидетельствует Российский энциклопедический словарь... именно Булгарская держава в 1024 году спасала мерян от голода. Подобные свидетельства есть также в татарских (булгарских) источниках" [Б2, с. 215].
Какие-либо "булгарские источники" об истории Руси и даже ростовско-суздальских земель никому не известны. Белинский же в который раз демонстрирует жалостное непонимание им разницы между историческими источниками, исследованиями и пособиями. Российский энциклопедический словарь (пособие) ниоткуда не мог почерпнуть сведений о событиях 1024 г. кроме как из трудов историков (исследование), те же опирались на летопись (источник). Источник же в данном случае это статья ПВЛ, а она говорит вот что:
"В лето 6532 [1024]. Ярославу сущу в Новегороде тогда. В се же лето въсташа волъхви в Суждали, избиваху старую чадь по дьяволю наущенью и бесованью, глаголюще, яко си держать гобино [прячут зерно – А.К.]. Бе мятежь великъ и голодъ по всей той стране; идоша по Волзе вси людье в Болгары, и привезоша жито, и тако ожиша. Слышав же Ярославъ волхвы, приде Суздалю; изъимавъ волхвы, расточи, а другыя показни, рекъ сице: "Богъ наводить по грехомъ на куюждо землю гладом, или моромъ, ли ведромь, ли иною казнью, а человекъ не весть ничтоже". И възвративъся Ярославъ, приде Новугороду, и посла за море по варягы" [1, стб. 147].
Из этого сообщения ясно видно, что жители Суздаля в 1024 г. были именно земледельцами, вопреки уверениям, что-де "проживая в заболоченной таежной местности, финские племена в то время не занимались земледелием" [Б2, с. 221]. Будь они охотниками и рыболовами, как распинается Белинский, то каким же образом недостаток "жита" мог у них вызвать голод? Понятно, что под знамена волхвов стали люди, которые питались зерном. Быть может, этим волхвам и хотелось, чтобы поблизости не было ни князя, ни княжеской власти, но оказалось, что и то и другое имеется, и может быстро показать свои острые клыки. Услышав о языческом движении, князь Ярослав пришел из своей новой столицы в Новгороде и подстрекателей мятежа заточил или казнил. И как-то не обратил внимания, что у "диких мерян" была-де обязательная привычка "убивать всех пришельцев" [Б2, с. 68, 89].
Статья ПВЛ 1024 г. содержит первое летописное упоминание города Суздаль. Вопреки голословным уверениям Белинского [Б2, с. 221] это название по своей этимологии – не финно-угорское, а славянское, и связано с глаголом "создавать". В этой связи можно вспомнить и первые иностранные источники, в котором такой топоним появился. Суздаль несколько раз упоминается в скандинавских сагах. Например, "Сага про Гаука", которая описывает времена норвежского короля Гаральда Светловолосого (около 875-945 гг.), упоминает о путешествии ее персонажей в Surtzdal. А в "Саге о Торлейве" ее главный герой Торлейв Асгерссон, придворный скальд датского короля Свена Вилобородого (986-1014 гг.), около 990 г. проник в резиденцию своего врага ярла Гакона Сигурдсона, выдав себя за купца из города Syrgisdal [158, с. 154, 309].
Все точки над "i" расставляет скандинавский географический текст "Геймслюсинг" (Heimslysing), содержащий "описание земель, которые есть в мире". Вот, что его автор пишет о Руси:
"В том государстве есть та, которая называется Руссия (Ruzcia), мы называем ее Гардарики (Gardariki). Там такие главные города: Морамар (Moramar), Ростова (Rostofa), Сурдалар (Surdalar), Хольмгард, Сюрнес, Гадар, Палтескья, Кенугард" [157, с. 547].
Тот же список городов Руси содержится и в "Саге про Орвара Одда". Хольмгард списка это Новгород, Кенугард – Киев, Палтескья – Полоцк, какие русские поселения викинги называли "Сюрнес" и "Гадар" до сих пор неизвестно, т.к. скандинавы охотно пользовались своими собственными названиями иноземных топонимов. А вот что напоминают имена Морамар, Ростова и Сурдалар, думаю, ясно каждому. И варягам, объездившим вдоль и поперек всю Гардарики, "страну городов", эти самые русские города были, конечно, известны много лучше современных нам сказочников на исторические темы.
Перед своей смертью в 1054 г. Ярослав разделил свои земли между детьми. Самый подробный список розданных волостей сохранился в Новгородской первой летописи младшего извода:
"И преставися Ярославъ, и осташася 3 сынове его: вятшии Изяславъ, а среднии Святославъ, меншии Всеволод. И разделиша землю, и взя болшии Изяславъ Кыевъ и Новъгород и иныи городы многы киевьскыя во пределех; а Святославъ Черниговъ и всю страну въсточную и до Мурома; а Всеволод Переяславль, Ростовъ, Суздаль, Белоозеро, Поволожье" [3, с. 160].
Такая географическая разбросанность владений младшего сына Всеволода дает Белинскому мнимые основания опровергать очередные "московские измышления": такого соединения под одним князем Ростова и Переяславля не могло-де быть, ведь ростовско-суздальская земля "лежала за тысячу километров в непроходимых топях и дебрях, да к тому еще и за черниговскими владениями. Так заумно сочинялась великорусская история" [Б1, с. 61]. А, между тем, подобное распределение владений средневековых феодалов было явлением для тех времен привычным. Вот, как французский историк Огюстен Тьерри описывает раздел в 561 г. Франкского королевства между четырьмя сыновьями короля Хлотаря – Харибертом, Гонтрамном, Хильпериком и Сигибертом:
"Города, по-видимому, считались при дележе отдельно, поэтому образовалось множество чересполосных владений, которые трудно перечислить в подробностях. Так, Руан и Нант относились к королевству Хильперика, Авранш и Марсель – к королевству Хариберта, Гонтрамну достался Арль, Сигиберту – Авиньон и Суассон, столица Нейстрии, причем последний окружен был городами Санлис, Мо, Лан и Реймс, принадлежавшими Парижскому и Австразийскому королевству" [272, с. 27-28].
Когда же после смерти Хариберта оставшиеся братцы Меровинги решили "сообразить на троих", то карта тогдашней Франции превратилась вообще в полный хаос:
"Город Санлис, подобно Парижу, был также разделен, но только на две части. Из остальных городов образовали три участка (или доли). В основу деления было положено количество собираемых податей; географическое же положение во внимание не принималось. Поэтому границы трех королевств сделались еще неопределеннее, чересполосные владения умножились. Королевства как бы вклинивались одно в другое" [272, с. 42]. Заметим, что эта внешне хаотическая "чересполосица" имела, тем не менее, свой смысл – все короли Меровинги таким путем получали свое "причастие" в центральной области всего государство между Луарой и Маасом, точно так же, как Рюриковичи делили "Русскую землю в узком значении" [161, с. 9, 34-37].
Принадлежность Ростова и Суздаля к владениям Всеволода подтвердил затем сын последнего Владимир Мономах (об этом мы расскажем далее). Однако некоторые историки, например, С.М. Соловьев и В.А. Кучкин, предположили, что часть северо-восточных волостей могла на какое-то время быть передана младшим братом среднему. Такая гипотеза основана на летописном сообщении, которое у Белинского излагается, как всегда, кривообразно:
"1071 год. В ростовско-суздальской земле в этом году с небольшой дружиной находился новгородец Ян Вышатич. Якобы собирал дань для Новгорода. Княжеской власти в земле не существовало. Что интересно: христианской религии среди финских племен не замечено. Священника, который был среди дружинников, меряне-язычники убили. Население относилось к пришельцам враждебно" [Б2, с. 215].
Начнем с того, что упомянутый Ян Вышатич никакой не новгородец, а хорошо известный киевский боярин, "добрый старец Янь", многие рассказы которого, по словам одного из авторов или редакторов ПВЛ, вошли в текст летописи. И собирал дань воевода не "для Новгорода", а для князя Святослава Изяславича: "в се же время приключися приити от Святослава Яневи, сыну Вышатину, сбирати дани".
Именно в качестве княжеского наместника он и судил вождей восставших язычников как подданных своего суверена: "Янь же, испытавъ, чья еста смерда, и уведавши ясно, яко суть князя Святослава, и сице пославши к ним, и рече иже суть около двою кудесникъ: "выдаите ми волхва та семо, яко тии суть смерди моего князя" [1, стб. 175].
Автор пытается уверять, что "княжеской власти в земле не существовало". Иного мнения были оба язычника, которые от суда воеводы апеллировали к суду самого князя: "Она же рекоста: "Нама стати пред Святославомь, а ты не можеши створити ничтоже" [1, стб. 177].
Святослав Изяславич был первоначально князем черниговским, муромским и тмутараканским, но в 1073 г. выгнал из Киева старшего брата Изяслава и занял его место, которое и удержал до своей смерти 27 декабря 1076 г. Это позволило С.М. Соловьеву высказать гипотезу, что описанные события произошли в этот промежуток времени. Как заметил в этой связи В.А. Кучкин, "летописная статья 1071 г., восходящая к Начальному своду конца XI в., явно искусственно объединяет известия не только разного происхождения, но, по-видимому, и разных годов. Под 1071 г. читаются следующие друг за другом четыре рассказа о волхвах, действовавших в Киеве, Поволжье, среди чуди и в Новгороде. Начинаются они с весьма неопределенного указания на время событий: "в сиа же времена...", "и бывши единою скудости в Ростовьстеи области...", "в си бо времена и в лета..." [181, с. 62].
С.М. Соловьев предположил, что после изгнания Изяслава весной 1073 г. средний и младший брат переделили волости "на двоих", причем Всеволод получил Чернигов и Туров, а взамен отдал Святославу часть своих северных владений. По словам В.А. Кучкина, "из приведенного отрывка видно, что кормленщик Святослава Ярославича не сразу покарал волхвов... Лишь выяснив, что это смерды его князя, что они подсудны Святославу, он потребовал их выдачи, а затем жестоко расправился с ними. Подобное определение юридического статуса волхвов было бы совершенно излишним, если бы вся Ростовская земля и ее население находились под юрисдикцией Святослава Ярославича. Очевидно, Святослав владел лишь частью ростовской территории" [181, с. 64].
Белинский с удовольствием распинается про то, что события 1071 г. доказали, дескать, полное язычество "предков московитов", которые даже убили сопровождавшего Яна священника. Однако по тексту ПВЛ священник погиб не при нападении язычников на христиан, а совсем наоборот: "отроци" Вышатича бросились "сещи" мятежников, и в этой стычке "убиша ту попина Янева" – боевые, видать, бывали в те времена боярские попы! После этой стычки жители Белоозера сдались, выдали Яну кудесников, а потом сами же их линчевали, мстя за убитых родственников: "Он же рече: "мьстите своих". Они же поимше, убиша я и повесиша их на дубе" [1, стб. 178].
Впоследствии мы более подробно расскажем о процессе принятия христианства насельниками Волго-Окского междуречья. Пока же поведаем эпическую историю покорения чудских болот нашим новым персонажем.
Добро пожаловать на Balto-Slavica, форум о Восточной Европе.
Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем нашим функциям. Зарегистрировавшись, вы сможете создавать темы, отвечать в существующих темах, получить доступ к другим разделам и многое другое. Это сообщение исчезнет после входа.Войти Создать учётную запись
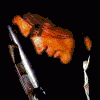
РЮРИКОВИЧИ И ТАЕЖНЫЕ ПИТЕКАНТРОПЫ
Started By
korvin
, мая 29 2016 18:20
#2

 Опубликовано 29 Май 2016 - 18:32
Опубликовано 29 Май 2016 - 18:32

#3

 Опубликовано 02 Июнь 2016 - 16:28
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 16:28

Цитата(lana @ 29.5.2016, 22:32) (смотреть оригинал)
Ну вот эта фраза - просто жуть. Несколько раз ее прочла, прежде, чем дошло, о чем здесь говорится:
Костомаров как главный осведомитель Белинского по части содержания ПВЛ и далее попадает в поле зрения автора, и – как и все иные историки – подвергается извращениям.
Костомаров как главный осведомитель Белинского по части содержания ПВЛ и далее попадает в поле зрения автора, и – как и все иные историки – подвергается извращениям.
Но по сути то верно? Или Вы не согласны, что Билинский перевирает Костомарова не моргнув глазом?
Ответить в эту тему

Посетителей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться
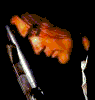

 Наверх
Наверх Ответить
Ответить Цитировать
Цитировать

