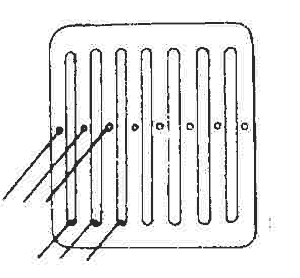Георги Иоганн-Готлиб, изд. К.В. Миллер. Издано Спб., 1776 - 1777 гг.
Лопари.
Лопари, или лапландцы, называют себя саамами или сомами, а страну свою Самеандой и Самеладдой. Они живут в Архангельском наместничестве, в Кольском уезде, и занимают простирающуюся выше Ботнического залива на север, между находящимся в западной стороне Северным, а в восточной Белым морями землю, лежащую по российскому атласу между 67 и 75 степенями северной широты и состоящую как из подавшихся наиближе к северу Алтайских гор, так и из склонения оных на востоке и юге в низменные, болотистые, дикие, лесистые и озерами изобилующие, гористые места.
Норвежские, шведские и российские пределы сошлись там так, что Шведская Лопария в южной самую большую, Российская — в восточной, а Норвежская — в северной стороне высоких гор меньшую занимает часть земли. По причине неплодородия тамошних гор и суровости воздуха, так, как и потому, что лопари живут почти зверообразно, не может сей народ соответственно обширности занимаемой им страны быть многолюден. Российская Лопария заключает около тысячи верст в поперечнике; но больше 1200 не наберется там лопарских семей. Норвежская Лопария гораздо меньше, а Шведская, напротив того, несравненно больше занимает пространства; воздух тут благораствореннее, но жителей столь же мало.
Лопари суть финский народ. Они назывались еще и за шестьсот лет до наших времен стрико финнами (беглыми финнами), и вероятнее кажется, что нынешние финны, отщетясь от них, переселились в привольнейшие места, для спокойнейшей и выгоднейшей жизни, нежели противное сему мнение. Они издревле жили на своих горах и управляемы были собственными владельцами; но напоследок покорены шведами, и теперь нет у них и памяти дворянских семей.
Росту они среднего. Почти у всех у них вид плоский, щеки необыкновенно запалые, глаза темно-серые, борода жидкая, волосы русые, густые, прямые, а цвет в лице, от воздуха, дыму и неопрятности, изжелта-смуглый. От суровой своей жизни бывают они сложением крепки, проворны и изгибчивы, но притом и лености подвержены.
Разум у них обыкновенный простонародный. Впрочем, они миролюбивы. Начальникам своим очень покорны и почтительны, к воровству не склонны, постоянны, в обхождении веселы, но недоверчивы, в торгах плутоваты, об отечестве своем и общежительственном устроении очень много думают, и столько как оными, так и самими собой пленены, что, будучи вне отечества, умирают больше от сокрушения своего по родине.
Женщины их росту малого, ласковы, не развращены, нарочито бывают пригожи и чрезвычайно пугливы; в чем и мужчины им подобны, но не совершенно. Ежели попадет на них искра, нечаянно услышат шорох, также, когда увидят внезапно чужих, хотя с лица и недурных, людей, либо другое что не важное, но для них странное, то находит от того на них шаль, и что им ни попадется в руки, тем и бьют приближающихся к ним, а когда очувствуются, то ничего не помнят. Смотря на многочисленную их беседу, можно приметить, что слушающие пошевеливают устами так точно, как и те, кто действительно разговаривают.

Язык их, заимствующий начало свое от финского, имеет столько наречий, что и сами лопари с трудом всех своих одноплеменцев слова разумеют. Все слоги произносят они столь жестоко, что пение их по сей причине бывает подобно вою и лаю наипротивнейшему. Они не знают ни печатных, ни письменных букв; но употребляют начертанные, по подобию каких ни есть зверей и вещей, клейма, которые кладут на свои бирки, или памятники, да и вместо письменного заручательства прилагают. Месяцы называют они по естественным над растениями и зверьми происходящим явлениям. Так, например, называют они месяц май чесмес (лягушечий), и проч. Небесные светила различают они также недурно: Медведицу называют они луком (цоука). Семизвездие — скотским сердцем (теиоко), комету — долгохвостой звездой (зейпикснассе), и так далее. Многие упражняются и в предсказаниях, на звездочетстве основываемых.
Почтение оказывают они между собой по летам да по имению. Жадность к богатству есть самая большая их страсть, и потому очень часто вступают они в тяжбы за наследство. Корыстолюбие отвлекает их от всякого о бедных соболезнования, и как у них не водится, чтоб ездил кто на том олене, на коем везено мертвое тело, то и о родительских похоронах происходят часто между детьми долговременные споры. Избегая за какое-нибудь и неважное преступление наказания, уходят они иногда из своего уезда в другой, с этим порубежный; но сие переселение кажется им столь же важно, как европейцу путешествие в Индию.
Народ сей не отстал и по принятии христианского закона от кочевой своей жизни, да и то надобно сказать, что сельское домостроительство в занимаемой им стране было бы неприбыльно. Впрочем, разделяется оный на нагорных и поморских жителей.
Нагорные лопари, кои со стадами своими, из неравного числа оленей состоящими, живут как на горах, так и по близости оных, почти беспрестанно перебираются с одного места на другое. Их можно назвать преискусными и рачительными скотоводцами и, в сравнении с поморскими лопарями, богатыми: ибо есть между ними такие зажиточные люди, кои имеют сот по шести и по тысяче оленей, да, сверх того, еще наличные деньги или серебряную посуду. Оленей своих замечают они на ушах и делят их на столько разных родов, что, хотя считать и не умеют, узнают с первого взгляду, которых не достает. У кого животных сих немного, тот дает каждому особое название. Излишних же оленей холостят, раздавливая зубами семенные хранилища. Самцы олени все бодры, смирны, велики, дюжи и красивы; в рассуждении чего и употребляют их лопари всегда в поездки, и притом столь они им милы, что ежели мужчина или женщина вздумает кому сказать ласковое слово, то называет его оленем (гаерце ец).

Поморские лопари, называемые также лесными и звероловными, потому что живут летом около морей и озер, а зимой в лесах, заимствуют пропитание свое от рыбной и звериной ловли и избирают всегда под жилища свои привольные для сих промыслов места. Однако ж большая их половина держит у себя и оленей, по незнатному числу.
С одного места на другое переселяются они редко, и суть, впрочем, рачительные и искусные звероловы. Огнестрельное оружие совсем почти вывело у них из употребления лук и стрелы. Ежели кто-нибудь из нагорных лопарей придет в бедность, то уступает остальных своих оленей кому-нибудь из приятелей, а сам принимается для исправления своего за звериный промысел, который и продолжает до тех пор, пока обстоятельства его не переменятся. Диких оленей, волков и других сим подобных зверей бьют они больше дубинами, потому что на лыжах свободно их догоняют. Медведей же сперва подстреливают, а потом рогатинами с ними управляются.
Сверх оленья скотоводства, также рыбной и звериной ловли, делают мужчины для себя небольшие, легкие и плотные лодки, подобные им видом сани, оленью сбрую, всякую деревянную посуду, чашки, стаканы и прочую, которую либо украшают недурной резьбой, либо обкладывают костью, оловом и рогом. Мужчины исправляют также без помощи жен и всю поваренную работу.
Напротив того, женщины вяжут сети, сушат на солнце мяса, вялят рыбу, доят ланей, приуготовляют сыр, выделывают мягкую рухлядь, теребят звериные жилы для употребления в шитье вместо ниток, волочат проволоку из олова; причем, за неимением волочильных желез, пробуравливают в оленьих рогах дырочки и делают сперва круглую, а потом плоскую проволоку. Они также портничат, вышивают волоченным оловом, серебром, мишурой и шерстью узоры и упражняются в красильном искусстве.
Живут в подобных полевым ставкам шалашах, состоящих из вколоченных в землю и кверху, будто куполом, сведенных столбиков. В поперечнике бывают шалаши их по пяти, а в вышину с небольшим на одну сажень. Они покрывают оный, сообразуясь с течением времени и своими достатками, хворостом, дерном, берестой, холстом, толстым сукном, войлоками или ветхими оленьими кожами. Вход в шалаши их закрывает навес, обтянутый сукном, войлоком или другим чем. Посередине бывает для разводу огня обкладенное каменьями место, над которым опущена для вешания котла цепь. Вокруг огня сыплют они еловую труху и покрывают оную подложенными мехом одеялами, войлоками или иным чем.
Они не могут в шалашах своих стоять прямо, но сидят около огня на цыпках. Ночью спят все они нагие и кладут промеж себя для отделения ночлегов жерди. Платьем своим одеваются, а иногда кладут оное и под себя. В зимнее время надевают, ложась спать, на босые ноги теплые кисы.
Пожитки их составляют чугунные котлы, украшенные изрядной резной работой чашки, стаканы, ложки, а иногда водятся у них также оловянные и серебряные стаканчики и употребляемые ими в зверином и рыбном своем промысле снасти. А дабы не таскать всего с собой, когда вздумают на другое перебраться место, то делают в лесах, где кто захочет, на срубленных повыше сажени от корня деревах подобные нашим голубятням чуланы, в которые кладут пожитки свои и съестные припасы. Они никогда оных не запирают, однако пропаж не бывает.
Что касается до одеяния их, то белье совсем у них не в употреблении. Мужчины носят узкие, за самые лодыжки припущенные, штаны, востроносую из невыделанных кож и спереди закорюченную обувь, в которую кладут зимой несколько сена, по костям сшитые душегрейки, кои носят враспашку, и сделанное по росту верхнее одеяние, у коего рукава бывают узкие, а полы по колена. Подпоясываются украшенными медным или оловянным набором ремнями, к которым привешивают нож, огниво с принадлежностью и табачный прибор.
Одеяние свое шьют из мягкой рухляди, кож и сукна; кожаное и суконное платье бывает у них всегда либо опушено, либо цветным сукном по краям оторочено. Шапки носят с околышками, на которые употребляют российские лопари, по большей части, содранные с крыс шкурки. Кверху сводятся они востро и выкладываются по четырем швам суконными, другого какого цвета, полосками.
Женщины носят подобные мужским штаны, обувь, душегрейки и верхнее одеяние, а пояс, к коему также привешивают табачный прибор, вышивают почасту волоченным оловом. У верхнего их платья делается воротник пошире мужского. К наряду их принадлежат также ошейные повязки, маленькие, из пестрой российской набойки, запоны, перстни, кольца и серьги, к коим прицепляют иногда серебряные цепочки и обвертывают оные несколько раз около шеи. На шапках их бывает нередко такое множество складок, что нарочито походят на узел. Они носят также и по голове сделанные шапочки, которые всегда либо узорчато вышивают волоченным оловом, либо украшают цветными суконными полосками.
Пищу свою заимствуют они больше от оленьего скотоводства, также от рыбной и звериной ловли. Оленье мясо, начиненные колбасы кровью, которую, или одну, или смешав с дикими ягодами, пропускают в олений желудок и варят; равномерно внутренность сей скотины, сыр, масло и молоко составляют главные их яства.
Из всех зверей почитаются у них шатающиеся в великом множестве дикие олени наиполезнейшими, а медведи наивкуснейшими. Они едят не только всякую рыбу и тюленей, но и всяких зверей и птиц, не гнушаясь притом и хищными родами оных. На зиму сушат на солнце мясо и вялят рыбу, а едят, не варя. Они замораживают, также впрок, в звериных желудках оленье молоко и всякие дикие плоды. Когда вздумают зимой полакомиться молоком, то колют замороженное и грызут, как лед. Ворвань, а иногда и соль, служит им вместо пряного коренья. Некоторые лопари покупают или выменивают муку и крупу для жидких яств. В числе лакомств их не последнее занимает место простокваша, делаемая ими из оленьего молока, в которое кладут траву василек1. Из сыра своего, который бывает так тучен, что, ежели к свече прислонить, горит, варят они и похлебки.
Общее их питье есть или чистая, или с молоком смешанная вода, также рыбные и мясные отвары. Вина у них редко где достать можно, хотя они, впрочем, и великие до оного охотники.
Подушный оклад платят они тем владельцам, на чьих землях живут; и поелику они при странствовании своем касаются и порубежных областей, то многие платят двум, а некоторые и всем трем государствам, сиречь: России, Швеции и Дании, подати, которые, однако ж, вообще столь умеренны, да и сами лопари такие покорные люди, что не бывает о том никаких споров. Самый больший торг производят они теперь с норвежцами.
В прежние времена менялись они с ними товарами, а теперь торгуют больше на наличные деньги; причем лопари главную получают прибыль, потому что на мягкой рухляди больше выручают, нежели сами платят денег за сукно, ножи, топоры, щепетильные товары, муку, крупу и сим подобные надобности. И потому платят они теперь подать свою обыкновенно наличными деньгами, хотя российским лопарям и дозволено вместо оных отдавать в казну мягкую рухлядь.
Когда придет пора есть, то старейшина семейства расстилает рогожу; а на голой земле отнюдь не ставят они своих яств. Около рогожи и поставленной пищи садятся мужчины и женщины. Всяк носит при себе нож, ложку и небольшую для питья чашку. Яства делят они тотчас по рукам, чтоб не было никому обидно: ибо все они добрые едоки. Как перед едой, так и после оной молятся они коротенько; а когда все уже насытятся, то дают один другому руку. Во время взаимных посещений дают они также один другому руку и целуются, говоря при этом: «Буерис!» , а по другому выговору «Пуерес!» («Здравствуй!»). Про чужих людей, когда хотят их посадить, стелют всегда свое одеяние; а первым местом почитается у них то, когда посадят промеж хозяином и хозяйкой. Гостей своих потчуют они плодами и курительным табаком; плюют они себе в руку, а потом тянут мокроту в нос. Когда идут к кому, познатнее себя, в гости, то несут всегда гостинец. При прощании поступают так же, как и при встрече. Кому они доброжелательствуют, тех называют буор арц.
Бань у них совсем нет, а моются по субботним дням, кои почитают наисвятейшими, в речках, и притом часто оба пола вместе. Лежалые деньги, также серебро и вообще все то, что почитают дорогим, зарывают в землю и не объявляют никому о таковых своих вкладах и при самой смерти для того, что думают пользоваться этим имением и на том еще свете; а потому большая половина их стяжания пропадает.
По причине сурового воспитания много умирает у них детей, а которые остаются в живых, те бывают по большей части здоровы и бодры; что происходит, может статься, от их беспечности, умеренности, движения и оттого, что избирают всегда для жилищ своих высокие места. Однако ж редко кто доживает у них до глубокой старости.
Обыкновенные их болезни суть следующие: короста, чахотка, горячка с пятнами, лом в костях и биение слезы из глаз от снегу и дыму. Пользуются же они в болезнях своих больше суеверными, нежели действительными, врачеваниями; причем употребляют также для исцеления наружных ран сосновую серу; от коросты моются уваром из ольховой коры, а от внутренних болезней пьют парную из диких оленей кровь. Наибольше же употребляется и от всякой боли общей помочью почитается у них прижигание больного места губкой, которую, зажегши, кладут на оное и не снимают до тех пор, пока кожа не треснет.
Бесплодие вменяется у лопарок так же, как и у жидовок, в бесчестие. Роды у них бывают обыкновенно легкие, а как женщин, кои бы могли в нужном сем случае пособить, далеко иногда искать, то мужья сами им помогают. Колыбели у них долбленые, невелики и легки, а с виду походят на ткальные челноки или на заостренные с обоих концов ночовки. Детей кладут они в них, подославши моху, нагих и, прикрыв лоскутом какого-нибудь меха, перетягивают сверху веревочками. Колыбели вешают как в шалашах, так и на древесных сучьях; а когда переселяются в другое какое место, то матери носят их за плечами, как ранцы. Отец наделяет всегда новорожденного младенца одной ланью, и особливым замечает оную клеймом, которое в последующее время бывает заручительным нового сего члена общества знаком; приплод же от такой подаренной младенцу лани почитается его собственным, а не к общему наследству принадлежащим имением.
Родители женят и замуж выдают детей по своей единственной воле, уважая притом одно только имение; а потому и безобразная девка, когда только не скудна, может выйти за хорошего человека. Холостым не дозволяется у них жениться до тех пор, пока не выучатся свежевать оленей. В некоторых местах располагается договор о браке с такой превеликой точностью, как будто о какой купле; хотя, впрочем, запросы бывают и нарочито непомерны. Даваемое женихом за невесту награждение принимается щетом и состоит в известном количестве оленей или мягкой рухляди.
Свадьба бывает у невесты, которая в самом лучшем своем наряде выходит к гостям простоволоса; а в другую пору всегда повязана голова, как у баб, так и у девок. Свадебное их угощение есть не иное что, как общественное пиршество, на которое идучи, несет всяк с собой как съестное, так и напитки. Забавляются же они на свадьбах и при других сборищах игрой в гуська. Эта игра подобна шахматной и производится тринадцатью камушками, представляющими гусей и лисицу. Увеселяются также борьбой, прыганьем через держимые вдоль шесты, рассказыванием забавных басен, нескладным и пополам с криком смешанным пением и пляской. Молодые живут первый году тестя и тещи, а потом перебираются в свой шалаш.
Умерших предают они погребению без гробов и в некоторых местах кладут в одеянии, а в других совсем нагих. Оставшиеся при языческом своем суеверии лопари погребают славнейших своих стрельцов поблизости тех мест, где приносят богам своим жертвы. В прежние времена клали они покойников на землю и, обклав их камнями, наваливали еще и сверху по великой груде каменья же; а теперь оборачивают обыкновенно на могиле сани и кладут под них понемногу пищи и утвари, что делают тайно и принявшие христианский закон лопари. Зажиточные люди уготовляют для провожающих похороны небольшой пир, а большая половина сего и не затевает.
Все шведские и норвежские лопари, а из российских большая половина, называются христианами; однако ж у сих христиан суеверие в великой еще силе, и христианские обряды перемешаны с языческими. Будучи язычниками, веровали они, да и теперь веруют, в Юбмела, общего Бога, и думают притом, что кроме него есть еще добрые и злые, мужского и женского пола божки и богини меньшего достоинства.
Живут и правительствуют они, по мнению их, либо в небе, как Юбмел и Редиан, приемлющий к себе тех, кои жили благочестно; либо на воздухе, как Бейве (солнце), Горангелис, называемый также Ая и Гори значащий грозу, Буаг Олмай, располагающий бурями и порывистыми ветрами; либо на земле, на святых горах, как Лейб Олмай, бог звероловства, Мадер-акко с тремя своими дочерьми, богинями, женские дела устрояющими и судящими, Сайво Олниак, нагорные волшебников боги, и проч. Под земной же поверхностью обитают, по их рассуждению, и владычествуют: Ямбе Акко, мать смерти, у которой разлучившиеся с телом души пребывают до самого решения их судьбины; а в средоточии земли, или ада, где Пескал, глава злых духов, господствует над беззаконниками Рота и другие боги. Они веруют также, что и в воде есть злые боги и богини. Впрочем, боятся они Коболда, ведьм, леших, русалок и проч. Разные лопари имеют нередко совсем отменную обо всех вообще или о некоторых только богах веру, и притом не только между собой не согласны, в рассуждении количества оных, но исповедуют еще и чуждых богов и духов.
Святые горы служат им вместо капищ, и заимствуют всегда прозвание свое от оленей, как, например, Стирень-алда, олень горы Стира; не меньше почитают они святые озера (Аилекас Яувра) и реки (Пассе Иок). Во всех таковых местах стоят освященные дерева, на коих видны разные, лопарями начертанные виды, а поблизости оных находятся сделанные ими, от 3 до 5 футов в вышину, жертвенники.
Места сии кажутся и принявшим уже христианский закон лопарям так страшны, что не смеют без жертвы к оным приближаться, и потому они в околице оных ни зверей не ловят, ни сами не живут. Наипаче же женщинам должно, по их мнению, избегать таких мест. Там стоят у них деревянные безобразные, из корня вырезанные или из камней устроенные, идолы: первых называют они пассами, а последних, кои видны больше при озерах и реках и состоят из целых груд, странно огромощенных камней, нарицают саетами. Когда ловят они в таковых озерах рыбу, то должно им наблюдать безмолвие, не водить за собой собак, не брать себе в подмогу жен, и прочее.
Жертвы приносят они по случаю болезней, падежа оленей, бесплодных женитьб и других временных угнетений. Волшебник должен им сказывать, к какому божеству надобно им обратиться, также какую и где надлежит принести жертву и проч. На такой конец употребляет он иногда волшебный свой барабан, который есть не иное что, как продолговато-круглый с одной стороны, кожей обтянутый язык, около которого бывает великое множество веревочек и всяких мелочей. На барабанной коже представлены изображения небесных светил, также зверей, птиц, заручительных знаков и сему подобного. Волшебник, положа на оную кольцо и ударяя колотушкой, которую составляет мохнатый олений рог, может, по мнению лопарей, узнать по тому изображению, на коем ляжет попрыгивающее кольцо, какой давать ему ответ на все, до прошедшего и будущего касающиеся вопросы. Они призывают также барабаном своим и духов; причем тело их обмирает, а душа переселяется на сборное духов место и там с ними переговаривает.
Всяк приносит от себя единственно жертву. Приуготовляясь же к обряду сему, очищается и привязывает крепко всех собак, чтоб какая-нибудь не перебежала чрез его дорогу, и потом, взяв с собой кости или рога требуемого богами в жертву зверя, пускается в путь к святому месту, не говоря о том никому, а увидев оное, кидается опрометью на землю и ползет к своей святыне. Потом возлагает приношение свое на жертвенник, молится, приложа лицо свое к земле, и, встав, возвращается в свое жилище. Большая половина жертв остается просто на месте, а оттого превеликие скопляются груды костей и рогов; но некоторые и зарывают оные, потому, может быть, что дарят подземным божествам.
Мяса не приносят они никогда в жертву, будучи крепко уверены, что боги не преминут покрыть оным кости. Ежели собака примется глодать жертвенную кость, то должно оную убить и, вырезав из нее ту же самую кость, которую она изгрызла, положить вместо оной на жертвенное место. Иногда выпускают они кровь назначенных в жертву зверей в реку или проливают молоко либо вино на землю в жертву для умилостивления к себе земных и водяных Богов.
Держащиеся таковых мнений люди, которые притом и по сложению своему пугливы, должны изобиловать сновидениями, страшилищами, суевериями и сказками; да у них и подлинно всего того довольно. Медведя, например, называют они не сим именем, а подшубным стариком. Они верят, что их чародеи могут производить и прерывать ветры и дождь, также призывать и прогонять насекомых, разговаривать с духами и проч. Но притом верят, что гром их преследует и что если бы не было грома, то волшебством уничтожилась бы вселенная. Некоторым речениям и образованиям присвояют они особливые силы и держатся многих других, сим подобных, нелепостей. При всем том есть и между ними не меньше, может быть, прямых греческого и лютеранского исповедания христиан, как и в самих тех странах, где все вообще жители исповедуют христианскую веру.
ПРИМЕЧАНИЕ
1 Pingvicula vulg. Lin.
© текст, Георги И.Г., 1799
© OСR, HTML-версия, Шундалов И.Ю., 2004
Источник сайт http://www.saami.su/...&...=46&books=1
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться




 Наверх
Наверх