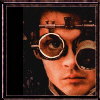Войти Создать учётную запись

Пассионарность.
#1

 Опубликовано 07 Май 2010 - 14:49
Опубликовано 07 Май 2010 - 14:49

#2

 Опубликовано 07 Май 2010 - 15:16
Опубликовано 07 Май 2010 - 15:16

Под духом народа в упрощенном варианте следует понимать совокупность психических свойств нации, а все материальные достижения являются просто выражением этого народного духа или его объективацией. Любые формы народного знания, культура, искусство, право государство есть результат деятельности этого всеобщего духа. Поэтому бесполезно с одной стороны насаждать, к примеру, европейские ценности другим культурам, поскольку тут имеет место быть несопоставимость духовного (психическо-ментального) содержания наций, противоречие внутреннего и физического, вследствие чего можно перенять только форму, но не дух (содержание) воспринимаемой чужеродной культуры.
О народном духе писал Гегель, Штейнталь, Лацарус.
#3

 Опубликовано 07 Май 2010 - 15:37
Опубликовано 07 Май 2010 - 15:37

Читать Гумилева захватывающе, но читая его, постоянно иду на уступки (допускаю некую спорную позицию) и дaльше Гумилев заводит во всё более запутанные дебри, это увлекательно. Фоменко читать тоже увлекательно, как и историческую художественную фантатику. В общем солидарилизируюсь с мировой исторической наукой:
#5

 Опубликовано 07 Май 2010 - 16:20
Опубликовано 07 Май 2010 - 16:20

А обсуждать теорию Гумилева по-моему бессмысленно. Это как с любой иррациональной, невирифицируемой теорией в гуманитарных науках - либо в нее верят, либо ее всерьез не воспринимают.
Самое забавное, что в угоду пассионарности Гумилев жертвует по сути всеми объективными закономерностями в развитии социума. Прям марксизм, правда под марксизм была еще солидная научная база подведена.
Касаемо исторических концепций Гумилева обсуждать даже нечего - враль и тюркофил. От современного фолькхистори отличается разве что легким налетом "наукообразности".
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
#6

 Опубликовано 07 Май 2010 - 20:30
Опубликовано 07 Май 2010 - 20:30

Еще хочу добавить, что пассионарность не обязательно рассматривать через теорию Гумилева. Мне кажется, что все гораздо проще.
Под пассионарностью понимается биологический потенциал популяции и способность этой популяции к активным созидательным, культурообразующим и поддерживающим эту культуру действиям.
Но поскольку популяция как категория лежит во времени и пространстве, то с ней происходят те же процессы, что и с любым обычным живым организмом: младенчество, детство, юность, зрелость, старение и смерть. К тому же популяции могут подразделяться по биологическому рангу.
Это неизбежные процессы затрагивающие любые живые организмы, как на индивидуальном, так и на популяционном уровне. К примеру, если популяция демографически молода, как следствие будут наблюдаться определенные тенденции в обществе свойственные психике более молодых людей, если популяция стареет это неизбежно будет отражаться и на культурно-психологическом уровне. Таким образом пассионарность это наивысшая точка положительной активности биопопуляции, которая по своей сути многофакторна и зависит также от климатических, ландшафтных и др. условий.
Концепция народного духа у Гегеля выглядит следующим образом:
Содержание народного духа, с гегелевской точки зрения, имеет три источника:
a. «первоначальная диспозиция народного характера», как нечто врожденное. Здесь опорой служит антропология. Исходными выступают расовые различия, модифицирующиеся в национальный характер;
b. они непосредственно связаны со вторым источником — природной средой. Природная среда оказывает влияние на процесс формирования национального характера. Гегель считал природную среду важным фактором, хотя и придавал ей меньшее значение чем Гердер. Он выделял три типа природной Среды — горы, равнины и побережье и пытался показать как определенный тип влияет на специфику национального характера;
c. условия времени, т.е. традиции и исторические обстоятельства.
Каждый народ имеет свой особенный дух, но не каждый его осознает. Осознать своеобразие собственного духа могут народы, имеющие развитую культуру. Когда окружающая среда не благоприятствует развитию культуры, то это может и не произойти. Таких отрицательных факторов, видимо, три:
1. слишком холодные или слишком жаркие климатические условия;
2. занятие земледелием на равнинах порождает сезонные, циклические привычки в деятельности и упование на слепую судьбу;
3. жители высокогорий, в силу своей разобщенности, так же не могут создать развитую культуру.
http://anthropology..../rusppf_19.html
#8

 Опубликовано 16 Апрель 2011 - 19:57
Опубликовано 16 Апрель 2011 - 19:57

http://ru.wikipedia....ория_этногенеза
"фашЫзм не проидет!" (с)
G25:
Ukrainian_Dnipro:YF83820,0.127482,0.12491,0.064488,0.048773,0.037853,0.018686,0.009165,0.010615,-0.00409,-0.02041,-0.000162,-0.006744,0.012042,0.023121,-0.008686,-0.01127,-0.009779,0.00076,0.003142,0.002001,-0.000873,-0.006925,0.000986,-0.001566,0.002155
#9

 Опубликовано 16 Апрель 2011 - 19:58
Опубликовано 16 Апрель 2011 - 19:58

Сообщение изменено: Vognejar, 16 Апрель 2011 - 19:58.
G25:
Ukrainian_Dnipro:YF83820,0.127482,0.12491,0.064488,0.048773,0.037853,0.018686,0.009165,0.010615,-0.00409,-0.02041,-0.000162,-0.006744,0.012042,0.023121,-0.008686,-0.01127,-0.009779,0.00076,0.003142,0.002001,-0.000873,-0.006925,0.000986,-0.001566,0.002155
#10

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 12:48
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 12:48

СТРУНА ИСТОРИИ Лекции по этнологии
ЛЕКЦИЯ V ПАССИОНАРНОСТЬ И ЕЕ СВОЙСТВА
Эссе об аномалии: Планеты — аномалия Вселенной. — Биосфера — аномалия Земли. — Человек — аномалия животного мира. — Изменения ландшафтов человеком. — О страстях человеческих. — Пассионарность — аномалия общественной формы движения материи.
Пассионарность на индивидуальном уровне:Ньютон. — Тургенев. — Жанна д'Арк. — Карл VII. — Агнесса Сорель. — Пассионарность — биологическое понятие.
Этнос — не раса и не популяция. Мирное сосуществование этносов. — Русские и казанские татары.
Пассионарность — фактор этногенеза. Пассионарии — лидеры групп. — Александр Македонский. — Наполеон. — Пассионарность больших этнических групп. Куликовская битва. — Темник Мамай. — Пассионарность — категория этнической психологии.
Индукция пассионарности: Отечественная война 1812 года: — Барклай-де-Толли и Кутузов. — Суворов и Римский-Корсаков.
Пассионарная мутация: Пигмеи и банту. — Японцы и жители Малакки. — Области образования этносов. — Зоны пассионарных толчков.
Понятие о комплиментарности: Ромул и Рем. — Мухаммед. — «Горе от ума» как пример для изучения этнического поведения. — Дрейф пассионарности. — Биогеохимическая энергия живого вещества биосферы. — Этническое поле. — Индейцы и американцы.
Сегодня я хочу поговорить о пассионарности более подробно, для того чтобы не возникало по этому поводу недоразумений. Потому что я уже 10 лет, нет, 12 лет тому назад опубликовал первые работы по этой теме,[97] и с тех пор хотя и не встречал прямого сопротивления,[98] но со стороны обывательского мышления возникают всякого рода недоумения, которые требуется разрешить.
Давайте подоидем к изучению этноса с несколько необычной стороны.
Космос — это огромное пространство, включающее в себя большое количество рассеянного вещества, которое объединяется в звезды, а звезды — в галактики. Если образно приравнять величину звезды к булавочной головке, то расстояние между звездами будет километр пустого пространства, из очень разреженного вещества. Следовательно, если говорить о Вселенной, то мы можем сделать такое заключение: это пустота, имеющая аномалию в виде малых скоплений материи планет.
Если мы изменим вдруг уровень отсчета и возьмем за образец, скажем, просто нашу Землю, пропуская все промежуточные места, то мы можем сказать, что Земля — это кусок камня, геоид,[99] который имеет четыре оболочки, из которых три состоят из косной материи, из косного вещества: литосферу, по которой мы ходим; атмосферу, которой мы дышим; гидросферу, которая проникает через все наши тела, и биосферу, частями которой являемся мы сами.
То есть биосфера является как бы аномалией от огромной массы косного вещества. Потому что биосфера — это узкая полоска вдоль поверхности Земли, включающая в себя всю биомассу организмов, их трупы и плоды их жизнедеятельности. И все равно это будет очень мало, это собственно аномалия. Но аномалия крайне важная. Потому что именно из-за биосферы наша планета, в отличие от Луны и других мертвых планет, может поглощать космическую энергию и выделять ее в виде работы путем фотосинтеза. Прекрасно.
Если мы возьмем за исходную точку отсчета биосферу, то увидим огромное количество микроорганизмов, вирусов и всякой другой дряни, которые составляют подавляющее большинство, большую часть этой биосферы. Даже если мы отбросим трупы животных и микроорганизмов, то есть почву, даже если мы отбросим свободный кислород воздуха, превратившийся уже в косную материю, если мы возьмем биомассу всего животного мира, то высшие животные — млекопитающие, обладающие каким-то мозгом, — они тоже будут аномалией, их относительно ничтожное количество.
И такой же аномалией по отношению ко всему животному миру, существующему и существовавшему в процессе эволюции является и человек. То есть мы можем подойти к человеку как к аномалии, — очень развитой, очень естественной, но аномалии по отношению к другим животным. И, тем не менее, эта аномалия имеет геологическое значение, что отметил академик Вернадский, который по последствиям уподобил нашу техносферу геологическому перевороту малого масштаба. Она создает культурный слой, она изменяет рельеф, течение рек, она изменяет, даже сглаживает горы или воздвигает новые горы на месте городов, которые были разрушены. Ведь города, с точки зрения геоморфологии,[100] мы можем воспринимать как антропогенный рельеф, рельеф, созданный человеком, а разрушенные города — как метаморфизированный антропогенный рельеф. То есть человек производит колоссальные изменения на Земле, чем оправдывается изучение рельефа.
Если мы возьмем общее количество людей, известных нам в истории, даже отбросив палеолит, и как мы уже говорили, не учитывая современную эпоху, которая состоит из неоконченных процессов, а возьмем только намеченные нами участки,[101] то тогда мы увидим, что все люди хотят одного: покушать, поесть, полюбить и поспать.
И, тем не менее, пассионарии, которых относительно очень мало, совершают поступки, которые в общем-то не оправдываются никакой реальной целью. Хеопсу[102] совершенно незачем было возводить свою пирамиду, для того чтобы там похоронить свое тело. Сделал это он ради тщеславия, а тщеславие — модус пассионарности. «Вот, чтобы обо мне после смерти говорили!» И говорят. Достиг!
Герострат[103] был пассионарий, но никак не мог увековечить свое имя в истории, потому что не было у него никаких для этого данных: ни административных, как у Хеопса, ни творческих. Так он сжег великолепный храм Артемиды Эфесской. Говорят о нем — о Герострате! Сделал, мерзавец, это дело. Все ругают, ну и не забыли. Достиг!
Пассионарность, являющаяся аномалией (т. е. отклонением от обычного. — Ред.) по отношению к общему развитию человечества и аномалией по отношению к общественной форме движения материи, дает те зигзаги, которые в аспекте этнической истории нас не могут не интересовать. Ибо каждый человек есть не только член общества, носитель паспорта и профбилета, но, кроме того, он еще и живой организм, кроме того, он есть еще и биохимическая лаборатория микрофлоры, которая находится в желудке каждого из нас. Кроме того, он есть еще и тяжелое тело, подверженное гравитации. И пренебрегать тем, чем он связан с природой, не целесообразно, потому что это всегда дает смещенный результат.
Теперь обратим внимание, какие бывают пассионарии в зависимости от тех целей, к которым они стремятся. Есть мнение, довольно глупое мнение, которое было высказано,[104] как только я опубликовал мою работу, что все пассионарии — это те люди, которые хотят лидерствовать и быть вождями. Так это, товарищи, не верно, — скажу я вам.
Ньютон[105] был явный пассионарий: он потратил свою жизнь на решение двух кардинальных научных проблем: создание механики и толкование Апокалипсиса.[106] Только это его и интересовало, очень интересовало. Жены не завел, богатства не накопил, ничем не интересовался, кроме этого. Жил дома с экономкой и работал. И когда король Англии Карл II[107] сделал его пэром,[108] он как добросовестный человек ходил в Парламент и высиживал там все заседания. (Я бы на его месте этого не делал.) Но за все это время он сказал только два слова: «Закройте форточку». Все остальное его не интересовало.
Вот вам пример пассионария, который отнюдь не стремился к лидерству, но вместе с этим он вел полемику, он доказывал свою правоту. Он был искренний протестант и враг католиков, то есть у него были все человеческие качества, и пассионарность шла по линии знания, которую мы можем назвать модусом алчности (лат. modus — мера, образ. — Ред.). Скупой рыцарь (персонаж трагедии А. С. Пушкина. — Ред.) собирал деньги, а Ньютон собирал знания. Но и тот, и другой были алчными, но не тщеславными.
И наоборот, мы можем найти множество актеров, которые безумно тщеславны, или поэтов, которые готовы ради своей популярности пожертвовать всем чем угодно.
Немного изменяя своему хронологическому принципу, приведу вполне известный пример — Иван Сергеевич Тургенев. Сначала он писал небольшие жеманные рассказы, которые в 1840-х — начале 1850-х гг. имели большой успех. А потом люди увлеклись общественными темами, и он почувствовал, что интерес к нему слабеет. Он решил овладеть умами молодежи. И бахнул, значит, «Рудин», потом «Накануне», потом «Отцы и дети».[109] И пошел… Романы были так себе, но дело не в этом, а дело в том, что у него был как раз модус тщеславия. И он пожертвовал, вообще говоря, даже своими способностями, которые у него были не в ту сторону направлены, только чтобы добиться большого успеха у молодежи, которая тогда была законодателем вкусов и моды. А потом кончилось для него это печально, как известно. Последнее его письмо, не помню к какому-то его другу, не важно к кому, а важно, что он написал, что вот ему все не везет: денег из имения поступает мало, Виардо[110] ему изменяет, публика его не понимает и не принимает (а она действительно его не приняла после Базарова), и он едет в имение, чтобы навсегда оставить мечту о счастье (дальше, самое важное!) «под которым я понимаю легкое расположение духа, проистекающее из сознания удовлетворительного течения дел». Типичная психология человека тщеславного — надо, чтобы хвалили.
Очень часто думают, что пассионарии, стремясь проявить свою активность, обязательно ввязываются в общественную деятельность. Это бывает, но не всегда, как я показал. А, кроме того, в ряде случаев они до такой степени влюбляются в свой идеал, что они жертвуют ради него своей жизнью, что уж совсем нецелесообразно с точки зрения вида.
Жанна д'Арк[111] была девушка очень впечатлительная и очень патриотичная. Несмотря на то что она и по-французски почти не говорила, она решила спасти Францию. И, как известно, она ее спасла. Но также известно, что, после того как она освободила Орлеан и короновала Карла[112] в Реймсе, нормальным образом превратив его из дофина в короля, она попросила, чтобы ее отпустили. Но ее не отпустили, и дальнейшая ее судьба была печальна. Она не стремилась к тому, чтобы занять место при дворе. А отнюдь не пассионарная Агнесса Сорель[113] — любовница короля (дама весьма и весьма, так сказать, пикантная, но ничем себя не проявившая как пассионарная женщина) — она изо всех сил цеплялась за свое место фаворитки короля и интриговала по этому поводу со страшной силой. То есть отсюда мы можем сделать вывод, что лидерство и пассионарность — это понятия иногда совпадающие, но по большей части — нет.
* * *
Так что же такое пассионарность?
И тут надо вернуться к проблеме, в которой меня тоже пытались обвинять.[114] Ну, говорить, что человек не имеет биологической природы, — это могут люди, которые настолько одержимы собственной пассионарностью, что ради нее готовы говорить явную чушь, лишь бы выиграть в споре. Даже не в споре, потому что спора-то не происходит, а сказать что-то такое обидное для оппонента. Я думаю, что здесь таких нет, и поэтому этот вопрос для всех ясен и не требует доказательств: очевидно, что каждый из нас, кроме социальной природы, имеет и совершенно биологическую. Относится ли к ней пассионарность?
Как известно, существуют расы — биологические понятия, которые в общем-то не реальны. Они в реальности не существуют, они являются нашим обобщением. Да, вы, конечно, знаете, существуют «черные» — негры; «белые» — европейцы; и, как мы называем, «желтые» — азиаты. Но большая часть «желтых» такая же белая, как и европейцы. Просто у них кожа более матовая. И сколько угодно есть европейцев с матовой кожей. Переходы от белого цвета к черному по всей Африке идут совершенно плавно. В ряде случаев невозможно понять, кто этот человек — принадлежит ли он к североафриканской расе, которую раньше называли хамиты, а сейчас запретили это понятие (не знаю, почему?), то ли он настоящий банту.[115] А, например, сенегальские негры, которые и на банту-то не похожи, они, понимаете, такого темно-красноватого оттенка. Но это как раз не мешало им ни создавать свои государства в средние века на базе покорения совершенно черных банту и совершенно белых туарегов,[116] ни служить во французской армии, где они составляли наиболее боеспособные, стойкие стрелковые части. То есть раса — это способ классификации, а не систематизации, нужный для антропологов и действительно имеющий большое значение, потому что именно по этим расам антропологам удается найти некоторые закономерности, установить миграции и тому подобные частные вещи, которые к природоведению прямого отношения не имеют.
Но есть еще одно биологическое понятие — популяция. Может быть, оно связано с этносом?
Отец популяционной генетики Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский[117] определил популяцию, как группу особей одного вида, населяющих один ареал и беспорядочно скрещивающихся. Ну, исследовал насекомых, всяких бабочек, мух и прочих. И это определение у него совершенно четко работало. Но другого нет. Можем ли мы перенести это определение на человеческие сообщества? Если попробуем, то получится явная чушь.
По Тимофееву-Ресовскому, две популяции в одном ареале существовать не могут. Потому что они сливаются воедино. Вот, например, живут мухи в одной комнате и в другой, и они перелетят одни к другим, и будет уже одна популяция и никакой борьбы между ними, никакого столкновения не будет, они будут также беспорядочно скрещиваться.
Этносы, как вам известно, сосуществуют между собой веками, даже при скрещивании оставаясь раздельными.
Я приведу сейчас пример, самый наглядный. Вот на Волге был народ — камские булгары,[118] их потомков мы сейчас называем казанскими татарами. С запада по Оке пришли славяне, построили города — сначала Муром, потом Нижний Новгород. Постоянно происходили между ними стычки, пока Иван Грозный Казань не захватил.[119] В столкновениях и русские, и татары всегда брали пленных и пленниц. И вот русский воин какую-нибудь пленную татарку, захватив в Муроме, немедленно употреблял у себя в хозяйстве — и та рожала ему Петек, Ванек, Машек. И то же самое какой-нибудь казанский татарин, захватив русскую бабу, немедленно брал ее второй женой, имел от нее детей (там — Ахмеда, Мурата, Мухамеда, Шамиля) и делал их мусульманами. Все было перемешано до предела. Даже когда произошла антропологическая ассимиляция в XIX и в XX в., одни дети оказывались татарами, а другие — русскими. То есть этнос оказался смешан по своей природе и истории. Мусульманская часть этого этноса называется — татары, православная — русские. Но по крови они одни и те же. По способу хозяйствования — тоже и по культуре близки. И сейчас татары[120] и русские прекрасно сосуществуют в этом регионе. И причем, что самое любопытное, что они между собой не ссорятся.
Похоже ли это на те процессы, которые происходят в популяциях? Никому не нужно искать иное определение. Этнос — не популяция. Мы уже неоднократно сказали, что этнос — это не что иное, как та или иная фаза этногенеза, и отнюдь не связанная с социальными процессами.
Еще раз поставим вопрос — какая же это энергия? И вот тут нужно поговорить о следующем. Всю историю человечества постоянно идет вымирание целых видов и возникновение новых, хотя на наших глазах крупных видов не возникло.
Должен быть механизм взаимодействия социального и природного факторов, вот здесь-то и находится та категория, которую мы назвали этнос. Системная категория, закрытая система, получающая откуда-то первоначальный заряд энергии (негэнтропийный процесс), который путем нормальной энтропии, обмениваясь ею с окружающей средой, приходит к смерти. Это особая форма существования, которая определяет возможность нашего соприкосновения с природой и воздействия на нее — полезного или вредного, вплоть до уничтожения.
* * *
Опишем некоторые особенности пассионарности. Есть ли пассионарные свойства у отдельных видов? — В большей или меньшей степени. Но у отдельных людей она выявляется проще, потому что, чтобы поставить эксперимент, надо меньше времени на его изучение. Выявляется эта пассионарность при сопоставлении между группами людей. То есть мы можем сказать, что пассионарность, открытая нами, хотя и описана на отдельных персонах, но по существу является фактором этногенеза, который проявляется только при наличии пассионарности всего этноса.
Иногда пассионарием оказывается крупный человек, как Александр Македонский. Но он преследует свои пасссионарные цели только потому, что его поддерживают его друзья — гетеры, и только потому, что с ним согласен его народ — воины, и только потому, что ему удается набрать единомышленников среди людей, ему симпатичных, и только потому, что удается привлечь на свою сторону некоторое количество бывших противников — азиатов. Но, как только он умирает, всё распадается.
Пассионарный человек — Наполеон. Наполеон идеалист, он преследует свои цели, которые из фантастических становятся реальными. Конец его известен: остров Святой Елены. Но удается это ему сделать потому, что он сумел из 20-миллионного французского народа отобрать 26 маршалов,[121] которые стали его помощниками. Те в свою очередь отобрали каждый по сотне-другой полковников, полковники — лейтенантов. И таким образом эта разветвленная система унесла миллион жизней тогдашней Европы.
Но если мы возьмем периоды не столь яркие из истории, например, той же Франции? Когда Франция стала первой европейской державой, победив Тройственный альянс (это в XVI — начале XVIII в.), во главе ее стоял отнюдь не пассионарный Людовик XIV.[122] Это был банальный француз, самый ординарный, самый средний, но французы его очень чтят и называют Король Солнце, потому что он не пассионарный. Они его понимали, он их понимал. Он вел себя как средний француз. Но как же, вы тогда скажете, французам удалось провести четыре войны с коалицией европейских держав, освоить Канаду, Луизиану и т. д. А дело в том, что пассионариев тогда было очень много, но они выполняли вот эти мелкие дела: они были лесопроходцами в Канаде, они прошли насквозь великую реку Миссисипи, они построили Новый Орлеан, они плавали в Индию, они занимались работорговлей между Америкой и Африкой, они ходили в походы в Швейцарию и в Испанию, Голландию, завоевали Иль-де Франс и другие районы, которые были для Франции жизненно необходимыми.
Пассионарность — это явление массовое, и только как таковое оно имеет силу. Отдельный пассионарий, стоящий во главе непассионарного скопища людей, — бессилен. Его не поймут, от него постараются избавиться — или выгонят, или убьют. Но если масса пассионарна, то можно поставить даже посредственного человека, скажем, или дурака (хотя дурака лучше никогда не ставить) и за него идти побеждать.
Очень характерный пример в этом отношении — Куликовская битва. Понимаете, в это время Россия была очень маленькая: южная граница Московского княжества проходила по Оке, северная — по Волге. Тверь была во враждебных отношениях к Москве, Рязань — тоже, Смоленск и Вязьму держали литовцы. Вот этот маленький кусочек между Окой и Волгой (Л. Н. Гумилев показывает на географической карте. — Прим. Ред.) — примерно от Серпухова до Нижнего Новгорода — это было Московское княжество. Произошел конфликт с татарами. Они в это время уже были мусульмане (уже чужие[123]), и уже довольно нахально себя держали. Но в конце концов можно было отдать дань и не воевать. Но тут очень важно (что всегда упускают), а именно: династия золотоордынских ханов пала,[125] и фактически власть захватил темник Мамай,[126] который никакого отношения к Чингизидам не имел. Он был из ветви Киян, а как таковой он в Крыму быстро договорился с генуэзцами и с литовцами договорился о союзе. И дал им право за соответствующую мзду[127] ездить на Русь и там торговать. А генуэзцы,[128] не будь дураки (капиталисты же называются!), они сразу потребовали концессий. А на Руси сторонники мира с Мамаем говорили: «Да в конце концов, пусть торгуют, да отдайте им Крым!»
А князь Дмитрий Донской,[129] надо сказать, тоже был такой легкомысленный. Из-за его личного неприятия к митрополиту Алексию чуть было не изменилась политическая линия традиции Александра Невского на неприятие союза с латинянами. За легкомыслие князя потом расплатился народ тысячами русских трупов на Куликовом поле. Не будь интриг и этой ссоры, потери в войне были бы меньше, а результат больше. Но тут оказалось, что вокруг князя стоит достаточно большое количество бояр (незаконных потомков хана, а бояр — от тюркского бойра).[130] Эти бояры,[131] составлявшие и правительство, и Думу, и Совет, и высшее и среднее командование войск, — служивые люди — они сказали:
«Ничего подобного! Если мы подадимся этим проклятым басурманам и латинянам, которые сейчас наш братский Константинополь измордовали,[133] то же будет и с нами! Нет!» И обратились они за советом к самому авторитетному человеку, который был в то время, — Сергию Радонежскому,[134] монаху Троицкой лавры. Он благословил на войну.
150 тысяч русских людей пошли на берег Непрядвы и Дона. Вернулось после битвы 30 тысяч человек. 80 процентов потерь! 120 тысяч трупов — после победы![135] Через 2 года Тохтамыш взял Москву,[136] плоды победы как будто бы аннулировались, и тем не менее с этого дня — с Куликовской битвы — пошла Русская земля. Вот что сделали пассионарии. А что делал князь, который лидерствовал? Он во время битвы был в цепях пехоты[137] и потом его нашли под грудой трупов его соратников без единой царапины. А семь бояр великокняжеского рода были убиты татарами в бою.
Повредили ли личные качества князя становлению Русской земли? Да, пожалуй, нет. Потому что они не имели решающего значения. Он был не такой уж вредный, слава Богу! Ну, другой будет сидеть в Москве, а с ним договориться можно. Решают исход дела активные люди, которые не являются лидерами, а находятся в составе масс.
И поэтому концепция пассионарности — есть концепция коллективной психологии с учетом этноса, то есть этнической психологии. И, кроме того, в концепции пассионарности есть еще одно качество, которое чрезвычайно важно, как и этническая психология.
* * *
Пассионарность заразительна, она ведет себя как электричество при индуцировании соседнего тела. Это еще Толстой отметил в «Войне и мире», что когда кто-то крикнет «ура!», то цепь бросается вперед, а когда крикнут: «Отрезали!», то все бегут назад. Я воевал[138] — так что я точно могу вам сказать, что во время боя никаких криков нет. И тем не менее, наблюдение Толстого совершенно верно. В чем же дело? Очевидно, есть что-то, что влияет на настрой солдат, на их волю к победе. Мы знаем, что есть полководцы очень опытные, очень стратегически подготовленные, но которые совершенно не умеют увлечь солдат в битву. Я беру военную историю, потому что это самая яркая вещь — там, где человек рискует жизнью, все процессы обостряются до предела, а нам нужно понять крайности для того, чтобы потом вернуться к бытовым ситуациям.
Ну, вот был у нас генерал Барклай-де-Толли,[139] очень толковый, очень храбрый и умный человек, составивший план победы над Наполеоном. Всё он умел делать, единственное, чего не мог, — это заставить солдат и офицеров себя любить, за собой идти и слушать себя. Поэтому пришлось заменить его Кутузовым.[140] И Кутузов, взяв план Барклая-де-Толли и в точности выполнив его, сумел заставить солдат идти и бить французов. Поэтому совершенно правильно у нас перед Казанским собором памятники этим двум полководцам стоят рядом.[141] Они одинаково много вложили в дело спасения России в 1812 году, но Барклай-де-Толли вложил свой интеллект, а Кутузов — свою пассионарность, которая у него, бесспорно, была. Он сумел как бы наэлектризовать солдат, он сумел вдохнуть в них тот самый дух непримиримости к противнику, дух стойкости, который был нужен любой армии.
Этим качеством в огромной степени обладал Суворов.[142] Когда Павел I бросил русскую армию в Италию против французов,[143] против лучших французских частей, которыми командовали лучшие французские генералы (Макдональд, Моро, Жубер),[144] Суворов одержал три блестящие победы[145] при помощи небольшого русского корпуса вспомогательных австрийских дивизий. Причем одержали победы именно русские, хотя австрийцев никто в то время не мог обвинить ни в трусости, ни в слабой боеспособности, это ведь были такие же славяне: хорваты, словаки, чехи, и они воевать могли. Но решающими ударами, которыми были опрокинуты французские гренадеры, руководил Суворов, и сделаны они были русскими. Он вдохнул в своих солдат ту волю к победе, как мы сейчас образно можем сказать, а на нашем языке — пассионарность, которая была у него самого.
Вы скажете, а может быть, дело не в Суворове, просто русские солдаты были такие хорошие? Здравствуйте, пожалуйста! А, Аустерлиц? А, Фридланд? А Цюрих, где нам наклеили по первое число?[146] У Суворова было 30 тысяч, а другая русская армия Римского-Корсакова[147] насчитывала 60 тысяч. Надо сказать, что Корсаков тоже был полководец толковый, но вся армия капитулировала около Цюриха,[148] окруженная французами. Так что дело, очевидно, не в числе. Но почему же австрийцы сражались хуже? Очевидно, потому, что русские были Суворову понятны, и он им был понятен, а австрийцам он был непонятен. Это гипотеза, но применим ее дальше.
Когда австрийцы потребовали, чтобы Суворов, вместо того чтобы вторгнуться во Францию и вызвать там восстание роялистов и жирондистов,[149] пошел воевать в Швейцарию.[150]
Под Фридландом в июне 1807 г. произошло одно из сражений русско-прусско-французской войны, в ходе которого французская армия нанесла поражение русско-прусским войскам. Чтобы избежать войны в 1807 г., Россия заключила с Францией в Тильзите мирный договор.
Сражение под Цюрихом произошло 4–7 июня 1799 г. в войне 1798–1802 гг. русско-австрийской коалиции против французов. В ходе Швейцарской кампании ген. Массена, не дожидаясь подхода Суворова, решил разбить русские армии по частям и внезапным ударом атаковал позиции армии Римского-Корсакова. Около 6 тыс. русских убитыми и ранеными остались в Цюрихе и окрестностях. Дело было безнадежное, и он там оказался окружен французами.[151] Суворов протестовал против этого похода,[152] но не мог повлиять на австрийских чиновников гофкригсрата (военного совета) (ему должны были подчиняться командующие войсками. — Прим. ред.).
Потеряв в Швейцарии все свои пушки, сохранив только знамена, потеряв четвертую часть своих людей, Суворов вывел остальную армию из окружения[153] и был в Вене[154] отмечен императорскими почестями, потому что в войне против французов это был первый настоящий успех, хотя и при тактике отступающей армии.
Но ведь Суворов не мог провести ни одного своего начинания среди австрийцев и немцев. Но надо сказать, что и немцы с трудом проводили, как мы видели на примере Барклая-де-Толли, свои очень умные начинания среди русских. Так с чем же связана индукция пассионарности? Очевидно, с каким-то настроем, который является связующим этнос началом. Почему? Какая разница между русскими, французами, немцами или еще кем-нибудь? Для нас все одно, потому что мы находимся в своих пределах.
Но вот когда те же ленинградцы[155] попадают в обстановку совершенно разноплеменную, разноязычную, полиэтническую, они вдруг чувствуют — ленинградец — это свой. Потому что встречаешься с человеком, а он говорит: «Я — из Ленинграда». — «А я тебя где-то видел». — «И мне твое лицо знакомо». И у москвичей — то же самое.
Но, друзья мои, когда мы попадаем в полиэтническую обстановку, как, например, в Германии в 1945 г., где было вот так всё намешано (показывает жестами. — Ред.) — французы, итальянцы, поляки, какие-то немцы ходили, венгры, — мы великолепно чувствовали свой локоть,[156] что мы все свои. Когда в других местах — в Сибири — мы оказывались в полиэтнических условиях,[157] где были казахи, китайцы, корейцы, украинцы западные и восточные и русские, там (в исправительно-трудовом лагере. — Ред.) бригады старались формировать из своих земляков (то есть уроженцев одной местности. — Ред.). И в бараки старались поместить земляков или людей из близких к себе народов. Например, были мусульманские бараки: узбеков туда пускали, казахов и иногда татар и очень не хотели пускать поляков и западных украинцев. И наоборот.
То есть здесь не личные отношения, друзья мои, этнический момент прослеживается реально, он наблюдается как феномен.
* * *
А что же такое пассионарность как феномен?
Как известно, Земля получает свою энергию от биосферы, а биосфера абсорбирует гелиевую энергию, энергию Солнца.[158]
Зеленые растения за счет фотосинтеза производят энергию каждые сутки, днем абсорбируют, а ночью отдыхают. Животные поедают растения, идет совершенно обычный жизненный цикл. Это та нулевая система отсчета, о которой я говорил. Есть и другая энергия — энергия радиораспада элементов, находящихся внутри Земли.
Эти элементы находятся в коре в довольно больших количествах, но очень неравномерно. Если жить на урановом месторождении, можно и лучевую болезнь получить, и другие неприятности. А бывают такие условия, при которых человеческие группы адаптируются, приспособляются к условиям повышенной радиации, и тогда создаются совершенно новые этносы, не похожие на свои исходные.
Где у нас большие урановые месторождения, всем известно? В Южном Конго. Кто там живет? — Негры банту, которые пришли туда совершенно недавно — около V–VIII вв., и древний народ пигмеи.[159] Пигмеи — маленького роста, довольно хлипкого телосложения, они не имеют таких качеств, как, например, любовь к искусству, они не знают прошлого и настоящего дальше чем будущий день и ночь. Пигмей не знает, сколько ему лет, потому что год для него — это слишком большой срок.
Вместе с тем они очень неглупые, приспособленные к обстановке. Они умеют великолепно ориентироваться в тропическом лесу. Настолько, что банту не могут существовать без них, потому что если какая-нибудь женщина поидет собирать бананы, она заблудится. Один путешественник описал, как «женщина три дня ходила по лесу и почти погибала, а тут ей встретился знакомый пигмей и за 10 минут ее вывел». Без пигмеев банту жить нельзя. И пигмеи используют это «на всю катушку». Пигмеи умеют то, что не умеет никто, кроме них: из лиан строить мосты через широкие реки. Через узкую-то реку перейти можно, а через широкую переплывать вплавь опасно. Поэтому надо построить мост. Материал — одни лианы на одном берегу и на другом. Так вот, пигмеи что делают? Привязывают к пальме на одном берегу лиану, садится парень, раскачивают пальму так, чтобы он долетел до другого берега и схватился там за вторую пальму. Если он промахнется и не схватится, лиана поидет обратно и его может ударить о первую пальму. Очень опасное дело! Ну, когда удается протянуть первую лиану, дальше уже идет легче и они создают великолепный висячий мост…
Банту используют эти уникальные способности пигмеев.
Он знал, что этот пигмей хочет жениться, а женщину надо выкупить. У них не как у нас — за женщину надо платить, за ней надо ухаживать. Женщина — это большое дело. Тогда тот говорит: «Выкупи себе невесту». Вот тот и сделал мост и получил себе невесту. Вот так вот они реагируют на подземные радиоактивные излучения.
* * *
Аналогичная история была на Малакке,[160] где тоже довольно много урана. (Я рассказывают это для того, чтобы вас убедить, потому что то, что я говорю, совсем не банально.) Там японцы наступали в 1941 г. на Сингапур.[161] Морем они не могли наступать и шли через полуостров Малакку, через непролазные джунгли. Самолеты у японцев были, но аэродромов не было. Поэтому японское командование решило построить аэродром.[162]
Собрали местное население, послали какого-то офицера, который по-малайски умел говорить, он со всеми договорился, сказал, что будет платить хорошо. «Только помогите — каждый день будем платить». И все пришли из деревень с ножами. И проработали не за страх, а за совесть целый день. Японцы были страшно довольны и заплатили. На следующий день — ни одного человека.[163] Послали офицера этого самого узнать, в чем дело. Староста деревни говорит: «Так вы же глупо сделали — вы им заплатили. Пока они не проедят эту свою зарплату, они к вам не придут. Надо было платить, когда они всё сделают. Тогда бы всё было в порядке». Они не глупые, они не хуже, чем мы, они просто другие. Они подвергаются излучению другого характера, нежели мы.
А иногда люди сами изолируются от Земли, и тогда поступает нуль излучения. Вот как мы по асфальту ходим и землю не чувствуем. Я старый ленинградец, даже петербуржец,[164] помню, как я ходил по булыжнику — совсем другое ощущение: ходить неудобно, а здоровье лучше. Такое слово, как гипертония, никто и не слыхал тогда.
И вот третий вид энергии — это, пожалуй, самый важный, потому что всем ясно, что ни фотосинтез, ни радиооблучение этноса породить не могут.[165] Сделаем перерыв, и я расскажу подробнее.
(Перерыв.)
* * *
Мы видим, что хтонические воздействия,[166] радиораспад — ни в коей степени не могут способствовать возникновению пассионарности, так как при них внутренняя структура людей упрощается, и они становятся очень милыми и совершенно беззащитными, весьма приспособленными к обстановке, но не стремящимися к развитию, к ним можно испытывать симпатию, но они даже не ставят себе никаких целей, не то что не собираются рисковать ради них своей единственной, милой жизнью. И, кроме того, есть мощное возражение против геологической концепции пассионарности — ведь мы знаем: там, где имеются большие залежи урановой руды и где идет радиораспад, там этносы не возникают. И наоборот, если бы они возникали именно там, где это есть, или там, где этого наверняка нет, то были бы постоянные очаги этногенезов — образования народов. А этого — нет. Ибо этнос — это есть продукт этногенеза, а этногенез — это процесс инициирования пассионарности.
Но… этносы возникают то там, то тут, где попало. (См. карту пассионарных толчков. — Прим. Ред.). И очаги их возникновения явно не связаны с какими-то отдельными точками на Земле. И поэтому нам придется обратиться к третьему источнику энергии, которую получает наша биосфера и которая была описана Вернадским.
Это отдельные пучки энергии, приходящие к нам из межгалактических пространств или, во всяком случае, из межзвездных пространств нашей Галактики. Они попадают на Землю иногда, в зависимости от каких-то неизвестных нам космических ситуаций, и, по-видимому, именно они вызывают те микромутации, когда возникает пассионарность как новый феномен.
В пользу этой последней точки зрения говорит географическое ландшафтоведение и исследование начал пассионарности — зон пассионарных толчков. Но это особая тема, требующая карт и требующая специального внимания, которую я позволю себе отложить на одну из последующих лекций.
А сейчас мы вернемся к описанию пассионарности и связанных с нею моментов, которые помогают этносу в течение одного тысячелетия или полутора тысячелетия удержаться как целостной единой системе.
Если мы воспринимаем пассионарность как возникающий и создающий этнос импульс, то можно спросить — куда же он девается? — Его энергия усвояется совершенно естественным образом. Но пока она существует, люди этого единого настроя объединяются по принципу комплиментарности. Complementum — это латинское слово «дополнение» или французское compliment — «привет». Это неосознанная симпатия одних людей к другим и антипатия — к третьим, то есть положительная и отрицательная комплиментарность. Когда создается первоначальный этнос, то этих активных ребят, сподвижников, о которых я говорил в прошлый раз, подбирают себе просто по принципу симпатии: «Иди к нам, ты нам подходишь». Так отбирали викинги для своих походов: они не брали тех, кого считали ненадежными, неподходящими, со сварливым характером, не годным для того, чтобы взять его в ладью, где на каждого человека была максимальная нагрузка и ответственность за собственную жизнь и жизни своих товарищей. Также Ромул и Рем собирали своих ребят, которые потом стали патрициями, превратились в специальную систему. А когда они организовывали бандитские шайки на семи холмах, то начали терроризировать окрестные народы.
Также поступали первые мусульмане:[167] они требовали от всех признания веры в единого Бога, но в свои ряды — мухаджйров[168] и ансаров[169] (наиболее верных и надежных) они старались зачислить людей, которые подходили друг другу.
Надо сказать, что от этого принципа мусульмане довольно быстро отказались и стали брать всех. И за это заплатили очень дорого, потому что как только в состав мусульман попали лицемерные мусульмане, те, которые говорили: «Хай буде![170] Нам, в общем, абсолютно безразлично — один Бог или четыре, нам важны выгоды, доходы и деньги», то к власти они и пришли и стали Омейядами.[171] Их возглавил Моавия ибн Абу Суфьян[172] — сын врага Мухаммеда, взял власть в свои руки, сказал: «Вера ислама должна соблюдаться, а вино я пью у себя дома, и каждый желающий может выпить, я на это не буду обращать никакого внимания. И молиться, конечно, все обязаны, но если бы пропустил намаз,[173] то я тоже на это не буду обращать внимания. А если ты хапаешь (воруешь. — Ред.) государственную казну, но ты мне симпатичен, то я тоже не буду обращать на это внимания».
То есть как только принцип отбора по комплиментарности заменился принципом всеобщности, так система испытала страшный удар и деформировалась. При этом инстинкт комплиментарности явно относится к числу биологических, а не социальных, хотя бы потому, что он точно так же проявляется у животных. Каждый знает, что собака или даже кошка относится к вашим гостям избирательно — к одним хуже, к другим — лучше. То есть этот принцип отбора для более или менее тесного общения есть у животных. На этом принципе основано приручение животных, на этом принципе основаны семейные связи.
Но когда мы берем это в исторически больших масштабах, то эти связи вырастают в очень могучий фактор отношений в этнической популяции (в данном случае мы можем сказать — популяции, то есть населения данного региона) — собственно пассионарность.
Пассионарии, как я сказал, гибнут во время войн в большом количестве. Но как ни странно этот ущерб постоянно восполняется — не сразу, а примерно через поколение, потому что молодые пассионарии, прежде чем идти на войну, рассеивают генофонд по популяции.[174] Получается большое количество детей, которые, не зная своих отцов, тем не менее, имеют этногенетическое сходство с ними, в данном случае — признак пассионарности, который передается путем самой обычной половой наследственности. Поэтому после самых жестоких войн, которые приводят к разрушению культуры, губят массу людей, идет резкий процесс восстановления за счет нового поколения, родившегося от погибших отцов, которых дети даже не знали.
Вы сами понимаете, что поэтому связывать признак пассионарности с каким-то классом, сословием или другой социальной категорией — это нонсенс. Главный способ его переноса — это не законные, а именно незаконные (то есть внебрачные. — Ред.) связи. Они-то, собственно, и поддерживают систему на довольно высоком уровне пассионарности.
И, наоборот, в мирное время комплиментарность имеет другой знак. Если женщины во время войны ценят героев (а герои такие есть!), то в мирное время они ценят положительных основательных людей, которые способны обеспечить их и потомство. Вспомните хотя бы «Горе от ума». Достойный ее пассионарий Чацкий любит Софью, но она предпочитает субпассионарного Молчалина.[175] Почему? Она же ничего не видит. Она совершенно искренна. Она убеждена, что вот именно этот добросовестный чиновник, который бесспорно сделает себе вполне достойную карьеру, он даст ей спокойную жизнь и обеспечит ее потомство. Это пример очень характерный.
В результате в такое время никакого смешения, генетического переноса признака, и не надо ожидать. В мирное время будет увеличиваться количество гармоничных и слабо пассионарных личностей. А куда деваться пассионариям? Они будут стремиться найти, так сказать, любовь ответную среди доступных женщин, то есть в совершенно других слоях общества, среди каких-нибудь горничных, трактирщиц, крестьянок. Появятся бастарды. Фактически вот здесь (Л. Н. Гумилев показывает на графике «Изменение пассионарного напряжения этнической системы» на эпоху этнического надлома. — Прим. Ред.) появятся создатели государств, поэты, мыслители, которые, унаследовав энергию отцов, будут недовольны своим социальным положением и происхождением, и они будут его ломать.
Отсюда и происходит постоянная перекачка пассионарности из одного социального слоя в другой. И поэтому считать пассионарность достоянием тех или иных семей, тех или иных фамилий совершенно бессмысленно. Вы знаете, честно вам скажу, еще в молодости, когда я был в школе, я сильно интересовался, а кто такой Аттила — вождь гуннов, замечательный строитель пирамид Рамзес? Аттила сумел Рим обуздать, походы совершил. Зачем, почему? — Ни школьные учителя, ни преподаватели, ни мои коллеги на историческом факультете на этот вопрос ответить не могли. (А между прочим научно-технический прогресс и развитие производительных сил были и там, понятно.)
Когда этнос, этническая система теряет свою пассионарность и уровень пассионарности становится ниже какого-то необходимого минимума, система перестает себя защищать, она теряет свои внутренние связи и после этого она становится жертвой всех. Или тихо-спокойно переходит в гомеостаз, что тоже всегда бывает малоприятно.
* * *
Но к чему относится наш феномен. Давайте сделаем полный разворот и посмотрим, на что это похоже. Материальный ли это момент? Или социальный? Или биологический? Физиология — это похоже близко, но что же по существу? Забегая вперед, скажу, что пассионарность — энергетический момент. Толчком размышлениям на эту тему послужило то, что я оказался в тюремной одиночке. Сидеть там, надо сказать, скучно. И чтобы не сойти с ума, я напряженно думал об истории. Времени у меня было очень много. Я понял, что у людей существует особое качество. Я не знал еще, что это такое, и назвал его «пассионарностью» — стремлением к иллюзорным целям. Она как бы — антиинстинкт. Тогда, а это был 39-й год, я еще не мог понять, что это такое. В 50-м г., когда я снова сидел в одиночке в Лефортове, мне из тюремной библиотеки выдали книгу Тимирязева «Жизнь растений». Там была изложена тимирязевская теория фотосинтеза. Гуманитарии таких книг обычно не читают, но в тех условиях я прочел ее всю. … Из окна камеры — редкий случай! — на каменный пол падал узкий луч солнечного света. Я понял: то, что я нашел и описал для себя в истории, есть проявление флуктуации энергии. Излишняя энергия выходит через деятельность.
Итак, я давно знаю, что такое пассионарность, и что в исторических категориях возможно применять работающие пассионарные подходы, и что решаются исторические проблемы с помощью моей концепции с такой же легкостью, как человек, знающий алгебру, решает арифметические задачи.
Первую докторскую диссертацию я защитил в 1961 г. на тему «Древние тюрки VI–VII веков». Но я не выступал с этой концепцией, потому что я не знал, какая же это форма энергии. Ясно, что не механическая форма, хотя она проявляется в механических передвижениях — миграциях, походах, строительстве зданий. Но это — проявление, сама по себе она не механическая энергия. И ясно, что это не электрическая энергия, электричество ведет себя совершенно иначе, и его можно было бы засечь приборами. Совершенно ясно, что и не тепловая — у пассионария не обязательно должна быть температура 48 градусов.
Какая же это энергия?
И тут у нас вышла замечательная книга. Это посмертная работа Вернадского «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», где эта нужная мне форма энергии была описана (М., 1965. — Прим. ред.). Вернадский назвал ее геобиохимической энергией живого вещества биосферы. Это та самая энергия, которая получена растениями путем фотосинтеза и затем усвоена животными через пищу. Она заставляет всё живое расширяться путем размножения до возможного предела.
Один лепесток ряски, размножаясь в большом озере, может закрыть при благоприятных условиях все озеро и остановится только там, где есть берега. Одно семечко одуванчика, если не уничтожать его потомства, покроет всю Землю. Медленнее всех размножаются слоны. Вернадский в своей книге подсчитал, какое количество времени потребуется для того, чтобы слоны, при нормальном темпе размножения, заняли всю сушу Земли. Оказалось — 735 лет. Совсем немного.
Земля существует только за счет того, что эта энергия разнонаправлена и одна система живет за счет другой, одна погашает другую.
Убивая и воскрешая,
Набухать вселенской душой -
В этом воля Земли святая,
Непонятная ей самой.[176]
Теперь название этой вселенской души мы знаем — это биогеохимическая энергия живого вещества биосферы. Название длинное. Для наших целей будем называть ее короче — пассионарность, но будем иметь в виду, что пассионарность — это только эффект, который помогает нам эту энергию обнаружить.
А если так, то эта энергия должна вести себя согласно всем энергетическим законам. Прежде всего, она должна отвечать энергетическому эквиваленту, то есть переходить в другие формы энергии, скажем, в механическую и тепловую. — Переходит. В электрическую? — Вероятно, тоже переходит, это надо исследовать.
Где эта энергия содержится, в каких органах человеческого тела? На это, пожалуй, могут ответить физиологи, которые работают с энцефалографами. Они меряют биотоки. Насколько я знаю, энцефалограф не совершенен только в одном: он берет слишком большое количество биотоков, и ненужные биотоки пока не удается отсортировать. Он несовершенен. А если он дает всё нужное, что нам требуется, то мы сможем измерить ту самую энергию, которая порождает пассионарность. Но для этого нужны знания, которых у меня нет.
Индукцией эта энергия обладает, как я вам уже рассказал. Например, можно физиологически наэлектризовать солдат, возбудить их. Каждый из нас это знает, каждый из вас электризовался. Когда вы идете в Филармонию слушать какого-нибудь хорошего музыканта и когда вы его же слушаете по телевизору, вы чувствуете, что разница большая, хотя звук тот же и он играет на том же фортепиано. Но там он воздействует на вас непосредственно, а через телевизор опосредованно. Так чем же он (пассионарий. — Ред.) на вас действует? — Очевидно, он воздействует полем той самой биохимической энергии, которая не только содержится в нем, не только заставляет его совершать работу, но и имеет еще направленность.
Поле это самое я привык (по школьным своим знаниям, которые весьма устарели) трактовать в виде кругов вокруг какого-то определенного предмета. Но дело не в этом. Я не хочу сейчас рисовать. Я хочу только сказать, что поле состоит из таких силовых линий, которые не стоят спокойно. У нас ничто в мире не стоит спокойно, а находится в движении — это можно сказать без ошибки. Но какого рода движение здесь имеет место? Мы знаем три вида движения: поступательное, вращательное и колебательное. Так вот здесь мы видим у этносов вот это самое поле, которое есть вокруг каждого предмета: вокруг этой указки, вокруг этого дома, вокруг всей нашей Земли, вокруг каждого из нас. И это поле можно измерять, можно фиксировать и уже сейчас есть такие приборы. Только нужно, чтобы кто-то из историков этим занялся.
А если так, то тогда мы можем сказать, в чем же различие этносов, в чем различие тех настроев, о которых я говорил в начале лекции. Очевидно, в частоте колебаний поля, то есть в особом характере ритмов различных этнических групп. И когда мы чувствуем своего — это значит, что его ритм попадает с нами в унисон, а когда ритмы в унисон не попадают, нам кажется, что он — чужой для нас. Мы это ощущаем, но это не сам феномен, а его проявление. Вот почему этнос есть явление природы. Он есть! Он существует! Это не просто ответ, но факт. Это та реальная форма жизни, при которой только и в состоянии существовать вид Homo sapiens. Вне этого он превратится в эндемика,[177] то есть займет какую-нибудь одну котловину на всей Земле, и там только и будет находиться и добывать себе скромную пищу. А благодаря тому, что этносы способны адаптироваться в разных ландшафтах, способны приспосабливать к себе окружающую среду (иногда ломая ее, а иногда, наоборот, находясь с ней в контактах, при которых можно взаимно существовать) — вот это и есть качество той энергии живого вещества биосферы, которое проявляется в эффекте пассионарности.
Эта энергия дает нам сопричастность всей природе Земли. Мы уже не являемся оторванными от нее, как какой-нибудь росток, мы уже чувствуем, что не имеем права бороться с природой, а должны в ней жить и быть к ней сопричастны.
* * *
Вопрос об охране природы, которым я закончу сегодняшнюю лекцию (я уже много сказал), стоит сейчас очень остро. Потому что совсем недавно существовал способ уничтожения природы, подкрепленный своей теорией. Теория очень простая: в мире есть полезные и вредные живые существа.
Почти все индейцы Северной Америки жили до прихода европейцев в составе биоценозов. Количество людей в племени определялось количеством оленей. Внесение изменений в законы природы они считали порчей природы. По мнению индейцев, природа находится в зените совершенства, потому что Великий дух Гитчи-Маниту создал в мире все нужным и равноправным. Природа их кормит, отдает излишек богатств, а этнос диктует своим членам не требовать от нее сверх положенной меры. Можно убить себе в пищу прирост стада копытных, но без ущерба для них. Охота была для племени общественным делом, и любое самовольство жестоко наказывалось.
Индейцы сиу утверждали, «что Дух земли творит, то неделимо; со всем сущим нас связывают узы родства». Эти слова приводятся в книге американца Дугласа.[178] Но, увы, история полезна только тем, кто ее выучил. В обратном случае обывательский «здравый смысл» провозглашает губительную концепцию покорения живой природы.
Американцы считали, — надо взять всё полезное, истребить всё опасное или могущее стать опасным. Это точка зрения, с которой европейская цивилизация вползла в XX век и за которую сейчас уже мы с вами отдуваемся.
В действительности же правы были индейцы: всё связано цепями биоценоза, из одного элемента переходит в другой, и нарушение этих биоценозов, даже путем полного истребления вида, наносит непоправимый ущерб биоценозу в целом. И живая система превращается в косное вещество.
Так европейцы в Америке убивали «вредных» хищников, сокращавших поголовья «полезных» оленей. В результате поголовье оленей, среди которых стали свирепствовать болезни, резко уменьшилось. Кроме того, их безрассудной и бесконтрольной энергией, или пассионарностью, были уничтожены не только растения и животные, но и индейцы, сумевшие обрести экологическую нишу в биоценозах. Они погибли, как и братья их меньшие, потому что их отнесли к составной части природы, подлежащей переделке.
Мы все помним историю курорта в американских Скалистых горах, где было много комаров. Американцы провели опыление ДДТ и уничтожили свыше 80 % комаров, но вместе с ними мелких животных, земноводных и т. д. Остались одни комары, они адаптировались к этим реалиям и стали кусать отдыхающих еще больше. Курорт закрыли.
Кто читает фантастику? В одной книге там фигурирует героиня — так вот она перестала есть овощи, потому что считала, что это живые существа. Не буду пересказывать всю книгу, но это привело к тому, что существовавшие ранее цепи взаимодействий стали обрываться. Паук не мог поймать муху и т. д. В результате была нарушена взаимная цепь убийств и воскрешений, — цепь, благодаря которой существует биосфера Земли.
Сообщение изменено: Алексей555, 18 Апрель 2011 - 12:50.
#11

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 12:55
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 12:55

Закономерности в этногенезе. - Кривая этногенеза.
О мотивации поступков людей. - Александр Македонский. — Сулла. — Испанские конкистадоры. — Обвинение в биологизме.
Уровни пассионарности. - Пассионарии. — Гармоничные люди. — Субпассионарии.
Возникновение этносов. - Появление первых пассионариев в Аравии. — Мухаммед. — Образование консорции. — Мухаджиры. — Ансары. Мухаммедане. — Территориальное расширение арабов.
На прошлом занятии мы установили, что этносы в своем развитии переживают столь же закономерные упадки, как и закономерные возникновения. Это, казалось бы, совершенно банальное явление, но мы его ведь в социальных структурах не замечаем.
В социальном развитии мы наблюдаем прогресс, — возвышение от низших степеней к высшим, — по спирали. Ничего подобного мы не видим в этногенезе. Я показал только отдельные, частные примеры на крупных срезах мировой этнической истории, но мы можем сделать обобщение, которое я сейчас продемонстрирую на доске. (Л. Н. Гумилев показывает на графике. — Прим. ред.)
Каждый этногенез проходит определенные этапы своего развития, которые можно изобразить в виде кривой. Вы можете мне поверить вперед, но я просто решил сначала дать теоретическую картину, затем подтвердить ее фактами (а не давать всю сумму теоретических знаний по этнической истории для того, чтобы в конце дать обобщающую картину, то есть проделать работу, которую я уже проделал).
Надо сказать, что метод подачи, который я применяю сейчас, — он характерен для естественных наук, а не для наук гуманитарных. Потому что гуманитарии, работающие в области истории, считают (как мне было в Москве на этой неделе заявлено), что всем надо начинать с источников, то есть с начальных документов, фиксирующих те или иные события. Так как первоначальных документов нет вообще, а те источники, которые до нас дошли, являются переписанными, то это уже само по себе невыполнимое задание. А, кроме того, вся цепь исторических событий в политической и социальной истории уже сведена (обобщена. — Ред.) предыдущими поколениями. То есть повторять их работу — это мартышкин труд, это делать уже сделанное дело — заново изобретать велосипед. Кроме того, это невозможно, потому что то, что сделали за 500 лет лучшие умы Европы, не может сделать один московский доцент или даже доктор наук. Поэтому, волей-неволей, он отстанет от своих предшественников, которые жили на 200–300 лет раньше него. Но я не могу сказать, что мой оппонент со мной согласился. Но надеюсь, что вам всем это будет совершенно ясно. Давайте базироваться на достижениях науки, и поидем дальше. А дальше будет следующее. (Л. Н. Гумилев подходит к школьной доске и рисует. — Прим. ред.). Мы нарисуем (плохой мел!) обычные — декартовы координаты и поставим по абсциссе t — «время». Этногенез любого народа имеет начало и конец, то есть начинается где-то, естественно, на положительных величинах, выше оси абсцисс, затем он проходит довольно быстрый подъём, затем у него получается акматическая фаза — самая верхняя фаза с вот такой гармошкой, — подъём и спад, подъём и спад. Затем начинается медленный, вот так сначала, потом так, медленный, медленный, медленный спад. И потом, в конце — окончательный спад, меньше первоначального уровня.
Эта кривая выведена мною эмпирически на базе всех имеющихся данных по этнической истории и может быть подтверждена на любом частном примере, включая даже доколумбову Америку. Но нас сейчас будет интересовать другое — что это за кривая? Известна ли она науке?
Должен сказать, что я не физик, и поэтому физические проблемы мне мало известны, но когда я в прошлом году читал лекцию в Новосибирске, а потом повторял в Ленинграде, то ко мне подошли кибернетики и сказали: «А ведь кривая-то нам хорошо известна. Эта кривая горящего костра; развивающегося порохового заряда; вянущего листа».
Рассмотрим термодинамическую кривую, первичный режим. Скажем, в подожженном костре или в складе (тут вопрос только в абсолютных измерениях времени) сначала идет быстрое нарастание температуры. Затем, когда все охвачено уже огнем, температура соприкосновения с внешней средой то опадает, то опять вспыхивает — за счет дополнительного сгорания внутри. Затем она медленно опадает, медленно затухает. Все превращается в пепел и в виде пепла остывает до конца. То есть, исследуя историю этносов, мы подошли к очень известным термодинамическим законам, — законам взрыва, быстрого нагревания, который затем остывает — от соприкосновения со средой. Прекрасно.
Но я чувствую, что вы меня должны спросить (хотя вы не спрашиваете, но я сам себя за вас спрошу): если мы здесь, по абсциссе, отметим время (века, допустим, которых всего должно быть при нормальном прохождении процесса двенадцать, тринадцать веков плюс минус полтораста лет), что мы отметим вот здесь по вертикальной оси, которая для нас совершенно не понятна? Что показывает ордината?
Она показывает количество событий, которые происходят в эпоху и уносят вместе с собой известное количество человеческих жизней, создавая на их месте известное количество зданий, дорог, машин, предметов искусства и так далее. То есть это совершенно закономерный процесс. То есть события, которые люди делают, чем-то мотивируются.
Так чем же могут мотивироваться те события, которые ведут к этому процессу? Это — вопрос вопросов. Очень много было сказано по этому поводу всякого рода загадок. Но я сейчас не собираюсь излагать историю вопроса, это заведет нас в сторону, а изложу просто ту концепцию, которую я положил в основу своей этнической истории.
Я сделал следующее наблюдение относительно того, что нужно обычным людям. Как писал Горький: «Нужны кусок хлеба, крыша над головой и женщина. Нормальному человеку н-и-ч-е-г-о сверх этого не надо». Это он написал в сочинениях «Мои университеты» и «Сторож». И действительно, кажется, правильно. А зачем что-то большее?
Если вы имеете, скажем, ежедневно три котлеты, — две съедаете, две с половиной даже, а полкотлеты оставляете для птичек, то зачем вам сорок восемь котлет? — Их некуда девать.
Если вы имеете уютный домик с тремя-четырьмя комнатами, то зачем вам дворец на пятьдесят шесть комнат для одного человека? — Скажем, ну, зала, кабинет, но зачем такую массу? А ведь строят!
Если вы имеете достаточное количество денег, чтобы удовлетворить все свои потребности — прокормить жену, детей, себя, выпить по праздникам или по вечерам, как вам вздумается, на все это денег хватает, — то зачем вам огромные вклады в банке? Что они вам дают? — Да ничего.
И действительно, нормальное течение жизни организма, как представителя вида Homo sapiens, не предполагает ничего другого, кроме этого.
И, однако, посмотрим на то, как вели себя хорошо известные исторические люди. Я имею в виду не великих людей, а тех, от которых остались биографии. Они не обязательно должны были занимать высокое положение, но биографии должны быть описаны четко и ясно.
* * *
Вот жил Александр Филиппович Македонский в Македонии в городе Пелла. И был он по должности царем. Должность эта оплачивалась не очень богато, поскольку Македония была страна небольшая. Но все-таки дворец у него был. Конь у него был самый лучший в государстве. Две собаки у него были прекрасные — Гелла и Алла. По одной их выпускали на медведя, и собака драла медведя — могучие собаки! Затем, друзей у него было много, и хорошие друзья, и даже приближенные царя назывались товарищи — гетеры. Например, «товарищ Парменион» или «товарищ Филопа» — гетеры. Это была очень высокая должность. Их было не много, но опять-таки для охот и для всякого рода веселого времяпрепровождения хватало. Развлечений, вы сами понимаете, тоже у царя было в избытке, так что на одного царя всякого рода македонянок, гречанок, россиянок, иллириек, — хватит. А их было, ну, не так много, но недостатка не ощущалось. …У него был такой собеседник, которого не имел никто в мире, — Аристотель. Его наняли, чтобы он был учителем царя. И он его учил… Знаете, даже английская королева не могла такого позволить для своего сына Георга.
И чего же ради он попёр — сначала на Грецию, потом на Персию, потом на Среднюю Азию, а потом на Индию? Что ему не хватало? Вы можете сказать, и обычно говорят, что «на Александра Македонского оказал влияние греческий торговый капитал» (хотя капитала тогда не было), ну торговые круги Греции, которые стремились захватить персидские рынки. Действительно, в Греции появилось довольно большое количество людей, умевших торговать (греки и до сих пор здорово торгуют), — жили они в Афинах, в Коринфе. Но ведь Афины и Коринф выступали против Александра Македонского, а не за него.
И ему пришлось взять Фивы и принудить к капитуляции Афины для того, чтобы обеспечить свой поход. То есть как раз эти-то заинтересованные (якобы) круги купеческого капитала, — они были против войны с Персией. И действительно, а зачем воевать с Персией, когда они и так могли совершенно спокойно с ней торговать? Завоевывать ее не надо было. Может, македоняне хотели невероятно разбогатеть? Вот как раз все источники, которыми в данный момент следует пользоваться, все сообщения о личности Александра говорят, что только его личное обаяние заставило подняться македонских крестьян из своих деревень и отправиться в поход против персов, которые, между прочим, ничего македонянам плохого не сделали. И никакого ожесточения против персов у них не было. Так их, македонян, — не хватало. Ему пришлось мобилизовать греков. Но для того, чтобы иметь возможность навербовать греков, надо было завоевать Грецию. То есть, понимаете, был такой обходной путь.
И он взял Фивы, в то время самый крепкий, самый резистентный из греческих городов, перебил почти все население, мужчин во всяком случае. Женщин и детей продали в рабство и сохранили только один дом — поэта Пиндара, потому что Александр был человек культурный, интеллигентный, и дом поэта он оставил как памятник. А все прочие были сровнены с землей. Для чего? Для того чтобы напасть на ничего не подозревавших и ничего ему не сделавших персов. Но даже когда македоняне захватили Малую Азию, уничтожили там такие сопротивлявшиеся города, как Эфес, Геликарнас, а Миллет сдался, то они уничтожали там не персидские гарнизоны, а греческих наемников, которые сражались за персидского царя против македонского захватчика.
Довольно странная, казалось бы, война. И главное, что никакого смысла для Македонии, то есть для Греции, она не имела. Тем не менее, захватив побережье Малой Азии (что могло быть объяснено стратегическими целями, чтобы им расшириться немножко, создать десант для колонизации), Александр отправился в Сирию. При Иссе он разгромил войско Дария, который бежал. Его жена и дочка попали к Александру в плен. Он рыцарски обошелся с этими дамами — на дочке женился. Хотя у него уже была жена, он взял другую и пошел завоевывать дальше — Палестину и Египет. И тут пришлось ему взять Тир, который согласился ему подчиниться, но отказался впустить македонский гарнизон. Ну, казалось бы, изолированный город на острове, никакой опасности не представляющий, юридически подчиняющийся, мог бы остаться вне внимания армии, которая ставит себе совершенно другие цели.
«Нет, — сказал Александр, — взять Тир!»
Тир пал, впервые за всю свою историю. Ни одного живого селянина, финикинянина не осталось. Масса македонян погибла, потребовалось подкрепление из Македонии и из Греции. Набор за набором оттуда вытягивали людей. Заняли Египет, казалось, хорошо, чего бы больше? Заложили Александрию, — прекрасно. Дарий предлагает мир и уступает все земли к западу от Евфрата.
Парменион говорит: «Если бы я был Александром, я бы на это согласился».
Александр отвечает: «Я бы на это согласился, если бы я был Парменионом. Вперед — на Восток!»
Ну, все в ужасе и в удивлении. Неизвестно зачем идут на Восток. Разбивают персидскую армию на широкой равнине Гавгамел (это между Тигром и Евфратом), вторгаются в Персию через проходы, теряя людей (там только персы сопротивлялись, их просто мало было). Берут город Персеполь (по-персидски называемый Истахр). Устраивают по этому поводу большой банкет и спьяну поджигают дворец персидского царя, — дивное произведение искусства. Вот и весь смысл похода. Александр объясняет это тем, что когда-то давно, во время греко-персидских войн персы сожгли афинский Акрополь, так вот — он им отплатил. Ну, и афиняне за это время уже успели отстроить Акрополь — из деревянного сделали мраморным, и персы уже успели забыть этот поход, в котором они в общем-то были разбиты и принуждены отступить. Для чего все это, скажите?
Вы думаете, современники не спрашивали Александра? Спрашивали.
Он говорит: «Нет, нет! С Персией надо покончить!»
Ну, ладно, — может, царь такой умный. Он хочет покончить с врагом, а то те на нас нападут. И идет в наступление на запад через восточные пустыни Ирана. Жара, духота, жажда мучит, жара, пыль. Всадники бактрийские наскакивают и стреляют из длинных луков, а македоняне за ними угнаться не могут, падают, отбиваются. В общем, поймали Дария III, которого убили собственные люди. Поймали его убийцу, распяли его на кресте. Ну, успокойся!
«Нет, — говорит, — за рекой — Согдиана (это наша Средняя Азия), мы должны взять все эти города!»
Они говорят: «Александр! Побойся Бога!»
«А как я могу бояться Бога? Когда я был в Египте, то мне объяснили, что мой отец — это бог Юпитер».
«Брось ты, — говорят, — Сашка! Ну, что ты врешь! Ведь я же сам стоял на часах, когда твой отец Филипп ходил к твоей матери! Какой у тебя отец — Юпитер! Вообще, что ты на мать-то клевещешь!»
«А, — говорит, — не признаете! Ну, я вам покажу! Вперед!»
Один за одним падают среднеазиатские города. Сопротивлялись они отчаянно, так, как сопротивлялся запад, так, как не могли сопротивляться персы. (Самарканд, например, отпраздновал тут свой юбилей. Юбилей вы думаете чего? — Разрушения его македонскими войсками. Я понимаю, когда вообще празднуют юбилей города, когда он был воздвигнут. Но когда он был впервые уничтожен, — праздновать юбилей? Но тоже, видимо, можно.)
Доходят до Сырдарьи. Неукротимые персы и согдийцы уходят за Сырдарью и начинают партизанскую войну. Со степной партизанской войной не могут справиться македоняне. И решают захватить горные районы современного Афганистана — Бактрии. А там — горы высокие, крутые, отвесные, на высоте стоят замки, к которым ведет тропинка, вырубленная в скале, так что пройти может только один человек. Сколько бы туда по тропинке людей ни пускали, один, стоящий при воротах, их всех убьет. То есть замки фактически неприступные. Пища там заготовлена, дожди там идут часто, так что там есть большие бассейны — цистерны, в которые собирают воду. Замки эти можно было бы взять только в наше время путем авиадесанта. Но тогда, понимаете, они были фактически неприступны.
Александр приказал взять замок. Как? Нашли выход. Поймали красавицу Раушанак (это в переводе «блистательная»), всем она известна как Роксана. И Александр на ней женился, а замки обложил, не давая людям оттуда выйти.
Людям тоже сидеть, понимаете, в осаде не охота. Они сказали: «Ах, он женился на нашей княжне! Если так, то он наш родственник. Тогда мы согласимся подчиняться, только чтобы он к нам в замки не ходил».
Ну, тут он согласился, потому что ему предложили завоевать Индию. Там шла междоусобная война. Он помог слабейшему, победил сильного, разгромил его пехоту и боевых слонов. Потери были большие, но слонов македоняне сумели обезвредить следующим образом: с десяток наиболее храбрых юношей с тяжелыми ножами на слона бегут и пробегают между его ног, он их давит и хоботом ловит. Но из десяти один успевает добежать до задних ног и перерезать поджилки. Все! Со слоном всё кончено. Такой довольно невыгодный способ войны, но, тем не менее, победа была одержана. И он пошел дальше — в Бенгалию.
В Бенгалии подняли шум — идет какой-то страшный завоеватель, который всех уничтожает. Брамины объявили священную войну. В джунглях забили барабаны, и македонский лагерь оказался окруженным.
И тут солдаты заорали: «Царь! Куда ты нас ведешь? Что нам сделали эти индусы! Зачем они нам, мы ничего с них не хотим, мы даже добычу, которую мы берем в этих отдаленных странах, мы не можем отправить по почте домой! Потом посылки быстренько-быстренько крадут интенданты по пути. То есть нам эта война совершенно не нужна. Веди нас назад, царь! Мы тебя любим, но хватит!»
Александр долго их уговаривал, но потом принужден был смириться перед волей всего войска! Причем ни одного человека не было, который поддержал бы своего горячо любимого царя. Гетеры эти — товарищи его, они были отнюдь не подхалимы, и они резали ему правду в лицо и говорили: «Незачем идти, гибель будет, превосходящие силы противника и, самое главное, — бессмысленность войны».
С огромными потерями при отступлении вдоль Инда, когда пришлось брать каждый город, пробилось македонское войско к устью Инда. Раненых и больных положили на корабль, отправили через Персидский залив. По дороге они массами умирали от жары и от безводья. А здоровые пошли через Керманскую пустыню. Ну, кое-кто дошел все-таки. Царя пришлось везти, потому что в одном городе, название которого не сохранилось, он произвел следующий эксперимент. Я вам я его расскажу, поскольку это для нас важно.
Город отказался открывать ворота македонянам и сдаться. Тогда подтянули лестницы и поставили их к стенам, чтобы штурмовать город. Но лестницы оказались короткими, только одна была длинная. Царь первым полез по этой длинной лестнице, вскочил на стену, а за ним лезут воины. И в это время за ним успели вскочить еще три-четыре человека, и лестница подломилась, и все упали. Ну, ничего особенного, высота была не такая большая, но царь-то оказался на стене вражеского города один! И в него стреляют! Он посмотрел, увидел какой-то дворик внизу и спрыгнул в него, за ним спрыгнули: один сотник и два его гетера — Птолемей и Селевк и еще четвертый. Четвертого сразу убили.
И тут воины, увидев, что этот их царь, этот самый, который завел их в Индию, который требовал от них невероятных лишений, подвергал их смертельным опасностям без всякой пользы, — он подвергается сам опасностям, — это был такой порыв, когда македоняне достали какие-то деревья, вырвали, какие-то палки связали, полезли на стену. Вылезли и смотрят. Царю уже камнем по башке стукнули — он лежит почти без чувств. Селевк и Птолемей держат над ним щиты и своими короткими мечами отбивают индусов. А четвертый сотник (я забыл, как его звали, Эрлик, кажется, что-то вроде этого), он лежит вниз лицом, уже убитый.
— Царь в опасности! Ребята, бей!
От города даже имени не осталось! Но Александр не мог оправиться от этой раны, она его мучила до конца дней.
Но давайте остановимся на этом, потому что после возвращения (он вернулся в Вавилон почему-то, Вавилон уже заброшенный город, но исторический город, не удобный как столица, но шикарно), он там объявил его столицей своей империи и вскоре умер.
Давайте попробуем сказать, что ему, Александру, надо было? Это тот вопрос, с которого я начал свое исследование. Он сам говорил и один раз написал, что ему надо было славы, что он хотел так прославиться и прославить свой народ, чтобы о нем говорили потомки в веках и по всему миру. И этой цели он достиг.
Но скажите, пожалуйста, а что такое — слава? Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Для чего она? Она ничего не обеспечивает, — ни для своей жизни, ни для потомства, ни для богатства. Молодой человек Александр, ему было (сейчас погодите, он в 356 г. родился, в 323 умер — 33 г. Да?), молодой человек умер от истощения. Возможно, даже от яда, оставив потомство, обреченное на гибель, потому что его детей прикончили его полководцы, разделившие его наследие. Для чего он все это сделал? (И жен его убили, несчастных.)
После него разгорелась война диадохов — это была ужасная война. То есть, казалось бы, он не достиг ничего, но имя-то мы знаем, биография-то его сохранилась, а он этого-то и хотел. То есть чего же он хотел? Иллюзии. Может быть, богатства? Он щедро раздавал богатство на все стороны, нет, он не хотел богатства, — для себя, во всяком случае. А те люди, которым он раздавал это награбленное золото, уже потом, вернувшись, что они с этим золотом делали? Да, пропивали, попросту говоря. Это же солдаты, уставшие после походов, которым незачем было делать какие-то накопления. Завтра их опять позовут в поход, завтра опять в бой. — Зачем иметь какое-то имущество? И они бросали не пропитое золото, отдавали его своим подружкам, шли снова в бой и воевали. Причем на этот раз, — уже друг против друга. Одни — за Антигона, другие — за Селевка, третьи — за Птолемея, четвертые — за Эрмена и Пердикку и так далее. Причем никаких лозунгов ими не высказывалось, а просто говорилось: «Братцы! Наших бьют!» — и этого было достаточно.
То есть Александр стремился к иллюзии.
Но может быть, это исключительный случай? Давайте посмотрим, может быть, речь идет о каком-то, ну просто фантастическом каком-то царе, который воспользовался своим служебным положением во зло и своему народу, и всем окружающим?
* * *
Но возьмем такого человека, как, допустим, Сулла, биография которого хорошо известна. Больше известны, между прочим, биографии древних людей, чем людей средневековых, так что возьмем еще одного грека.
Вот стоял Рим, выигравший еще одну страшную Пуническую войну, победивший Карфаген, захвативший всю Италию, — богатый город, растущий, с дворцами, с веселыми площадями, где плясали цыгане; где показывали фокусники фокусы; с театрами, где великолепные актеры надевали маски, а актеры изображали всякого рода танцы.
И вот, жил в этом городе обедневший аристократ Луций Корнелий Сулла.[90] Когда мы говорим обедневший аристократ, нам кажется, что он ходил и думал, где бы что-нибудь покушать. А ведь в то время «обедневший аристократ» значило совсем другое. Это значило, что у него на складе не лежало двадцать мешков золота, но дом у него был. Вилла у него была, как бы мы сказали — дача, не такая дача, как у наших профессоров, а каменная с атриумом — с бассейном, с большим парком. Рабыни у него были, рабы у него были, о пище он, конечно, не думал, потому что у него были стада быков или свиней, которые паслись в его дубовых рощах. Это считалось не богатством, это считалось нормальным достатком. Это же мы сейчас прогрессивные люди считаем, что если съел бифштекс, так это хорошо. Они-то считали — а как же иначе! Они же были еще «отсталые». (Смех в зале. — Прим. Ред.) Ну вот.
И все у него было. И веселый был он человек, остроумный, Луций Корнелий Сулла. И приятели у него были, и приятельницы в большом количестве. Но жизнь ему была не сладость, потому что Рим вел войну с нумидийским царем Югуртой где-то далеко в Африке. И победу над Югуртой одерживал народный трибун — Гай Марий.[91]
Марий был человек коренастый, рыжеватый с большим лицом, грубый, отнюдь не остроумный, очень умный, прекрасный организатор, великолепный вождь. Связан он был с всадниками, то есть с богатыми людьми Рима, которые ему давали деньги под эти его военные операции, а он возвращал с процентами за счет местного населения, оставляя себе достаточное количество. То есть Марий считался первым полководцем и умнейшим человеком Рима и был, видимо, хороший полководец. И Суллу заело — почему Марий, а не я?
И что он сделал? Он попросился к Марию офицером. Ну, это можно было устроить, ему устроили (блат у него в Сенате был большой), послали его. Марий говорит: «Пожалуйста, останьтесь при штабе, Луций Корнелий!»
А он: «Нет! Мне бы — на передовую».
«Странно. Но если хотите, — поезжайте».
Но там он совершил чудеса храбрости, там он своей атакой римской конницы опрокинул нумидийскую конницу, причем откуда он достал римлян — они ездить верхом не умели, но как-то Сулла сумел воодушевить свою конницу, что она сломила этих берберов, предков нынешних туарегов.
Югурта бежал в Марокко к мавританскому царю Бокху. Сулла отправился туда, как парламентер, — и потребовал выдачи Югурты, пригрозил Бокху так, что ему выдали гостя в цепях! — что для Азии и для Африки считалось самым страшным и позорным. Он привез этого несчастного Югурту в Рим, запихали его в подземную темницу, закрыли камнем, так с концами — до сих пор Югурта там.
А какую выгоду имел от этого Сулла? Вы думаете, деньги? Нет. Деньги получил Марий. Весь поход он собирал контрибуции с населения, страшно грабил это население, деньги попадали к нему, он их распределял. Сулла ничего не получил, так, какие-то наградные мелкие, которые ничего в его бюджете вообще не значили. Но он получил возможность ходить по Римскому форуму и говорить: «Нет, все-таки Марий-то дурак! А герой-то — я!»
И больше ничего. Ну, некоторые высказывались, как всегда: «Да, ну его, — хвастунишка! Вот, Марий!
И это его злило еще больше. И когда кимвры (это галлы) и тевтоны (это германцы) перешли через альпийские проходы и ворвались в Северную Италию, чтобы уничтожить Рим, против них были брошены все римские войска, и Сулла попросился опять.
Ему сказали: «Ну, ладно, раз ты такой смелый, — давай!»
Он отправился и вызвал на поединок вождя этих кимвров, этих галлов и перед войском его заколол. Отчаянный жест! После чего римляне одержали победу.
Сулла явился в Сенат: «Ну что, видели? Ну, что ваш Марий? Мешок он на ножках! А вот, я!» — и никакой другой выгоды он от этого не имел.
После этого случилось для римлян несчастье. Они вели себя, надо сказать, в завоеванных странах исключительно по-хамски и обдирали население, как могли, поэтому никакой популярности у них не было. И когда царь понтийский Митридат выступил против Рима как освободитель Востока, то ему удалось перебить огромное количество римлян, рассеянных в Малой Азии и Греции. Война эта была такая, с нашей точки зрения, странная. Понтийское царство включало в себя восточную часть южного берега Крыма. Примерно от Феодосии до Керчи, Таманский полуостров и узкую полоску южного берега Черного моря, там, где сейчас Трапезунд и Синоп. Между горами и морем. И вот это-то царство выступило воевать против всей Римской республики, которая уже включала в себя, кроме Италии и Греции и Северной Африки, Испанию и часть Галлии, Южную Францию. Казалось бы, война такая не равная. Но, тем не менее, Митридат имел огромные успехи. Сулла потребовал, чтобы его послали на эту войну. Но тут Сенат сказал: «Хватит. Дай поработать и другим».
И назначили против Митридата кого-то другого, ставленника Мария. Сулла пришел в свой лагерь солдат, которых он хотел вести, которые были отставлены, к своему легиону, устроил митинг на скорую руку и заявил: «Солдаты! Нас отставили от похода!»
Те в ответ: «Как, что? Ах, как досадно, жалко! Вот мы думали сходить на войну!»
(Тогда ведь к войне было совсем иное отношение, чем у нас. Тогда люди хотели попасть на войну, они бежали на войну.)
Сулла говорит: «Что? И вы так разговариваете, квириты» (то есть граждане).
Это он их странно оскорбил, он их должен был бы назвать милитес — воины.
Те: «Как ты смеешь нас так называть?!»
«А то, что вы — дерьмо, — сказал Сулла, — сидят там старые идиоты в Сенате и под дудку Мария принимают решения, а мы все терпеть будем?!»
«Нет! Не будем терпеть! Веди!»
И Сулла скомандовал им: «В поход! В ряды! Шагом марш! На Рим!»
Рим был довольно далеко. Там узнали, что Сулла идет наводить порядки со своим легионом. Рим огородился баррикадами. Подошли к баррикадам вечером. Сулла приказал зажечь факелы, снял шлем, чтобы видели, что он идет впереди. И, значит, штурмовал родной город. Сломал баррикады, не боясь ничего. Вошел в Сенат, потребовал, чтобы собрались сенаторы и изменили решение. И его, Суллу и его войско, — послали бы на Восток, воевать против Митридата. Ну, братцы мои, тут каждый проголосует, — за. Куда ты денешься! Сенат послал Суллу.
Он действительно Митридата победил, разрушил Коринф, разрушил Афины, уничтожил массу культурных ценностей. А Марий за это время — сорганизовался, нашел сторонников, произвел государственный переворот. Взял власть в свои руки и стал истреблять всех знакомых Суллы. Причем, так как у него людей не хватало, он вооружил собственных рабов (ведь формация-то была рабовладельческая!), дал им в руки оружие и велел бить этих свободных рабовладельцев. Причем, они, как поймают их, так засекали розгами до смерти, — сенаторов, и всех, кто голосовал за Суллу.
А Сулла связан — он воюет, ему вернуться нельзя. Но когда Сулла победил, он вернулся обратно в Италию. Переплыл через Адриатическое море и начал войну против марианцев со своими легионерами, ветеранами, боевыми товарищами. Он победил Мария. Марий убежал и погиб где-то в Африке на развалинах Карфагена.
И тогда Сулла сказал: «Нет! Такого безобразия, как Марий, я не допущу! Я знаю, кого надо убивать! Вот списки людей, которых надо убить, — проскрипции. Вот этих — можно, а всех прочих — нельзя».
Но в проскрипциях было столько людей, что хватало для убийства. Перебили, Сулла стал диктатором Рима — пожизненно. Некоторое время побыл. И знаете, чем он кончил? Он сказал: «А теперь порядок наведен. Мне надоело вами управлять. Я поиду домой. Я возвращаю свою власть Сенату — восстанавливаю республику».
Сложил с себя власть и пошел домой пешком. Какой-то молодой хам стал его страшно поносить. Сулла только посмотрел на него и сказал: «Знаешь, из-за таких, как ты, — следующий диктатор уже не снимет с себя власть». И ушел домой. И довольно быстро умер. Скажите, пожалуйста, для чего он это всё затевал? Чего ему надо было? А объяснил это он сам. И Лукиан[92] это все описал. Зависть у него была, — сначала к Марию, а потом, во время Восточного похода — к Александру Македонскому. Он хотел переплюнуть Александра Македонского. Это было, конечно, невозможно, но, во всяком случае, желание у него такое было. И ради этого он пожертвовал и прекрасными Афинами, и жизнью многих греков, и своими друзьями, и своими легионерами, и всем на свете. А потом, когда он удовлетворил свое желание и решил, что о нем уже не забудут, а как видите действительно не забыли, — помнят, он пошел домой. И тихо-спокойно развлекался, как все богатые римляне. Вино пил, девочки у него там танцевали для гостей. Сам ходил в гости, принимал у себя гостей. Вскоре умер, потому что он заразился на Востоке очень тяжелой инфекционной болезнью, и она его свела в могилу. Как видите, он даже жизнью пожертвовал ради удовлетворения чего — своей прихоти, да? Но ведь из-за этого какие события произошли — грандиозные!
Я рассказал две биографии людей, так сказать, высокопоставленных. Этот вовсе не значит, что люди этого типа и этого склада обязательно должны занимать высокое положение. Просто о них сохранились сведения в истории, а о массе других, которые поддерживали Александра (или мешали ему), которые поддерживали Суллу или Мария и которые тоже делали это вопреки своим личным интересам (потому что можно было устраниться от политики и не делать вовсе ничего, а сидеть дома, вообще говоря, гонять свиней, возделывать поле, смотреть с собственной милой женой на закат, нянчить ребятишек) — не сохранились. Такого человека никто не трогал. Но почему-то было столько людей, которые требовали для себя чего-то большего, что они-то и производили этот шум.
* * *
Если мы обратимся к более поздним временам и посмотрим на такую вещь, как завоевание Испанией Америки, то кто шел в конквистадоры, кто ехал (после Колумба) за море с Кортесом, Писарро, Кесадой, Карахалем, Вальдивией в эти страшные американские джунгли Юкатана, в эти самые нагорья Мехико, в эти перуанские заснеженные Анды, в это благословенное Чили, где арауканы победили испанцев и сохранили свою независимость до освобождения Америки и создания Чилийской республики? Самое опасное место было — Чили. Туда женщин не брали и поэтому все чилийцы — сплошь метисы. Индейские женщины очень красивые и очень симпатичные, и поэтому испанцы, которые воевали против арауканов, насельников Южного Чили, они женились на местных женщинах. Все чилийцы подряд — метисы. Но не всегда так.
Зачем они туда пёрли? Я посмотрел статистику (статистика, правда, касается не столько Америки, она мне в руки не попалась, сколько Филиппин, другой испанской колонии). 85 % из приезжавших испанцев умирало за первый же год — от болезней, от недоедания, некоторые даже — в стычках с туземцами, некоторые — в скандалах с начальством. Потому что в этих отдаленных местах произвол начальства был невероятный и любой неугодный человек мог быть осужден за что угодно и казнен. В общем, 85 % было за смерть. Из тех 15 %, которые возвращались, вероятно, 14 % были безнадежно больны, потому что они выдерживали такое переутомление, когда уже любой грипп человека может свалить с ног и дать хроническую болезнь. Да, золото они привозили. Но это золото им было не на что тратить. Потому что золота в Испании стало столько, что в стране дико вскочили цены и на вино, и на оливки, и на хлеб, и на ткани, и на всё.
То есть выгоды от этих походов не было. Но была алчность, алчность их точила! Получить золото, которое не нужно, но — как знак своих подвигов, как знак своих свершений!
А иногда бывало и так, и это меня очень удивило, когда я читал описание путешествий Орельяна[93] (это капитан, открывший Амазонку). Он спустился, они воевали там с индейцами на северных склонах Анд (в современном Эквадоре, в общем). И вот он спустился на восток и увидел, что текут большие реки. И он решил узнать — а куда эти реки текут? И он увлек за собой свой отряд. Пищи почти не было, снабжение там было очень плохое, переходы длинные. Индейцы, из которых делали носильщиков, они от непосильного труда умирали в большом количестве. С пищей было очень плохо. Но, тем не менее, Орельяна увлек весь свой отряд. И там были интеллигентные люди, которые оставили дневники… такой был у него капеллан этого отряда. Он вел дневник, это было его главное занятие. Опубликован это дневничок.
Они спустились по Амазонке, причем они там встречались с разного рода индейскими деревнями. По рассказам Орельяны, это были большие поселения, не такие, как сейчас, гораздо больше. Там жили индейцы, у которых никакого золота не было. Откуда быть в Амазонке золоту? «Да мы и говорим, — писал этот самый падре, — мы это золото-то и не особенно-то и искали. Мы искали, что покушать». Голодные плыли на этих лодках, на плотах по реке, самой большой и многоводной в мире. И наконец, выплыли — больные, усталые, замученные, напуганные этими страшными аллигаторами, которые там плавают, этими огромными анакондами, которые заглатывают больших аллигаторов. А уж человека-то большой анаконде ничего не стоит заглотить.
В общем, выплыли в море, добрались до испанских колоний на Кубе, кажется, или на Гаити и отдохнули. Орельяне дали титул маркиза за открытие этой огромной реки. Дали наградные, потому что у него никаких своих богатств не было, он бы вернулся голеньким и голодненьким. Знаете, что сделал Орельяна после этого? Он на полученные деньги снарядил новую экспедицию и отправился в Амазонию, откуда не вернулся. Что ему выгода была от этого?
Вы знаете, когда я впервые выступил с описанием этого феномена, то меня обвинили, — сначала в биологизме и в отходе от материализма, обругали меня в журнале «Вопросы истории» и вызвали в журнальную редколлегию, чтобы я оправдывался. Это было, правда, не сразу, но вызвали и спросили:
— Что это такое за качество, которое Вы называете пассионарность и которое мешает людям устраивать свою жизнь наилучшим образом?
Я им стал объяснять — долго, научно. Вижу — ни бум-бум не понимает эта редколлегия. Мне говорят:
— Ну, ладно, хватит, хватит, — мол, не умеете объяснить.
— Нет, сейчас, минутку! Поймите, не все люди шкурники! Есть люди, которые искренне и бескорыстно ценят свой идеал и ради него готовы жертвовать жизнью. И если бы этого не было, то вся история пошла бы по-иному.
Они говорят:
— А, это оптимизм. Это хорошо.
(Смех в зале. — Прим. ред.)
Так что имейте в виду, что то, что я вам рассказываю, это — не ересь, это уже, так сказать, признано, только еще пока не опубликовано в печати (хотя принцип-то опубликован). Ну, вот.
Действительно, это было совершенно правильно. Но я рассказал, что есть люди, которые стремятся (в большей или меньшей степени) к идеальным, иллюзорным целям. И мнение, что «все люди, стремятся к исключительно личной выгоде и что если они рискуют жизнью, то только ради получения денег или прочей материальной выгоды» — это не Маркса с Энгельсом слова, а барона Гольбаха,[94] французского материалиста XVIII в., который считается вульгарным материалистом и никакого отношения к марксизму не имеет. Это тот «материализм», который Марксом и Энгельсом преодолен.
А если так, то мы можем совершенно спокойно поставить вопрос о том, как же понять это самое качество, толкающее людей на следование иллюзорным целям, а не реальным? Это — страсть, которая оказывается иногда сильнее самого инстинкта самосохранения. От слова «страсть» я это качество назвал — пассионарность, — латинское слово passio, passione.
Нарисуем следующий сюжет. Плохой мел, плохая доска. Перерыв.
(Перерыв.)
* * *
А теперь давайте разберемся, что это такое, эта самая пассионарность, которая творит столько событий, хотя и не изменяющих прогрессивный ход исторического развития, спонтанный ход развития социальной истории, но имеет очень большое значение для истории этнической, для истории этноса. А мы все принадлежим к какому-нибудь этносу. Ибо нет человека без этноса.
Давайте разберем, что у каждого человека есть? Какие импульсы — бесспорные и их можно взять за нулевую точку отсчета? То самое стремление жить спокойно, у себя дома с симпатичной женой, с милыми детьми, в удовольствии, в сытости и в богатстве. Они есть и у людей, они есть и у животных. Животные тоже хотят быть сытыми, производить потомство, воспитывать его, нежится на солнышке и мурлыкать, если они кошки, или лаять, если они собаки. В этом отношении общее между людьми и животными мы можем определить как инстинкт самосохранения, как личного, так и видового.
(Л. Н. Гумилев подходит к школьной доске и рисует на ней. — Прим. ред.)
Нанесем его на эту ось координат, на положительную абсциссу и покажем, что для людей — всех людей, которые существовали, существуют и будут существовать — эта величина совершенно одинаковая. Я думаю, что доказывать, что все одинаково хотят жить, никто не хочет гибнуть, не надо. Причем здесь (Л. Н. Гумилев показывает на схеме. — Прим. Ред.) мы будем откладывать на положительных абсциссе и ординате — импульсы, которые ведут к продлению жизни, а те, которые ведут к сокращению жизни, мы будем откладывать на отрицательных сторонах. Прекрасно.
Но так как мы видим, что и отдельные люди, и целые популяции вдруг испытывают то, что мы можем назвать пассионарный подъём. То есть:
стремление пожертвовать собой;
или не пожертвовать, а одержать победу;
или, во всяком случае, рискнуть собой во имя каких-то совершенно иллюзорных целей:
или во имя накопления богатства (которое явно излишне и на пользу жизненным процессам не идет);
или ради своего принципа веры (исповедания) люди идут на жертву как мученики и считают, что их жизнь ничто по сравнению с тем идеалом, ради которого они ему ее отдают;
или ради спасения Родины;
или ради завоевания чужой страны,
безразлично ради чего, какой идеал у него создался. Ибо этот идеал не помогает ему в его повседневной жизни, а наоборот, — он мешает ему. Он отвлекает его в сторону.
Человек увлеченный (или патриотической деятельностью, или реформаторской деятельностью, или научной деятельностью, или даже искусством) мало обращает внимания на свою семью, на свое богатство, на свой достаток, даже на свое здоровье. Он жертвует ими и при этом он — счастлив!
Вот это и есть пассионарность, которую мы можем поместить на эту схему, как антипод линии инстинкта — Instinctate. Пассионарность может быть, естественно, или равна импульсу инстинкта по силе воздействия, или меньше, или больше. Так вот, когда она больше — то вот этих людей мы называем пассионариями. Когда она равна инстинкту — это гармоническая личность.
Понимаете, был такой Андрей Болконский. Я беру литературного героя, который все выполняет очень хорошо. Он прекрасный полковник, заботливый помещик, хранитель своей дворянской чести, верный муж своей первой жены, верный жених своей невесты, — абсолютно гармоническая личность. Причем и работает он очень хорошо — не за страх, а за совесть. Но ничего лишнего он не сделает.
Это вам не Наполеон, живший в его время, который, так же как Александр Македонский, неизвестно для чего завоевывал страну за страной. И даже такие страны, которые он явно не мог удержать. Например, Испанию или Россию. Но он бросал людей ради своей иллюзии — иллюзии славы Франции, как он говорил, а по существу — ради собственного властолюбия.
Андрей Болконский ни-че-го этого не делает. Он хо-р-р-оший человек, у него всё приведено в ажур, он делает только то, что надо, и делает хорошо. До-о-стойный уважения человек.
Но есть и субпассионарии, у которых пассионарность меньше, чем инстинкт. Если мы на эту абсциссу будем помещать, путем простого алгебраического сложения, положительные импульсы (величину положительных импульсов и величину импульсов отрицательных), то если пассионарность больше инстинкта, то человек попадает сюда или коллектив, все равно, безразлично. Если она равна, то человек попадает вот сюда (Л. Н. Гумилев показывает на схеме. — Прим. ред.), в эту часть координат. А если она меньше, вот здесь, скажем, то он попадает в положительную часть координат. И тогда мы получаем людей с пониженной пассионарностью — субпассионариев.
И опять-таки приведу литературные образы, всем наиболее известные, — это герои Чехова. У них как будто, понимаете, все хорошо, а чего-то не хватает. И понимаете ли, образованный какой-нибудь учитель, а — человек в футляре. И понимаете, хороший врач, который работает, а — какой-то Ионыч и ему — скучно. И кругом него всем скучно. Учитель словесности, муж своей жены, а — сидит при ней. В общем, все эти самые чеховские персонажи, по большей части (то есть почти все, которые я помню), — это образы субпассионариев. У них тоже есть пассионарные замыслы: он не прочь выиграть у соседа партию в шахматы — это удовлетворяет его тщеславие, но пользы-то от этого никакой нет, и ничего не происходит. Однако наличие субпассионариев для этноса так же важно, как и наличие пассионариев, потому что они составляют известную часть этнической системы. И если их (субпассионариев) становится очень много, то они всем говорят — своим духовным и политическим вождям: «Что вы! Что вы!!! — Как бы чего не вышло».
И с такими людьми совершенно невозможно предпринять какую-нибудь большую акцию не то что агрессивного характера, — об этом даже и говорить нечего, но даже и защитительного. Они себя и защищать-то не могут.
Могут быть совсем слабые по природе пассионарности, когда она фактически не поглощает самых простых инстинктов и рефлексов. Вот хочется человеку выпить, а у него только рубль. Он бежит и скидывается на троих, а ведь рубль-то у него последний! И дадут-то ему выпить чуть-чуть! И в общем-то это его не удовлетворит, но поскольку рефлекс отработан и этот условный рефлекс его тянет к выпивке — он забывает обо всем.
Таким образом, с помощью такой искусственной классификации на примере отдельных людей я сейчас показал, как можно разделить все системы на несколько типов: повышенной пассионарности, гармонической и пониженной.
И теперь мы вернемся к нашей проблеме — проблеме этногенеза. Потому что все то, что я сейчас говорил, — это был, так сказать, обходный путь для того, чтобы показать, а как же это все создается? Приведем примеры — примеры лучше.
Вот я был в Москве, слушал доклады семиотиков. Там столько ученых слов, что я знал примерно процентов восемьдесят этих терминов, которые они употребляют. Остальные можно было понять по смыслу, но пересказать лекцию, в которой не было реальных жизненных примеров, я не мог. И не могу сейчас. Так вот, чтобы я не оказался в таком же положении, я расскажу, как создаются этносы на примере — там, где мы можем очень легко это проследить.
* * *
Вы знаете, вот была такая страна Аравия, и населял ее народ арабы, которые по легенде происходят от Исмаила, сына Агари, наложницы Авраама, который в XVIII в. до н. э. эту Агарь по наущению своей жены Сары выгнал в пустыню. Ну, Исмаил нашел воду, а раз нашел воду, он маму напоил и сам спасся. И создался народ — арабы, который очень долго относился к своим иудейским соседям не очень хорошо, потому что вспоминал, что вот эти дети Сары воспользовались всем наследством отца, а дети Исмаила, этого несчастного, оказались в пустыне. И жили арабы в этой пустыне с XVIII в. (как датируется Авраам) до н. э. до VII в. н. э. Тихо, спокойно, никому, так сказать, не досаждая. На самом-то деле было, конечно, не так, я упрощаю. Упрощаю специально, для того чтобы показать основную тему. На самом деле было сложнее.
И вот, в VI в. в Аравии… Нет, не так надо начать…
Аравия в физико-географическом отношении делится на 3 части: берег вокруг Красного моря — это каменистая Аравия. Там довольно много источников, около каждого источника — оазис, около каждого оазиса — город. Небольшой, но финиковые пальмы растут, люди питаются, скот гоняют — травка там есть. И они существовали довольно бедно, но компенсировали себя за счет того, что караваны из Византии в Индию ходили через каменистую Аравию. И они работали караванщиками, трактирщиками в караван-сараях. Торговали всем этим — финики и свежую воду продавали караванщикам по повышенным ценам. Те платили, потому что деваться было некуда. Но они компенсировали себя повышением цен на товары, и все шло довольно благополучно. Жили они и деньги наживали.
Большая часть Аравии — это пустыня, но пустыня не в нашем смысле. Когда настоящие арабы увидели нашу среднеазиатскую пустыню, они ахнули и сказали, что такой пустыни они даже вообразить себе не могли. Пустыня у них такая, что не сплошной травяной покров, а кустик от кустика отделен сухой землей. То есть, как бы мы сказали, сухая степь. Кроме того, с трех сторон море. Так что все-таки дождички-то выпадают, воздух довольно влажный, верблюдов можно гонять сколько угодно. Да и не только верблюдов. Но они, главным образом, ездили на верблюдах или на ослах.
Торопиться им было некуда, и жили они там очень спокойно. Войны у них были, но такие, я бы сказал, «гуманные» очень войны. Одна война между двумя племенами была из-за верблюжонка, мать которого ушла на территорию другого племени и там родила. Так вот, чей верблюжонок? Того ли племени, кому принадлежит мать, или того, кому принадлежит территория, на которой этот верблюжонок родился? Война эта продолжалась лет тридцать, кажется, или сорок. И за все время было, кажется, два или три человека убитых. Ну, естественно, что же за свинство такое — брать и убивать людей? Да, случается, не без того, но вообще-то не надо. Вот в таком спокойном состоянии они и жили.
При этом у них и культура была какая-то своя, у них поэзия очень большая. У нас, например, в нашей русской поэзии существует пять поэтических размеров: ямб, хорей, анапест, амфибрахий и дактиль. А у арабов — двадцать семь, потому что верблюд идет разным аллюром и для того, чтобы приспособиться к тряске, надо читать про себя стихи, в такт тряске. И вот они эти 27 размеров придумали. Едет араб по пустыне и стихи сочиняет и тут же исполняет — для того чтобы его меньше трясло. Полезное занятие для поэта. Ну, естественно, что поэзия была у них не такая, чтобы ее записывать или запоминать, она годилась в пути.
И наконец, на юге Аравии, в самой Аравии была — «Счастливая Аравия». Йемен — это был почти тропический сад, там росло кофе-мокко, которое потом перевезли в Бразилию. Оно там прижилось, но стало хуже, а настоящий самый лучший кофе — там. И арабы его пили с большим удовольствием и жили там в этом тропическом саду, процветали и вообще ничего не хотели думать, — если бы! — у них не было соседей. Соседи у них были. С одной стороны — абиссинцы, которые их все время старались завоевать, а с другой стороны — персы, которые все время выгоняли абиссинцев из Аравии обратно в Африку. Причем война была страшно кровопролитная — пленных не брали, и воевали-то не арабы, а воевали абиссинцы с персами.
А сами арабы вели жизнь мирную, которая лишь иногда прерывалась тем, что они грабили отдельных путников или иногда друг друга. Но последнее бывало редко, потому что у них была в обычае семейная взаимовыручка: если ограбят человека, то весь его род вступится за него и грабителю мало не будет. Так что — побаивались. А вот чужих — можно. Иногда они нанимались в войска: или персидских шахов, или византийских императоров. Те их брали, но платили им мало, потому что они были очень малобоеспособны. Их использовали, так сказать, как не регулярные войска, для каких-нибудь отдельных маневров — в тыл противника забросить для разведки. А в строй, в боевые линии — не ставили потому, что они были очень нестойкие и очень трусливые, убегали. А зачем им действительно надо было гибнуть за чужое дело? «Деньги заработать — да. А чтоб меня за это убили? Кому надо!» — рассуждение было крайне разумно.
И вот во второй половине VI в. у них появилась плеяда поэтов.
Должен вам сказать, что, по моим наблюдениям, стихи писать очень трудно. И тот гонорар, который платят поэтам за хорошие стихи, никак не окупает их труда. И, тем не менее, они пишут и даже без гонорара, потому что у них изнутри какой-то пропеллер крутится и заставляет писать стихи, чтобы выразить себя. Этот «пропеллер» мы уже знаем — это пассионарность. Они хотят выразить себя и свои чувства, они хотят получить уважение и преклонение за то, что им удалось сделать. То есть самая обыкновенная страсть — тщеславие. Но она ими руководит.
Поэтов стало много. И поэтессы были. И стихи они стали писать хорошие. Но, знаете, главным образом языческие, — стихи о любви, о вине, иногда о каких-то стычках, но, так сказать, не целеустремленные в одну сторону. А целеустремленности и быть не могло, потому что идеологии (о которой мы поговорим после — она ляжет на ординату, на вертикальную линию), — у арабов никакой единой не было.
Большая часть бедуинов, живших в пустыне, считала, что боги — это звезды. Вот сколько на небе звезд, — столько богов. И можешь своей звезде молиться — дело твое.
Было много христиан, много иудеев, были идолопоклонники. А христиане были всех толков: и несториане, и монофизиты, и православные, и ариане. И так как все занимались своими насущными делами, то религиозных столкновений совершенно не было. А жили они спокойно.
И вот в начале VII в. появился человек, называемый Мухаммедом. Это был бедный человек, эпилептик, очень способный, но не получивший никакого образования, совершенно безграмотный. Занимался он тем, что гонял караваны. Потом он женился на богатой вдове Хадидже. Она его снабдила деньгами, в Мекке он жил. Он, так сказать, стал членом общества, довольно почтенным. И вдруг он заявил, что он пришел исправить пороки мира. Что до него было много пророков — Адам, Ной, Давид, Соломон, Иисус Христос с Мариам — Девой Марией. И все они говорили правильно, а люди всё перепутали, всё забыли. Так вот он, Мухаммед, сейчас всем им всё объяснит. И объяснил он очень просто: «Нет Бога, кроме Аллаха». И это все. И потом стали прибавлять, что «Мухаммед — пророк его». То есть Аллах — единственный (слово Аллах означает «единственный») говорит и говорит через Мухаммеда арабам. И стал эту религию проповедовать.
Человек шесть — его учение приняли, а остальные меккане говорили: «Да, брось ты эту скукочищу, брось ты эту тягомотину! Мы лучше поидем послушаем веселые сказки про персидских богатырей».
«Да, брось ты, мне некогда, — говорили купцы. — У меня сейчас подсчеты. Вот видишь надо баланс свести, караван пришел!»
«Да, ну тебя! — говорили бедуины, — вон у меня верблюдица ушла. Мне надо ее пригнать на пастбище».
То есть большинство арабов меньше всего хотело с ним говорить. Но оказалась кучка — сначала шесть человек, а потом несколько десятков, которые ему искренне поверили. И среди них были такие люди волевые, сильные и из богатых, и из бедных семей: страшный, жестокий, непреклонный Абу-Бекр, справедливый, несгибаемый Омар, добрый, совершенно искренний, влюбившийся в пророка Осман, его зять — героический совершенно боец, жертвенного типа человек — Али, женившийся на сестре Мухаммеда Фатьме, и другие.
А Мухаммед все больше и больше проповедовал. Но мекканцам это все страшно надоело. Потому что, когда он проповедует, что есть один Бог и все ему должны верить, то что же делать с людьми, которые приезжают торговать и верят в других богов? Это вообще не удобно, и скучно, и настырно! И они ему сказали: «Прекрати свое безобразие!»
Но у него был дядя, который сказал этим, его противникам: «Ни в коем случае вы моего Мухаммеда не трогайте. Конечно, говорит он чепуху и всем надоел. Но все равно, он же мне племянник, я не могу его оставить без всех». (Тогда, понимаете ли, еще родственные чувства ценились.) И он дал совет Мухаммеду: «Убегай!»
И Мухаммед убежал из Мекки, где его решили убить, чтобы он не мешал жить. И он убежал в Медину (тогда этот город назывался Ясриб), но после того как он там обосновался, он стал называться Мединатун-Наби — «город Пророка». Медина — это просто «город». В отличие от Мекки, где жили богатые и довольно зажиточные, я бы сказал, арабы давным-давно, этот самый Ясриб был местом, где поселились самые разные народы, образовав там собственные кварталы. Там два квартала были еврейских, был персидский квартал, был абиссинский квартал, был негритянский квартал. И все они между собой не имели никаких взаимоотношений и иногда собачились. Но так, особых войн не было. И когда появился Мухаммед с его верными, которые последовали за ним, то ему сказали: «Ну, вот и живи тут — один из всех. Ничего, ты не мешаешь».
Но тут случилось что-то непредвиденное. Мухаммедане, или, как они стали себя называть, мусульмане, поборники веры ислама, они развернули, во-первых, — жуткую агитацию. Они объявили, что мусульманин не может быть рабом. То есть мусульманин, произносивший формулу ислама — «Ла Илла иль Алла Мухаммед расуль Алла» («Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его») немедленно становился свободным, его принимали в общину. Некоторые негры пришли к ним, некоторые бедуины пришли к ним. И те, кто пришли, они поверили в это дело, они зажглись тем же жаром, что был у Мухаммеда и у его ближайших сподвижников. И они создали общину весьма многочисленную и, самое главное, активную. К этим мухаджирам, которые пришли из Мекки (их было не много), примкнули ансары.[95]
И Мухаммед оказался одним из самых сильных глав общин в самом городе Медина. И тут он стал постепенно расправляться. Сначала он расправился с верующими, которые верили в звезды.
«Нет, — говорит, — не масса богов на небе, а один Аллах. А кто не хочет, того убить надо просто, потому что он оскорбляет величие Аллаха», — и убивали.
Потом он столкнулся с христианами. Стал говорить им, что он исправляет закон, который дал сам Иисус Христос. Христиане говорят: «Брось ты, где ты можешь его исправить! Ты же вообще безграмотный человек!»
Их убили или заставили принять веру ислама.
Потом он пришел к евреям и заявил им, что он — Мессия. Те быстро взяли Талмуд, Тору. Посмотрели по книгам и сказали: «Нет. У тебя нет таких-то, таких-то и таких признаков. И вообще, никакой ты не Мессия, а самозванец!»
«А-а!» — сказал он.
Два квартала, один за другим, были вырезаны до последнего человека.
После чего он оказался самым сильным в Медине и решил завоевать Мекку. Но Мекка была сильна, его войско было опрокинуто. Тогда он начал действовать в обход. Он подчинил себе бедуинов и заставил их признать веру ислама. Бедуины, которым спасаться было некуда. (Кругом, понимаете, степь, как стол. Ну, куда убежишь?) И имея свой интерес, сказали: «Хай будэ, ладно».
Продолжали молиться на звезды, но официально веру ислама признали и людей в войско Мухаммеда дали.
А вот евреи с удовольствием дали. Почему? «На Мекку идти! Мекка богатая, Мекку разграбить можно».
Он захватил Гадрамаут, это южное побережье Аравии, там было много замков. Он потребовал, чтобы они признали веру ислама. Те подумали-подумали: «Да, что там, в конце концов! Скажу я одну фразу-то, что мне от этого убудет, что ли?» Признали и людей дали.
Тогда он пошел снова на Мекку, а мекканцы были люди очень умные, очень хитрые. Они сказали: «Слушай, Мухаммед, зачем ты идешь завоевывать родной город, мы будем защищаться, кого-нибудь убьют. Ну, кому это надо? Давай помиримся! (Арабы — они народ очень практический.) Придумай еще парочку богов, чтобы было три. Лата — очень хороший бог и эту — Зухру. Это Венера, — планета Венера. Ну, измени, что тебе, что — один, что три? А мы их почитаем».
Мухаммед хотел было согласиться, но тут Омар и Абу-Бекр сказали: «Нет, един Аллах».
И Мухаммед выдал очередную суру, то есть пророчество, что Аллах един и других нет. Это — просто ангелы Божии.
Ну, те сказали: «Ладно. Хрен с ним, пусть будут ангелы. Но вот уж что мы тебе не уступим, так это Черный камень. К нему-то к нам на богомолье сходятся люди отовсюду. И все у нас на базаре покупают продукты. Н-е-т, Черный камень мы не отдадим!»
А Черный камень — метеорит, он же с неба упал. Ну, значит, это Аллах. Ну, Мухаммед согласился. И тут мусульмане все согласились, что, значит. Черный камень действительно от Аллаха. И после этого он занял Мекку. И его злейшие враги оказались в числе его подданных и выставили ему свое войско.
* * *
Давайте разберемся опять в психологии. Мухаммед не преследовал никаких физических целей. Он шел на смертельный риск ради принципа, который он сам себе создал. По существу, с точки зрения богословия, ислам не содержит в себе ничего нового по сравнению с теми христианскими ересями и течениями, которые уже в это время бытовали на Ближнем Востоке. Собственно говоря, разговор, если говорить об идеологии, выеденного яйца не стоит. И арабы совершенно правильно сделали, что не стали особенно спорить. Поступились привычными культами, произнесли формулу ислама и жили по-прежнему. Разве в этом было дело?
Дело-то было совсем в другом. Та группа, которая создалась вокруг Мухаммеда, состояла из таких же пассионариев, как и он. Он был просто творчески более одарен, чем Абу-Бекр или Омар. Он был просто более эмоционален, чем даже добрый Осман. Он даже был более беззаветно предан своей идее, чем отчаянный, храбрый Али. И поэтому никаких особых выгод он не имел.
Он объявил, что мусульманин не может иметь больше четырех жен — это грешно. Может только наложницу, естественно сверх этого, а так жен — только четыре. Но по тем временам четыре жены — это был минимум.
Я не хочу быть навязчивым, но каждый взрослый из мужчин, — пускай подумает, — четыре-то раза он менял своих подруг? Наверное, менял. А тогда, в те времена каждая подруга считалась женой. Так что? А развод? Развод — это дело такое было очень невыгодное, потому что брак был гражданский и развод был гражданский, как у нас. И связано это было с материальным имуществом. И жены предпочитали оставаться со старым мужем, когда он брал новую жену. Так им было выгодно. И поэтому то, что он ввел обычай четырех жен (он и сам имел только четырех), — это было, в общем, самоограничение.
Он сделал и другую вещь, которая имела большое значение для арабов. Он был эпилептик — Мухаммед, и поэтому он никак не мог пить вино. Оно на него очень плохо действовало. И он заявил, что первая капля вина губит человека, и запретил пить вино. А арабы любили выпить, ужасно любили. И это как раз мешало распространению ислама, но потом они примирились. Они садились в закрытом дворике у себя в узкой компании — чужих не приглашали. Ставили большой жбан с вином, опускали палец и говорили: «Первая капля вина губит человека, — стряхивали ее, — а про остальное-то пророк ничего не сказал!» (Смех в зале.) Так что найти выход они всегда могли.
Что же случилось? Что случилось, — а случилось самое важное. Вокруг его группы, вокруг его маленькой общины, понимаете, как вокруг пылинки водяные пары, стали сбиваться в снежный ком. Образовалась группа людей, объединенных не образом жизни, не материальными интересами, а сознанием единства своей судьбы, единства дела, которому они отдавали свою жизнь. Это — то, что я бы назвал кон-сорция, от латинского слова sore — судьба, а люди — со-судебники, люди единой судьбы, это — консорция. Группа эта может быть названа консорция.
Кто помнит прошлую лекцию, тот знает, что вокруг Ромула так же собрались пятьсот бродяг в Италии; так же собрались верные вокруг царя Давида в XI в. до н. э.; так же собрались люди длинной воли вокруг Чингисхана; так же собрались бароны вокруг Карла Великого. Хотя, на самом деле, это было несколько позже, но по легенде — именно так. То есть народное сознание исправляет те реальные истории и берущие корректив на вариации и воспринимает создание каждого нового этноса с появления первоначальной консорции, которая имеет свою этническую доминанту.
Злейшими врагами Мухаммеда были даже не купцы, которым он мешал торговать (да он и не мешал особенно), не бедуины, которым было вообще наплевать на все эти теологические разговоры. Они занимались тем, чтобы верблюдов пасти. Главными его врагами были — поэты. И он всех убил там, чтобы они не отвлекали людей от слушания Корана — собрания проповедей Пророка. А то, понимаете, Коран надоест читать, он поидет где-нибудь послушает, как поэт под звуки лютни рассказывает переведенное на арабский язык «Шахнаме»: «Интереснее же. Там про всяких царей, красавиц, богатырей, битвы! А тут что?»
«Нет!!!»
Поэтов не стало, и зато создалась монолитная единая Аравия, которая начала быстро расширяться.
До этого на Аравию никто не обращал внимания, потому что считали, что хоть она единая, хоть она раздробленная, но — это же трусы и, вообще, на них можно не обращать внимания. А тут оказалось, что после смерти Мухаммеда вся Аравия восстала и отказалась от веры ислама. За два года Абу-Бекр ее усмирил, произвел жуткие совершенно казни и истребления, которые Мухаммеду и не снились, и заставил всех опять признать веру ислама под угрозой смерти. И после этого он умер. А третий халиф («халиф» — буквально, «наместник») Омар[96] послал письма персидскому шаху и византийскому императору с требованием принять правильную веру ислама. Византийский император, вообще, не ответил, счел это письмо просто глупостью или какой-то шуткой, розыгрышем. Персидский шах ответил ядовито и, так сказать, ехидно. Результаты были совершенно страшные.
В 634 г. Омар вступил на престол халифа, а в 636 г. персидское войско было разбито при Кадисии, а византийское — при Ярмуке наголову истреблено. Причем и у персов и у византийцев была тяжелая конница, а арабы сражались в пешем строю, потому что арабских лошадей еще не было. Приезжали на ослах и верблюдах и своим натиском сломили регулярные обученные, обстрелянные войска!
Откуда что берется, а? Вы спросите, откуда берется эта сила у людей, которые только что сопротивлялись Мухаммеду, которые признали ислам под страхом смертной казни и признали его явно лицемерно, чтобы уцелеть в живых? Так, значит, не в исламе дело, не в формуле философской или теологической дело, а в чем-то другом? Посмотрим дальше, что произошло исторически.
Прошло тридцать лет, за это время была захвачена вся Персия, была захвачена не только Сирия, но и Армения, часть Закавказья, захвачен Египет, Северная Африка. Арабы захватили огромную территорию, населенную христианами или огнепоклонниками — персами. Очень жестким налогом обложили их, правда, были веротерпимы. К тем, кто отказывался принять ислам, — не арабам, они оставляли жизнь при условии уплаты хараджа — дополнительного налога, довольно большого. Тем, кто уплатил харадж, ставили раскаленным металлом печать. Вот здесь вот на руке. А потом проверяли, у кого уплачено, у кого не уплачено. У кого не уплачено — отрубали руку вовсе. В общем, жестко очень обходились.
Но, тем не менее, они захватили колоссальную территорию. Но мы же знаем, что ислам приняли люди по принуждению. То есть большая часть этих арабов были — лицемерные мусульмане, которые себя так называли, но таковыми отнюдь не были. Это потомки врагов Мухаммеда — Абу-Суфьяна и его сына Омейи. И этот Омейя получил назначение (поскольку он был талантливый человек), получил назначение в Сирию и стал в Дамаске главнокомандующим. А другой, тоже проидошистый араб, очень хитрый, завоевал Египет.
(Что, время кончилось? Ну, кончаю.)
А так как было известно, что они получили назначение по блату, то против них выступили искренние мусульмане. Началась борьба искренних мусульман против лицемерных мусульман. Друг против друга. Лицемерные победили. Образовался огромный Омейядский халифат, с лицемерными мусульманами во главе и с истинными мусульманами в виде самой жестокой оппозиции: шииты, сунниты и ваххабиты.
И теперь, поскольку мое время истекло сейчас, я на этом закончу. Потому что интерпретация такого явления, которое является просто одним из показательных процессов возникновения этноса, очевидно, уже будет в следующий раз.
#12

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 12:59
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 12:59

Мы забыли о таких людях, которые называются субпассионарии. Ну, если они были совершенно не нужны при подъёме, если их использовали только как пушечное мясо во время акматической фазы, то в инерционное тихое время возникают гуманные теории о том, что «человек — это звучит гордо!», человеку нужно дать возможность жить, человека нельзя оставить, человеку надо помочь, надо накормить его, надо напоить его! Ну, а если он не умеет работать, ну что ж, — надо научить. А если он не хочет учиться, — ну что ж, значит, плохо учат. Вообще, самое главное — это человек! (Громкий смех в зале.) Все — для человека!
Вы представляете себе, как люди, определенного субпассионарного склада, используют такое «учение», которое становится императивом, этническим императивом. Они говорят: «Хорошо. Мы на все согласны. Только вы нас кормите и на водку давайте. Если даже мало, то мы на троих скинемся и выпьем. Ничего страшного!»
Их становится все больше и больше, для них находится место. Они существуют, размножаются, потому что им делать больше нечего, в конце концов! (Смех в зале.) Диссертаций же они не пишут. И они начинают составлять в поздней фазе этногенеза уже не скро-о-омную маленькую прослойку в общем числе членов этноса, а значи-ительное большинство. И тогда они говорят свое слово.
#13

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 13:09
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 13:09

ГЛАВА I КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ
1. География поведения
Это странное словосочетание имеет право на существование. И даже более того: оно имеет наряду с теоретическим практическое значение.
Уточним значение терминов, поскольку они оба глобальны. География — это то, что можно нанести на карту. Поведение — это определенный способ существования в условиях постоянного соотношения «хищник» — «жертва». Без определенного стереотипа поведения не сможет выжить даже амеба. Но поведенческие стереотипы различны у популяций, даже в пределах вида. А поскольку нас интересует человек, то сказанное относится к нему, причем в наивысшей степени.
Было уже доказано, что природная форма существования вида Homo sapiens — этнос, и различие этносов между собой определено не расой, языком, религией, образованностью, а только стереотипом поведения, являющимся высшей формой активной адаптации человека в ландшафте. Разнообразие ландшафтов — вот причина удивительной этнической мозаичной антропосферы. А так как этнические карты составлялись издавна, то по сути дела они отражали разнообразие типов поведения, значит, и ландшафтов. Следовательно, изучение поведения относится к разряду географических наук.
Поведенческие стереотипы меняются не только в пространстве, но и во времени. Поэтому этнологу необходим стереоскопический подход, или «география» времени, которая обычно называется «исторической географией». Оказывается, время столь же неоднородно, как и пространство.[2] В нем есть свои «горы» и «пропасти», «леса» и «пустыни». Убедиться же в справедливости этого утверждения мешает одно печальное обстоятельство.
Часто люди искренне полагают, что прошлое, как бы грандиозно оно не было, исчезло безвозвратно, и, следовательно, никакого значения для сегодняшней, а тем более будущей действительности иметь не может. «Нам нужны современность и знание о ней!» — этот тезис приходилось слышать и в беседах за чаем, и в случайных разговорах в поездах, и на научных заседаниях, причем каждый раз с нескрываемым апломбом. Да и как не быть апломбу, если мнение сие очевидно, и оспаривать его может только чудак?!
Однако, если подумать, большинство очевидностей ложно. То, что Солнце обходит плоскую Землю — очевидно, но ведь уже некому доказывать, сколь это неправильно. Подобных примеров так много, что и приводить их не стоит. Иллюзии очевидности устраняются еще в средней школе, хотя не столь полно, как было бы нужно.
То же и в нашем случае. Достаточно спросить себя, откуда начинается так называемая «современность»? Пять минут тому назад? Или месяц? Или век, но если так, то почему не несколько веков? На этот вопрос еще никто не мог ответить. Это первое.
И второе, ведь даже момент, любое переживаемое мгновение тут же становится прошлым. А раз так, то оно ничем не отличается от аналогичных же моментов до новой эры или после нее. Капитуляция Наполеона, открытие Америки Колумбом, казнь Сократа, похищение Елены Парисом и вчерашний день, пережитый автором и редакторами этого текста, принципиально одно и то же — прошлое, подлежащее изучению историка.
Только оно реально и доступно рациональному познанию.
Дальнейшее зависит от постановки проблемы и цели, ради которой исследование проводится. Эволюция человечества идет спонтанно, по спирали. Это процесс глобальный и настолько грандиозный, что зигзаги, образуемые не только личными судьбами отдельных людей, но и целых этносов, взаимно компенсируются и не заметны. Но на низших таксономических уровнях они видны и имеют практическую значимость для каждого из нас, даже в тех случаях, когда событие — зигзаг истории — произошло за века до нас, ибо инерция событий очень велика.
Действительно, что такое этногенез? Это последствие негэнтропийного импульса, т. е. кратковременного толчка (вспышки) энергии живого вещества биосферы (В.И. Вернадский). В результате этого появляется пассионарность — рецессивный признак, рассеивающийся только за полторы тысячи лет. Сам негэнтропийный импульс — этот зигзаг в истории биосферы — нашими органами чувств даже не воспринимается, но лишь обнаруживается по всевозможным последствиям. Поэтому его никогда не фиксируют современники, однако могут заметить только историки, да и то использующие специальную методику — этнологическую.
История в этом случае употребляется этнологом не как гуманитарная наука, а уже как вспомогательная естественнонаучная дисциплина,[3] позволяющая обнаружить как скопление событий, так и их разряженность в различных местах ойкумены, иными словами зафиксировать неравномерность протекания времени в жизни этносов.
Читатель нашего «Трактата» помнит, что разнообразие исторического времени в рамках одного этногенеза зависит от сочетания двух причин: 1) величины и направления изменений пассионарного напряжения, которое может или возрастать, или снижаться, и 2) контактов с соседями, либо дружескими, либо враждебными. Первый вариант отразил И.С. Тургенев в романе «Отцы и дети», где смена цвета времени в русском этногенезе ощущается автором как смена поколений, смена эпох, проходившая на общем фоне снижения пассионарности и столкновения двух субэтносов: дворянства и нового зарождающегося субэтноса — интеллигенции. Второй — описал Л.Н. Толстой в повести «Казаки». Достаточно сравнить описанных им гребенских казаков со старосветскими помещиками Н.В. Гоголя, принадлежавших к тому же этносу, но другому субэтносу. Постоянная война казаков с чеченцами делала здесь ощущение времени крайне напряженным. Оба описания, как литературные произведения, дают естественно сглаженную картину феномена, но история фиксирует и куда более резкие сдвиги традиций и завоевания целых стран. Поэтому целесообразно сопоставлять поколения на длинных отрезках абсолютного времени, а войны — такие, которые не ограничиваются перестрелками около пограничной реки. Тогда картина смены цветов времени станет четче.
В этногенезе возможны два состояния: инерция пассионарного толчка, фиксируемая историками как череда событий, и неустойчивое равновесие или гомеостаз, наступающий после того, как инерция иссякла, — достояние этнографов-структуралистов. Однако и в гомеостазе идут постоянные изменения, ибо никто не живет одиноко. Воздействия окружения тем сильнее, чем слабее сопротивление этноса, утратившего силу первоначального импульса. И если наблюдателю кажется, что он видит структурированный застой, то это лишь потому, что он ограничил себя кратким отрезком исторического времени и узким куском земной поверхности. Изоляты тоже подвержены воздействию губительного Хроноса.
Поэтому этнолог, в отличие от этнографа, вынужден помнить, что он изучает объект в постоянном изменении и что все отмеченные им особенности того или иного этноса вскоре могут измениться до неузнаваемости, хотя в недалеком прошлом были совсем иными. Если уж дети не похожи на отцов, то правнуки на прадедов тем более. Итак, цель этнолога — изучение изменения времени, поэтому прежде структурных схем ему следует вычертить кривую этногенеза и определить возраст этноса.
#14

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 13:13
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 13:13

Во всех исторических процессах — от микрокосма (жизнь одной особи) до макрокосма (развитие человечества в целом) общественная и природные формы движения соприсутствуют подчас столь причудливо, что иногда трудно уловить характер их связи. Это относится в первую очередь к мезокосму, где лежит феномен развивающегося этноса, т. е. этногенез, понимаемый нами как процесс становления этноса от момента его возникновения до исчезновения или перехода в состояние гомеостаза.[4] Но если этнос — явление пограничное, значит ли это, что он продукт случайного сочетания биогеографических и социальных факторов? Нет, этнос имеет в основе собственную закономерность: вспышка энергии, расширение ее в пространстве, инерция и затухание, а в пределе — равновесие с окружающей средой.
В географическом аспекте этнос в момент своего возникновения — популяция, т. е. группа пассионарных особей, приспособившая определенный регион к своим потребностям и одновременно сама приспособившаяся к ландшафту этого региона.
Но момент рождения краток. Появившийся на свет коллектив должен немедленно сложиться в систему, с разделением функций между ее членами. В противном случае он будет уничтожен соседями. Для самосохранения он быстро вырабатывает социальные институты, характер которых в каждом отдельном случае запрограммирован обстоятельствами места (географическая обсуловленность) и времени (стадия развития человечества как гиперэтноса). Именно потребность в самоутверждении обусловливает быстрый рост системы, территориальное расширение и усложнение внутриэтнических связей; силы же для развития ее черпаются в пассионарности популяции как таковой. Рост системы создает инерцию развития, медленно теряющуюся от сопротивления среды, вследствие чего нисходящая ветвь кривой значительно длинней восходящей (рис. 1).[5]
Рис. 1. Изменение пассионарного напряжения этнической системы (обобщение)

Комментарии к рисунку 1
По оси абсцис отложено время в годах, где исходная точка кривой соответствует моменту пассионарного толчка, послужившего причиной появления этноса. По оси ординат отложено пассионарное напряжение этнической системы в трех шкалах: 1) в качественных характеристиках от уровня Р-2 (неспособность удовлетворить вожделение) до уровня Р6 (жертвенность). Эти характеристики следует рассматривать как некую усредненную «физиономию» представителя этноса. Одновременно в этносе присутствуют представители всех отмеченных на рисунке типов, но господствует статистически тип, соответствующий данному уровню пассионарного напряжения, 2) в шкале — количество субэтносов (подсистем этноса). Индексы n, n+1, n+3 и т. д., где n — число субэтносов в этносе, не затронутом толчком и находящегося в гомеостазе: 3) в шкале — частота событий[6] этнической истории (непрерывная кривая). При этом предлагаемая кривая есть обобщение 40 индивидуальных кривых этногенеза, построенных нами для различных этносов, возникших вследствие различных толчков. Пунктирной кривой отмечен качественный ход изменения плотности субпассионариев в этносе. Снизу крупным шрифтом выделены названия фаз этногенеза соответственно отрезкам по шкале времени.
Даже при снижении жизнедеятельности этноса ниже оптимума социальные институты продолжают существовать, иногда переживая создавший их этнос. Так, римское право прижилось в Западной Европе, хотя античный Рим и гордая Византия превратились в воспоминание. Но что можно откладывать по ординате, если на абсциссе отложено время? Очевидно, ту форму энергии, которая стимулирует процессы этногенеза, т. е. пассионарность. При этом надо помнить, что максимум пассионарности, равно как и минимум ее, отнюдь не благоприятствует процветанию жизни и культуры. Пассионарный перегрев ведет к жестоким кровопролитиям как внутри системы, так и на границах ее, в регионах этнических контактов. И наоборот, при полной инертности и вялости населения какой-либо страны, когда уровень пассионарности приближается к нулю, теряется сопротивляемость окружению, этническому и природному, а это всегда — кратчайший путь к гибели. Пассионарность присутствует во вcех этногенетических процессах, что создает возможность этнологического сопоставления в глобальном масштабе.
Нами не преодолена другая трудность: еще не найдена мера, которой можно было бы мерить пассионарность. На основании доступного нам фактического материала мы может только говорить о подъеме или спаде, о большей или меньшей степени пассионарного напряжения (частоте событий в жизни этноса) — но во сколько раз? — мы не знаем. Однако это препятствие не существенно, ибо отношение порядка «больше» — «меньше» уже само по себе является достаточно конструктивным и плодотворным в естествознании для построения феноменологических теорий, а точность измерения наблюдаемых величин и формализация эмпирических наук — далеко не единственный и не всегда самый удобный путь познания.
Поэтому отмеченная «трудность» скорее не недостаток концепции, а ее особенность.
В наше время школьное образование приучило читателей к двум предвзятым мнениям: вере в непогрешимость источников и убеждение в реальности чисел натурального ряда. Оба мнения не то чтобы не верны, скорее они — не точны.
Достоверность исторических источников ныне ограничена исторической критикой, основанной на принципе сомнения. Натуральные числа — абстракция, ибо в природе отношения физических величин непременно содержат иррациональные числа «е», или «пи», а время — ict — вообще мнимое число. Натуральные числа удобно применять в бухгалтерии, а не в природоведении или истории, где нет ничего принципиально равного или тождественного. Столь же наивна вера в формализирующую силу математики. Математический аппарат применяется в физике давно. Однако ни одна из современных физических теорий даже не аксиоматизирована, за исключением лишь термодинамики Каратеадори, что скорее исключение, чем правило.[7] Причина кроется в том, что язык науки — двойственен, он лишь на одну половину является языком теоретических понятий, а на другую — языком наблюдений, который с трудом переводим на первый для физики, и почти не переводим для наук о мезомире.[8] Нельзя «думать, что все явления, доступные научному объяснению, подведутся под математические формулы… об эти явления, как волны об скалу, разобьются математические оболочки — идеальное создание нашего разума».[9] А Альберт Эйнштейн сказал еще более категорично: «Если теоремы математики прилагаются к отражению реального мира, то они не точны: они точны до тех пор, пока не ссылаются на действительность».[10] Но преклонение перед математикой в начале XX в. превратилось в своеобразный культ, отвлекший много сил у естественников и гуманитариев.
Для описания динамических этнических систем не требуется формализованной математической теории. Законы этногенеза и принципы этнологии, сформулированные нами в «Трактате», — не противоречивы, и потому позволяют делать однозначные экспертные оценки основной функциональной переменной этнического развития — возраста этноса или фазы этногенеза, которая шкалируется с любой разумной точностью от 5-10 лет до времени жизни 1–2 поколений.
Для определения фазы этногенеза необходимо выявить главные параметры изучаемой эпохи, на основании сочетания коих можно дать ей однозначную характеристику. Таковыми будут: императив поведения, момент толчка и логика событий. Логика событий отражает вехи флуктуаций биосферы, в том числе пассионарности этносистемы.[11] Любая этническая система иерархична, т. е. суперэтнос включает в себя несколько этносов, этнос — субэтносов или консорций и т. д. Увеличение числа таксонов низшего ранга всегда связано с подъемом пассионарности, и наоборот. Таким образом, сопоставление величин пассионарности не прямо, но косвенно все-таки возможно, хотя подсчет числа таксонов может быть осуществлен только экспертным путем.
Непривычная для нас кривая проявления пассионарности равно не похожа ни на линию прогресса производительных сил — экспоненту, ни на синусоиду, где ритмично сменяются подъемы и упадки, повторяясь, как времена года, ни на симметричную циклоиду биологического развития. Предложенная нами кривая ассиметрична, дискретна и анизотропна по ходу времени. Она хорошо известная кибернетикам как кривая сгорающего костра, взрыва порохового склада и вянущего листа.
Костер вспыхнул с одного края. Пламя охватывает сучья кругом и быстро поглощает кислород внутри костра. Температура падает, и окружающий кислород воздуха врывается внутрь поленницы, заставляя дрова вновь вспыхнуть. После нескольких вспышек остаются угольки, медленно остывающие и превращающиеся в пепел. Для повторения процесса нужен новый хворост и новая вспышка пламени. Так же, если толкнуть шар — он сначала движется ускоренно, за счет силы толчка; затем теряет инерцию от сопротивления среды и останавливается, точнее, приходит в состояние равновесия со средой, что называется в механике «покоем».
Процессы этногенезов, как и выше описанные, вызываются «взрывами», или «толчками», внешними по отношению к антропосфере, которая из-за этих импульсов превратилась из монолитной в мозаичную, т. е. стала этносферой; единое человечество стало разнообразным, вечно меняющимся сочетанием особей и микропопуляций, чем-то похожих друг на друга, а чем-то разных, главным образом — по стереотипам поведения.
Причинами «толчков» могут быть только мутации, вернее — микромутации, отражающиеся на стереотипе поведения, но редко влияющие на фенотип. Как правило, мутация не затрагивает всей популяции своего ареала. Мутируют только некоторые, относительно немногочисленные особи, но этого может оказаться достаточно для того, чтобы возникли новые «породы», которые мы и фиксируем со временем как оригинальные этносы.
Ареалы взрывов этногенеза, или пассионарных толчков, отнюдь не связаны с определенными постоянными регионами Земли (см. карту на рис. 2).
Рис. 2. Оси зон пассионарных толчков

Легенда к карте пассионарных толчков
Римской цифрой указан порядковый номер толчка, в скобках начальный момент толчка. Арабскими цифрами пронумерованы этносы, возникшие вследствие данного пассионарного толчка, причем вначале идет историческое или условное название этноса, затем в скобках название географической или этнокультурной области появления этноса, соответствующее точке на карте. В некоторых случаях вслед за этим дается краткая характеристика или важнейшие события фазы подъема.
I. (XVIII в. до н. э.) 1. Египтяне-2 (Верхний Египет). Крушение Древнего Царства. Завоевание гиксосами Египта в XVII в. Новое Царство. Столица в Фивах. (1580 г.) Смена религии. Культ Озириса. Прекращение строительства пирамид. Агрессия в Нубию и Азию. 2. Гиксосы. (Иордания, Северная Аравия). 3. Хетты. (Восточная Анатолия). Образование хеттов из нескольких хетто-хурритских племен. Возвышение Хаттуссы. Расширение на Малую Азию. Взятие Вавилона.
II. (XI в. до н. э.) 1. Чжоусцы (Северный Китай: Шэньси). Завоевание княжеством Чжоу древней империи Шан-Инь. Появление культа Неба. Прекращение человеческих жертвоприношений. Расширение ареала до моря на востоке, Янцзы на юге, пустыни на севере. 2. (?) Скифы. (Центральная Азия). 3. Кушиты (Большая излучина Нила). Формирование и становление Напатского царства (в Х-УШ в. до н. э.). Возвышение Напаты и объединенное Египетско-Кушитское государство.
III. (VIII в. до н. э.) 1. Римляне. (Центр Италии). Появление на месте разнообразного италийского (латино-сабино-этрусского) населения римской общины-войска. Последующее расселение на Среднюю Италию, завоевание Италии, закончившееся образованием Республики в 510 г. до н. э. Смена культа, организации войска и политической системы. Появление латинского алфавита. 2. Самниты. (Италия). 3. Этруски (Северо-Западная Италия). 4. (?) Галлы (Южная Франция). 5. Эллины (Средняя Греция). Упадок ахейской крито-микенской культуры в Х1-1Х вв. до н. э. Забвение письменности, образование дорийских государств Пелопо-неса (VIII в.). Колонизация эллинами Средиземноморья. Появление греческого алфавита. Реорганизация пантеона богов. Законодательства. Полисный образ жизни. 6. Лидийцы. 7. Карийцы. 8. Киликийцы (Малая Азия). 9. Персы (Персида). Образование мидян и персов. Дейок и Ахемен — основатели династий. Расширение Мидии. Раздел Ассирии. Возвышение Персиды на месте Элама, закончившееся созданием Царства Ахеменидов на Ближнем Востоке. Смена религии. Культ огня. Маги.
IV. (III в. до н. э.) 1. Сарматы. (Казахстан). Вторжение в Европейскую Скифию. Истребление скифов. Появление тяжелой конницы рыцарского типа. Завоевание Ирана парфянами. Появление сословий. 2. Кушаны-согдийцы. (Средняя Азия). 3. Хунны (Южная Монголия). Сложение хуннского родо-племенного союза. Столкновение с Китаем. 4. Сянби. 5. Пуе. 6. Когуре (Южная Маньчжурия, Северная Корея). Возвышение и падение древнего корейского государства Чосон. (III–II вв. до н. э.) Образование на месте смешанного тунгусо-маньчжурско-корейско — китайского населения племенных союзов, выросших впоследствии в первые корейские государства Когуре, Силла, Пэкче.
V. (I в. н. э.) 1. Готы (Южная Швеция). Переселение готов от Балтийского моря к Черному (II в.). Широкое заимствование античной культуры, закончившееся принятием христианства. Создание готской империи в Восточной Европе. 2. Славяне. Широкое распространение из Прикарпатья до Балтийского, Средиземного и Черного морей. 3. Даки. (Современная Румыния.) 4. Христиане. (Малая Азия, Сирия, Палестина.) Возникновение христианских общин. Разрыв с иудаизмом. Образование института Церкви. Расширение за пределы Римской империи. 5. Иудеи-2. (Иудея.) Обновление культа и мировоззрения. Появление Талмуда. Войны с Римом. Широкая эмиграция за пределы Иудеи. 6. Аксумиты (Абиссиния.) Возвышение Аксума. Широкая экспансия в Аравию, Нубию, выход к Красному морю. Позже (IV в.) принятие христианства.
VI. (VI в. н. э.) 1. Арабы-мусульмане. (Центральная Аравия.) Объединение племен Аравийского полуострова. Смена религии. Ислам. Расширение до Испании и Памира. 2. Раджпуты. (долина Инда.) Низвержение империи Гупта. Уничтожение буддийской общины в Индии. Усложнение кастовой системы при политической раздробленности. Создание религиозной философии Веданты. Троичный монотеизм: Брама, Шива, Вишну. 3. Боты. (Южный Тибет.) Монархический переворот с административно-политической опорой на буддистов. Расширение в Центральную Азию и Китай. 4. Табгачи. 5. Китайцы-2 (Северный Китай: Уэньси, Шаньдун). На месте почти вымершего населения Северного Китая появились два новых этноса: китайско-тюркский (табгачи) и средневековый китайский, выросший из группы Гуаньлун. Табгачи создали империю Тан, объединив весь Китай и Центральную Азию. Распространение буддизма, индийских и тюркских нравов. Оппозиция китайских шовинистов. Гибель династии. 6. Корейцы. Война за гегемонию между королевствами Силла, Пэкче, Когуре. Сопротивление танской агрессии.
Объединение Кореи под властью Силла. Усвоение конфуцианской морали, интенсивное распространение буддизма. Формирование единого языка. 7. Ямато (Японцы). Переворот Тайка. Возникновение централизованного государства во главе с монархом. Принятие конфуцианской морали как государственной этики. Широкое распространение буддизма. Экспансия на север. Прекращение строительства курганов.
VII. (VIII в. н. э.) 1. Испанцы (Астурия.) Начало реконкисты, неудачно. Образование королевств: Астурия, Наварра, Леон и графства Португалия на базе смешения испано-римлян, готов, аланов, лузитан и др. 2. Франки (Французы). 3. Саксы (Немцы). Раскол империи Карла Великого на национально-феодальные государства. Отражение викингов, арабов, венгров и славян. Раскол христианства на ортодоксальную и папистскую ветви. 4. Скандинавы (Южная Норвегия, Северная Дания). Начало движения викингов. Появление поэзии и рунической письменности. Оттеснение лопарей в тундру.
VIII. (XI в. н. э.) 1. Монголы (Монголия). Появление «людей длинной воли». Объединение племен в народ-войско. Создание законодательства — ясы и письменности. Расширение Улуса от Желтого до Черного моря. 2. Чжурчжэни (Маньчжурия). Образование империи Цзинь полукитайского типа. Агрессия на юг. Завоевание Северного Китая.
IX.. (XIII в. н. э.) 1. Литовцы. Создание жесткой княжеской власти. Расширение княжества Литовского от Балтийского до Черного моря. Принятие христианства. Слияние с Польшей. 2. великороссы. Исчезновение Древней Руси, захваченной литовцами (кроме Новгорода). Возвышение Московского княжества. Рост служилого сословия. Широкая метисация славянского, тюркского и угорского населения Восточной Европы. 3. Турки-османы (Запад Малой Азии). Консолидация бейликом Брусы активного населения мусульманского Востока с добавкой пленных славянских детей (янычары) и моряков, морских бродяг Средиземноморья (флот). Султанат военного типа. Оттоманская Порта. Завоевание Балкан, Передней Азии и Северной Африки до Марокко. 4. Эфиопы (Амхара, Шоа в Эфиопии). Исчезновение древнего Аксума. Переворот Соломонидов. Экспансия эфиопского православия. Возвышение и расширение Царства Эфиопия в Восточной Африке.
Выделяемые узкие полосы, шириной около 300 км, тянущиеся то в меридиональном, то в широтном направлении примерно на 0,5 окружности планеты, похожи на геодезические линии.[12] Возникают толчки редко — два или три за тысячу лет и почти никогда не проходят по одному и тому же месту. Так, за тысячу лет до н. э. отчетливо прослежены два толчка: в VIII в. от Аквитании, через Лациум, Элладу, Киликию, Парс до средней Индии и в III в. по степям современной Монголии и Казахстана.
О толчках I тыс. н. э. мы будем подробно говорить в основном тексте этой книги.
Один и тот же толчок может создать несколько очагов повышенной пассионарности (и как следствие — несколько суперэтносов), если он длинен и проходит через разнообразные физико-географические регионы. Так толчок VI в. задел Аравию, долину Инда, Южный Тибет, Северный Китай и среднюю Японию. И во всех этих странах возникли этносы-ровесники, причем каждый из них имел оригинальные стереотип и культуру. Соседи их: Византия, Иран, Великая степь, айны — были старше, в XII в, появились чжурчжэни и монголы: они были моложе всех. Западная Европа, лежавшая в развалинах после Великого переселения народов обновилась в IX в., а Восточная — XIV в. Именно поэтому Россия и Литва — не отсталые по сравнению с Францией и Германией, а более молодые этносы. Впрочем, Россию правильнее называть суперэтносом, ибо Москва объединила вокруг себя много этносов, не прибегая к завоеванию.
Описанную кривую можно в случае надобности применить к семье, консорции, конвиксии, соответственно меняя масштаб времени и суперэтносу, но в последнем случае необходимо учитывать контакты разновозрастных этносов. На суперэтническом уровне при синхронизации бытующих в данный отрезок времени этногенезов мы увидим динамику этнокультурных систем (рис. 3) и их сочетания, которые бывают и кровавыми, и мирными, экономическими, идеологическими и эстетическими. В разных исторических коллизиях, климатических вариациях и спадах пассионарности результаты столкновений бывают различны. Эти контакты и есть предмет этнической истории.
Рис. 3. Динамика этнокультурных систем Евразии I–XII вв.

#15

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 13:16
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 13:16

Схема этногенеза наглядна и облегчает изучение этнической истории, — но только как вспомогательный мнемонический прием. Она относится к историческому повествованию, как каталог библиотеки — к содержанию книгохранилища, или старый план Москвы — к нынешнему городу, где сохранены переулки, но заменены дома. Жить-то приходится не в плане, а в городе, хотя наличие плана весьма помогает передвигаться по измененным до неузнаваемости улицам.
В отличие от науки об этногенезе этническая история — полифакторное явление. В ней участвуют, наряду с географическими и биологическими, социально-политические, историко-психологические и культурологические факторы, как соучастники многообразных фрагментарных процессов. Исключительное значение пассионарности лишь в том, что она — мера потенциальных возможностей контактирующих этносов и тем самым определяет расстановку сил эпохи, хотя и не детерминирует исхода событий. Но достоинство этнологии как науки о биосферном феномене этноса состоит в том, что она позволяет множество привходящих факторов свести к небольшому числу поддающихся оценке переменных и превращает неразрешимые для традиционного исторического подхода задачи — в элементарные. Ее методика относится к старой, как алгебра к арифметике. Она менее трудоемка, а значит, позволяет при равной затрате сил охватить больший регион и более длинную эпоху, что, в свою очередь, дает возможность внести ряд уточнений путем сопоставления далёких фактов, на первый взгляд — не связанных друг с другом. Более того, так же как алгебраическая формула может быть всегда проверена арифметически, так и этнологические выводы могут быть проверены традиционными методами исторической науки. Но этнология отнюдь не замена истории общественной, хотя и использует историю в широком смысле этого слова, историю — как «поиск истины». Ведь история, как двуликий Янус, гуманитарна лишь там, где предметом изучения являются творения рук и умов человеческих, т. е. там, где изучаются здания и заводы, древние книги и записи фольклора, феодальные институты и греческие полисы, философские системы и мистические ереси, горшки, топоры и расписные вазы или картины.
Эти вещи человек создает своим трудом, при этом выводя их материал из цикла конверсии биоценоза. Он стабилизирует природный процесс, ибо эти вещи могут только разрушаться.[13]
Но человек не только член общества (Gesellschaft), но и этноса (Gemeinwesen).[14] Вместе со своим этническим коллективом он сопричастен биосфере. Вечно меняясь, умирая и возрождаясь, как все живое на нашей планете, он оставляет свой след путем свершения событий, которые составляют скелет этнической истории — функции этногенеза. В этом аспекте история — наука естественная точно так же, как, например, история болезни, и находится в компетенции диалектического, а не исторического материализма.
Иногда на это возражают, что исторические факты нельзя проверить экспериментально. Да, но ведь многие геологические, зоологические и географические явления тоже невозможно воспроизвести. Люди не научились устраивать извержения вулканов, тайфуны, миграции буйволов и даже муравьев.
Подобные явления изучаются путем наблюдений и их обобщения, которое по достоверности равноценно наблюденному факту.[15] На этом же методе эмпирического обобщения зиждется и этнология.
#16

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 13:17
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 13:17

Механизм этногенеза понятен. Рост пассионарности приводит к усложнению этнической системы; снижение пассионарного напряжения — к ее упрощению и к разрушению этнической целостности.
Деструкция этноса объяснима крайне просто: любой инерционный процесс затухает от сопротивления среды; но откуда берутся негэнтропийные импульсы, порождающие однотипные мутации на очень длинных полосах Земли, причем эти полосы всегда не совпадают с предшествующими и последующими? На этот вопрос ответить трудно. Заранее можно отбросить солярную гипотезу, ибо Солнце освещает одновременно целое полушарие, и хтоническую (подземную), потому что эти полосы варьируют вне зависимости от геологического строения территорий, по которым они проходят. Не имеет значения и уровень социального развития этносов, подвергаемых мутагенному воздействию, а наземные физико-географические условия лишь способствуют или не способствуют возникновению начального момента этногенеза, после которого дальнейший ход процесса легко объясним, разумеется, в пределах законного допуска и с учетом этнических контактов.
Остается не отброшенной только одна гипотеза — вариабельное космическое излучение. При нынешнем уровне знаний о ближнем космосе эта гипотеза не может быть строго доказана, но зато она не встречает фактов, ей противоречащих.
Представим себе поверхность Земли как экран, на который падают космические лучи. Большая часть этих лучей задерживается ионосферой, но некоторые достигают поверхности Земли, чаще всего ночью, ибо ионосфера и космическая радиация нестабильны, даже в суточном цикле.[21]
Однако космические импульсы будут деформированы магнитным полем Земли и примут облик геодезических линий, не зависящих от наземного ландшафта. Время каждого облучения не должно быть продолжительным, но оно должно быть и достаточным для того, чтобы произошла микромутация, изменяющая еще в зародыше психические свойства небольшого числа особей, рождающихся в облученном ареале. Разумеется, не все плоды в утробах матерей приобретают после мутации признак пассионарности. Исход любой мутации в большинстве случаев детален. Некоторые из затронутых проявляют себя после рождения как субпассионарии или просто рождаются физически неполноценными особями, но они быстро устраняются естественным отбором. Так появляется первое пассионарное поколение, распространяющее свой генофонд по популяции и образующее оригинальные биосоциальные коллективы — новые этносы. Остальное понятно: пассионарность, как признак, устраняется медленно, за 40–50 поколений либо в результате внутрисистемной аннигиляции, либо естественного географического рассеяния, с вытеснением за границы этнического ареала.
Если эта гипотеза не встретит противоречащих ей фактов, то этнология даст возможность получить данные о состояниях ближнего космоса и его контактах с поверхностью Земли в эпохи, строго фиксируемые абсолютной хронологией. Допуск в плюс-минус 50 лет — величина ошибки для определения длины инкубационного периода — невелик, а практическая ценность данных об энергетических вариациях в ближнем космосе за 4–5 тысячелетий — несомненна.
Влияние ближнего космоса на наземные явления не парадокс, а, скорее, трюизм. Луна вызывает приливы в океанах; солнечная активность — причина смещения путей циклонов через воздействие на затропический барический максимум; он же вызывает мутации вирусов и связанные с ними эпидемии. Все это не мистика, а география. Так какие же причины к тому, чтобы отвергать воздействия окружения планеты на ее поверхность?
Ну а если гипотеза воздействия каких-либо лучей на антропосферу не подтвердится? Если биологи обнаружат другую причину мутаций и, особенно, микромутаций, изменяющих не анатомию, а только физиологию организмов высших родов позвоночных? Значит ли это, что космос не причина вспышек этногенеза? Нет! Ибо линии толчков, по которым рождаются этносы-сверстники, — эмпирически зафиксированный факт.
Космические и планетарные вариации стоят на несколько порядков выше этногенезов, влияют на всю биосферу, включающую не только совокупность живых организмов, но и почвы т. е. трупы растений и свободный кислород воздуха. И хотя этносы — капли в океане биосферы, они не могут не реагировать на ее флуктуации.
И если найдется талантливый психолог, который обнаружит физиологический механизм пассионарности и свяжет его не с вегетативной нервной системой организма, а с гормонами или влиянием микроорганизмов, живущих в симбиозе с их носителем? Или он объяснит повышенную активность пассионариев не как выброс излишней биохимической энергии живого вещества, а как способность выдавать эту энергию целенаправленно? Или генетик уточнит способ передачи пассионарности как признака? Что изменится в описании феномена этногенеза? Ничего! Потому что этногенез — явление, наблюдаемое не на молекулярном, и даже не на организменном уровне, а на популяционном, имеющем собственные черты, присущие только этому уровню, которые и изложены нами в Трактате.
И наконец, если философ-идеалист, наследник великих схоластов средневековья, предложит деление этносов на «исторические», т. е. стремящиеся к Абсолюту, и «неисторические», просто живущие на поверхности Земли, ответ ему будет краток: нет ни одного этноса, который бы не испытал подъема пассионарности; и нет ни одного, который бы не превратился в реликт, если только он не рассыпался на куски раньше. При этом неизвестно, кому из них повезло?
Короче говоря, нами описана природная закономерность, не содержащая философемы. Описание построено на фактах, и только новые, несомненные факты могут поколебать концепции.
#17

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 13:19
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 13:19

Из всего изложенного вытекает: человек — игралище природных и социальных процессов, веточка в бурной реке, а следовательно, он не отвечает и за свои поступки, что весьма удобно для людей аморальных. Философские споры о детерминизме велись очень давно, но без результата. Попробуем обратиться к физиологии.
Оказывается, что реакция на воздействия внешней среды у живых организмов коренным образом отличается от предметов косного мира. Горы, долины, камни пассивны, а организмы, даже одноклеточные, способны перестраивать цепи химических процессов внутри себя и тем предвосхищать удары извне: внезапный холод или жар, изменения состава воздуха или воды и т. п. Живая «молекула» классифицирует эти воздействия на «вредные» и «полезные», отчего возникает приспособление путем отбора.[34] Высшие животные обладают нервной системой, накапливающей опыт опережения повторных ударов из внешнего мира. Это условный рефлекс.[35] Люди же обладают еще и сознанием, позволяющим делать выводы из анализа обстановки и принимать решения в альтернативных ситуациях. Пусть такие ситуации бывают редко, но от правильного выбора зависит иногда даже жизнь. Значит, живые организмы, наряду с подчинением глобальным закономерностям, на персональном уровне обладают свободой, точнее: правом на выбор решения или произвольность. Это свойство нейронов мозга, т. е. тоже природное явление, обязательная «составляющая» биосферы планеты Земля. Свобода — порождение природы!
Но свобода выбора — это тяжелый груз ответственности: за ошибку организм платит жизнью. А количество степеней свободы громадно. «В масштабе целого мозга оно с трудом может быть записано цифрой длиной в 9,5 млн. км!.. Организованное поведение человека предполагает неизбежное ограничение этого разнообразия. Следовательно, принятие решения… представляет собой выбор одной степени свободы,[36] наиболее удачный, с точки зрения выбирающего субъекта. Однако его решение может оказаться ошибочным. Поэтому каждый организм платит за степень свободы риском гибели.
Эта физиологическая дефиниция имеет прямое отношение к этногенезу. К системным целостностям высших рангов она применима с существенными оговорками: она может объяснить не ход этнической истории, а ее зигзаги. На клеточном уровне «свободы» нет, так как она погашается деятельностью всего организма; исключения патологичны. Но на персональном уровне свобода выбора существует всегда, и хотя человека ограничивают природные условия, статистические закономерности, принудительные меры социального окружения, причинно-следственные связи, на уровне субэтническом и ниже, у него остается свободный выбор, полоса свободы, сам факт существования которой не может не влиять на поведение человека, а тем самым на стереотип поведения этноса.
В этой полосе свободы заложено творческое начало человека — отклонение от стереотипа, что имеет исключительное значение в момент формирования нового этноса, но по ее же вине возникает ощущение ответственности за свои поступки, т. е. то, что на русском языке называется совестью. Какое бы ни было проявление свободной воли человека, оно не может не пройти через фильтр его совести.
Казалось, что общего у совести с этногенезом, но в ее компетенцию попадают и выбор знака мироощущения персоны. Ведь люди, обладающие свободой выбора, могут переходить из позитивной этнической системы в антисистему. Разумеется, такой переход возможен не всегда, потому что при этом необходимо сломать инерцию окружения (этнического стереотипа и адаптационного синдрома) и традиции. Но в химерах такая смена легка, так как здесь взаимопроникающие чуждые системы, этнические и культурные, влияя на творческого человека, уравновешивают друг друга, и его свободная воля оказывается в силах преодолеть инерцию традиции со всеми вытекающими из этого последствиями. И наоборот, человек может вырваться из антисистемы и вновь обрести позитивное мироощущение (как этослучилось, например, с бл. Августином — в молодости манихеем), реадаптировавшись в этнической системе. Искренность таких превращении не может быть проверена на словах (чужая душа — потемки), но если вместо одного человека взять на рассмотрение большой коллектив, то характер его поведения покажет, где искренность, а где сознательный обман. Здесь вероятность ошибки уменьшается пропорционально числу элементов системы и числу наблюдений.
Таким образом, процесс этногенеза разворачивается в трех координатах: времени, пассионарного напряжения и полярности мироощущения. Следовательно, категория произвольности или свободы выбора является третьей переменной этнической истории.
Не следует смешивать понятия позитивного — негативного с обывательским представлением о «высшем» и «низшем». В этногенезе вообще нет ни «верха», ни «низа», нет здесь и «высших» или «низших» этносов. Лишь европоцентристы считали «высшими» себя, а прочих выстраивали по ранжиру. То же самое делали жители «Срединной равнины» — китайцы. Их противники, борцы за «равенство», понимали под ним «одинаковость» людей, что было столь же нелепо, ибо разнообразие этносов и даже отдельных персон (организмов) очевидно.
Этнология ввела в этнографию системный подход, где усложнение этнической системы (рост системных связей) — примитивизация — два противостоящих направления. Однако это относится к системам уровня этноса, но никак не к отдельным людям, их составляющих.
Гомеостаз — это преобладание гармоничных личностей такие особи есть всегда и везде: в Риме и Англии, Анахуаке и Бенгалии… Без них не может существовать ни один этнос, ибо они — его основа. А пассионарность — это неудовлетворенность разных степеней… Пассионарии лишают своих соплеменников покоя, но без них этнос беззащитен. И надо помнить, что «гармоничники», у которых импульс страстей равен инстинкту самосохранения, не могут быть выше или ниже своих соседей, современников и даже жителей разных стран и эпох, потому что в энтропийном процессе нет ни «верха», ни «низа». Этническая системная целостность может быть только сложнее или проще, но к такому делению качественные оценки неприменимы.
Ведь первоначальное усложнение этноса за счет избыточной пассионарности влечет ужасы перегрева (акматическая фаза), трагизм надлома и постылый покой инерционной фазы. Где же тут «лучше» или «хуже», либо «выше» или «ниже»? Нечем измерять, и неизвестно, что именно измерять, так как неизбежная растрата пассионарности влечет за собой появление субпассионариев — особей с потребительской психологией, антисоциальных и аморальных, либо их эгоизм, основанный на инстинкте самосохранения, не выходит за рамки рефлекса самоудовлетворения; а коль скоро так, то устранение всех запретов и обязанностей для субпассионария просто логично и детерминировано.
При снижении пассионарного напряжения в этносе возникает стихийная война между гармоничниками и субпассионариями. Если побеждают последние, а так было в Риме III в. и в Китае IV в., идет распад этноса, причем выживают единицы. Если побеждают гармоничники — этнос превращается в реликт и, если он находится в изоляции, люди живут долго в гармонии с вмещающими ландшафтами, оставаясь храбрыми, сильными, умными, добрыми, удовлетворенными жизнью, но совершенно беззащитными перед хищными, инициативными, алчными и воинственными соседями. Что «лучше» — опять неизвестно. Только усложнение системы биоценоза, в котором этнос — верхнее замыкающее звено, мы вправе назвать позитивным, ибо оно поддается измерению и связано прямопропорционально с устойчивостью всей биосферы в целом.
Сравнивать в этом смысле даже два этноса между собой уже невозможно, ибо их стереотипы поведения, а значит и способы адаптации оригинальны и связаны с различными участками земной поверхности — ландшафтами, каждый из которых имеет право на существование. И считать один «выше» другого — нелепо.
Сравнение этносов возможно лишь по возрасту или фазе этногенеза, причем одни этносы — старше, а другие моложе, и все. Но ни один из них не вечен, и каждому предстоит пережить, пусть по-своему, но один и тот же жизненный путь, пока его этногенетическое время не остановится. Итак, в этнической истории время неоднородно. Гладкое развитие цивилизации, заполняющей окружающую природную среду искусственными структурами: городами, мощеными дорогами, статуями, полями монокультур и стадами животных, обреченных на гибель от рук своих пастырей, время от времени нарушается взрывами энергии живого вещества биосферы — пассионарными толчками. Эти вспышки жизни, не только иррациональной, но даже антирациональной, ломают оковы сложившихся форм и зачинают новые процессы этногенеза, постепенно кристаллизующиеся в очередных омертвлениях — цивилизациях. Никогда не захватывая всей ойкумены, пассионарные толчки создают этническое разнообразие: сочетание старости с молодостью, военной доблести с духовными озарениями, алчности с расточительностью, любви к природе с отвращением к материальному миру. Таким образом пассионарные толчки локализованы как в пространстве, так и во времени, образуя на поверхности Земли сетку однотипных линий (рис. 2). А коль скоро так, то следует интерпретировать историю смены этносов не как прогрессивное развитие, а как серию дискретных энтропийных процессов — возмущений живого вещества антропосферы. И каждое такое возмущение уносит в небытие накопленную этносом культуру, т. е. кристаллизованную пассионарность.
Статистические закономерности этнической истории восходят к пограничному взаимодействию биосферы и социо-техносферы, причем действующими лицами разыгрываемой повсеместно трагедии являются этносы. Чем обобщеннее процесс или сочетание процессов, тем меньше роль отдельных людей и их личных качеств, и наоборот, на субэтнических уровнях значение людей, наделенных разумом и волей, возрастает. Таким образом, этническая история есть продолжение истории биосферы, с поправкой на свободную волю (совесть) людей, проявляющейся в деталях этногенеза, взаимно компенсирующихся на уровне суперэтнических целостностей Поэтому интерес к деталям исторических событий оправдан: поступки особей, объединенных в консорции, имеют свое значение для судеб отдельных биоценозов и ландшафтов. Важно лишь учитывать масштаб этнической коллизии и не смешивать уровни исследования.
Этнология, как наука о биосферном явлении — этносе, выработала арсенал надежных средств исследования, позволяющих провести реконструкцию самых темных страниц этнической истории. Одной из них является Евразийская степь, народам которой была посвящена наша «Степная трилогия»[37] — работа, выполненная как традиционное историческое исследование. Но завершив ее, автор удовлетворения не получил. Казалось бы, в ней есть все, что необходимо для монографий подобного исторического охвата: обширная библиография, критика источников, анализ отдельных событии и эпох, наконец, не слишком сухое академическое изложение материала, делающее ее чтение не скучным, но… эмпирического обобщения нет.
Да и не могло быть. Для этого автору понадобилось почти на двадцать лет остановить Востоковедческие студии, в результате чего появилась наука об этногенезе и биосфере Земли с ее принципами этнологического исследования, изложенными выше. Проидя только таким окольным и тернистым путем, мы в состоянии теперь с высоты птичьего полета окинуть Евразийский континент и заметить на нем широкую ленту Великой степи, которую вот уже около трех тысяч лет населяют народы (этносы), чьи взлеты и падения, уже не кажутся чем-то особенным, отличительным от взлетов и падений всех остальных этносов, существовавших и существующих ныне на земле. Мы нашли закономерность феномена этногенеза. Именно она и является, как мы сказали уже, ключом к решению загадок этнической истории. Секрет прост.
Этническая история любого географического региона, какой бы мозаичной она ни казалась, представляет собой переплетение природных процессов трех типов.
1. Процесса адаптации каждого этноса во вмещающем и кормящем его ландшафте. Причем потеря адаптивных навыков необратима: упрощаются, а вернее, искажаются и ландшафт и культура этноса. Механизм связи «этнос — ландшафт» — сигнальная наследственность, она же — так называемая этническая традиция, превращающая этносферу в мозаику оригинальных поведенческих стереотипов.
2. Этногенеза — энтропийного процесса, начинающегося со вспышки пассионарности, образующей новый поведенческий стереотип (этнос) и проявляющегося в последующей утрате, что всегда сопряжено с собыгиями, которые и фиксируют источники.
3. Процесса этнических контактов — взаимодействия этносов между собой, результат которого не всегда нейтрален, но закономерен с точки зрения принципа биполярности этносферы При этом идеал, т. е. далекий прогноз, желанная цель, формирующая психологическую доминанту, не только на персональном, но и на популяционном (субэтническом) уровне, может менять полярность или знак. Это означает смену усложнения этнической системы ее упрощением или наоборот, объективный критерий чего — наблюдаемые (обратимые или необратимые) изменения в ландшафте, биосфере в целом (не смешивать с обывательскими понятиями «хорошо» и «дурно» и умозрительными «прогресс» и «отсталость»).
Этот третий тип биосферных процессов особенно важен для темы нашей книги, ибо Евразийская степь постоянно взаимодействовала со своим окружением, особенно в интересующее нас «тысячелетие». В это время четыре пассионарных толчка пересекли Европу и Азию, окружили пространство Великой степи и создали взбаламученное море, которое называется Великим переселением народов и движением викингов, — на западной окраине ареала. На Востоке были войны хуннов, тюрок и уйгуров с Китаем, а в середине… но читатель увидит это сам, если прочтет книгу до конца.
#18

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 13:23
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 13:23

Пассионарная индукция — явление трансформации поведения гармоничных особей и субпассионариев в присутствии пассионариев под влиянием пассионарного поля.
Пассионарное напряжение — см. «Уровень пассионарного напряжения этнической системы».
Пассионарное поле — поле, обусловленное наличием биохимической энергии — пассионарности.
Пассионарность как характеристика поведения — избытка биохимической энергии живого вещества, порождающий жертвенность ради иллюзорной цели.
Пассионарность как энергия — избыток биохимической энергии живого вещества, обратный вектору инстинкта и определяющий способность к сверхнапряжению.
Пассионарный импульс — см. «Пассионарный импульс поведения».
Пассионарный импульс поведения или пассионарный импульс — поведенческий импульс, направленный против инстинкта личного и видового самосохранения.
Пассионарный признак — рецессивный генетический признак, обусловливающий повышенную абсорбацию особей биохимической энергии из внешней среды и выдачу этой энергии в виде работы.
Пассионарный толчок — микромутация, вызывающая появление пассионарного признака в популяции, и приводящая к появлению новых этнических систем в тех или иных регионах.
Субпассионарии — особи, пассионарный импульс которых меньше импульса инстинкта самосохранения.
Гармоничные особи (гармоничники) — особи, пассионарный импульс которых равен по величине импульсу инстинкта самосохранения.
#19

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 13:34
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 13:34

#20

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 13:44
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 13:44

У Гумилева несколько по другому это сформулировано. Дальше буду писать своими словами. В общем есть люди у которых огромное шило в заднице и избыток энергии. Эти люди начинают что то по жизни делать и чего то добиваться. В общем у них есть энергия и желание тянуть одеяло на себя. Их конкретное поведение очень сильно зависит от общего количества в популяции пассионариев. Если их совсем мало то их энергия гаснет в болоте не находя поддержки, если много то они начинают непримиримую борьбу друг с другом ради чего то. В общем они ради своих целей могут пожертвовать своей жизнью.
Противоположный полюс- субпассионарии. Люди которые вообще ничего не хотят добровольно делать. Это разная шалупонь.
Ну и между ними нормальные здоровые гармоничные люди. Герои рекламных роликов, розовощекие потребители, зарабатывающие на свое потребление.
Следует отметить, что бывает разный уровень пассионарности более сильный и более слабый.
#21

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 14:54
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 14:54

#23

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 18:59
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 18:59

В вашем посте по моему мнению подразумевается какая то благородная цель у пассионариев, а ее может и не быть. Пассионарии ради своего ЭГО загубили огромное количество людей. Пассионарность и пассионарии это не хорошо и не плохо это буйство энергии. А субпассионарии это недостаток энергии.
#24

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 19:01
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 19:01

Вы же задали вопрос, что такое пассионарность. С точки зрения теории Гумилева пасионарность именно вышенаписанное.
#25

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 19:08
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 19:08

Субпассионарии соответственно большинство европейцев (за исключением горцев Европы), частично некоторые территориальные группы в Передней Азии (например, большинство армян, за исключением опять-таки горцев, частично ассирийцев, арабы Саудовской Аравии на мой взгляд довольно пассивны на настоящий момент)
#26

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 19:14
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 19:14

Что вы под этим имеете ввиду? Швейцарцы, австрийцы, словаки, шотландцы?
#27

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 19:30
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 19:30

Субпассионарии соответственно большинство европейцев (за исключением горцев Европы), частично некоторые территориальные группы в Передней Азии (например, большинство армян, за исключением опять-таки горцев, частично ассирийцев, арабы Саудовской Аравии на мой взгляд довольно пассивны на настоящий момент)
Насколько я понимаю Гумилев оценивал пассионарность отдельных людей по их биографиям и тому следу который они оставили после себя. Этот метод применим только к отдельным личностям. К оценке пассионарности народов он относился очень осторожно, говоря об абберации близости.
Если исходить из духа его работ, то можно сделать вывод о том, что горцы по большей части это гармоничные люди. Это же относится и к большинству негров за исключением зулусов в Южной Африке, которые пришли в движение еще в 19 веке.
Европейцы по большей части тоже гармоничные люди, только там в последнее время все большую и большую роль разная субпассионарная шалупонь играет, поэтому скоро европейских пассионариев ждут тяжелые времена. Времена гнусного предательства и безразличия.
По гумилеву у китайцев сей-час вроде какая то из начальных стадий этногенеза, наверное подъем.
#28

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 20:03
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 20:03

Противники теории, почему то ищут слабые стороны не замечая глобальности теории... А ведь она глобальна....
А её погрешности приблизительно равны погрешностям социологии... Социология ведь тоже обобщает и многое не учитывает...
Для кого то 10 человек - это много, для кого то - мало... Социология в данном случае, скажет, что 10 это много (или мало), в зависимости от масштабов опытов, личных воззрений людей....
а то, что миром движут активные организованные умы, это итак ясно... А ведь многие пытались углядеть эту цикличность....
Не один только Гумелев...
Сообщение изменено: Vognejar, 18 Апрель 2011 - 20:04.
G25:
Ukrainian_Dnipro:YF83820,0.127482,0.12491,0.064488,0.048773,0.037853,0.018686,0.009165,0.010615,-0.00409,-0.02041,-0.000162,-0.006744,0.012042,0.023121,-0.008686,-0.01127,-0.009779,0.00076,0.003142,0.002001,-0.000873,-0.006925,0.000986,-0.001566,0.002155
#29

 Опубликовано 18 Апрель 2011 - 20:36
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 20:36

Для отдельных этносов цикличности нет. Есть рождение - жизнь- смерть. Для антропосферы в целом скорее всего тоже, потому что последовательность и характеристики толчков не повторяются. В дополнение к этому меняются декорации, изменяются технологии, ландшафты.
В моем понимании цикличность это следование повторяющимся природным ритмам. День/ночь, времена года, молодость/ старость.
Природа пассионарных толчков такова, что нет никаких гарантий того, что старый народ сменит его обновленный новый народ наследник. Это может случиться, а может и не случиться. Поэтому цикличности не получается.
#30

 Опубликовано 19 Апрель 2011 - 05:09
Опубликовано 19 Апрель 2011 - 05:09

Да. На мой взгляд нужно передать горцам Европы управленческие функции в рамках ареала расселения европейцев, результаты не заставят себя долго ждать...
Посетителей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться


 Наверх
Наверх