Войти Создать учётную запись
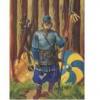
Демографический фактор в революциях 1905 и 1917 годов
#1

 Опубликовано 05 Апрель 2011 - 07:18
Опубликовано 05 Апрель 2011 - 07:18

Автор первой статьи- С.А.Нефедов придерживается мальтузианской трактовки данных событий, Миронов ему оппонирует.
Нефедов С.А. О ПРИЧИНАХ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Была ли русская революция начала XX века случайностью или кризис был обусловлен долговременными экономическими процессами? Проблема интерпретации революции тесно связана с анализом экономического развития в XIX- начале ХХ вв. и с общей проблемой существования исторических закономерностей, проявлением которых, согласно марксистской точке зрения, была эта революция. Однако несостоятельность марксистской трактовки этих закономерностей привела к утрате веры в существование каких-либо закономерностей вообще. «Из-за утраты веры в закономерность исторических событий… - отмечает известный американский историк Л. Хеймсон, - в современной российской историографии образовался вакуум, чем и объясняется появление таких стереотипов в интерпретации исторических процессов, как сведение объяснения Октябрьского переворота к заговорщической деятельности большевиков, объяснение истоков Февральской революции как следствия заговорщической деятельности масонов, не говоря уже об объяснении падения царского режима прекращением проведения столыпинских реформ вследствие внезапной смерти премьер-министра от рук террористов в ?>1911 г.» (Хеймсон 1993: 4). Известно, что как советские историки, так же как и дореволюционные экономисты, считали уровень потребления в России крайне низким, и притом постепенно понижающимся. Эта истина была признана и на официальном уровне правительственных комиссий, собравших многие тома статистических данных (Материалы… 1903). Такая позиция первоначально была свойственна и западной историографии. «В 1905 году произошла аграрная революция, - писал Г. Робинсон, - и позади этой революции, рассматриваемой как «результат», должно быть, имелись «причины»; если же это не так, то не имеется никакой логики в движениях истории. Так как результат был глубок и широк, причины, должно быть, также простирались широко и глубоко в жизнь деревень…» (Robinson 1967: 363). До 80-х годов прошлого века причину революции видели в ухудшении положения народных масс, и прежде всего, крестьянства; главной причиной оскудения крестьянства считался быстрый рост населения, приведший к острой нехватке земли(например: Gerschenkron 1967; Volin 1970). Но в 80-х годах эта точка зрения была поставлена под сомнение в работах П. Грегори, П. Гатрелла, Дж. Симмса, С. Хока, и ряда других авторов (Gregory 1982; Gatrell 1986; Simms 1977; Hoch 1994). Отмечая фиксируемый в конце XIX-начале ХХ века рост населения и душевого производства, эти авторы полагают, что российская аграрная экономика находилась на пути поступательного развития, и уровень потребления увеличивался. Эту точку зрения на динамику аграрного развития разделяет и известный российский историк Б. Н. Миронов, который говорит не только об увеличении потребления, но и о том, что его уровень «в целом удовлетворял существовавшие в то время потребности в продовольствии» (Миронов, 2008: 95).
Но почему же тогда произошла революция?
http://cliodynamics....o...7&Itemid=76
Б.Н. Миронов. Наблюдался ли в позднеимперской России мальтузианский кризис: доходы и повинности российского крестьянства в 1801 – 1914 гг.
В отечественной историографии более ста лет живет тезис о систематическом понижении уровня жизни крестьян как до, так и после отмены крепостного права 1861 г. вследствие роста малоземелья и недостаточной доходности крестьянского хозяйства. В сущности, это парафраза мальтузианской концепции, объясняющей снижение уровня жизни чрезмерно быстрым ростом населения, опережающим увеличение средств существования. На рубеже XIX – XX вв. мальтузианский тезис получил поддержку большинства авторитетных исследователей того времени – И. И. Игнатович (Игнатович 1925: 129–130, 1860), А. А. Кауфмана (Кауфман 1908: 69–80), П. И. Лященко (Лященко 1908: 416), Н. М. Покровского (Покровский 1907), Н. Н. Рожкова (Рожков 1902: 68–75), А. Финн-Енотаевского (Финн-Енотаевский 1911: 470– 472, 518–522) и других (Розенберг 1904: 7–41), включая, конечно, В. И. Ленина (Ленин 1958), и стал постулатом в научной литературе и публицистике начала ХХ в., что отразила энциклопедия Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (Брокгауз и Ефрон 1895: Т. 32. С. 723-724).
http://cliodynamics....o...78&Itemid=1
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
#2

 Опубликовано 06 Апрель 2011 - 06:01
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 06:01

комментарий на полемику Миронова и Нефедова
Петр Турчин
Коннектикутский Университет, США
Полемика, которая развернулась между Б. Н. Мироновым и С. А. Нефедовым – замечательный пример того, как история, буквально на наших глазах, превращается из описательной в теоретическую и аналитическую науку. В процессе спора оба автора аппелируют к общим теориям исторического процесса и, самое главное, привлекают гигантские массивы количественных данных, подкрепляющих ту или иную точку зрения.
Дискуссия между Мироновым и Нефедовым напоминает мне острую полемику, которая велась в конце прошлого века на тему, было ли рабство в американских южных штатах экономически эффективным способом организации труда. Обе стороны в споре соглашались в резко отрицательной моральной оценке использования рабского труда. Но, согласно традиционной точке зрения, рабство было не только отвратительно с моральной точки зрения, но оно также было крайне неэффективным экономически. Группа экономистов и экономических историков, возглавляемая Робертом Фогелем, проанализировала большой массив данных, имеющихся для США, и обнаружила, что рабы производили существенно больше продукции за единицу времени, чем свободные фермеры. Этот результат вызвал бурю протеста. Результаты Фогеля и соавторов были проверены и перепроверены, но сейчас этот вывод широко признан научным сообществом. В 1993 г. Роберт Фогель был удостоен Нобелевской премии по экономике, в частности и за эту работу. Вопросы поднятые в статьях Миронова и Нефедова не менее фундаментальны, и мне хочется верить, что в этом споре тоже родится истина.
Полемика между Мироновым и Нефедовым идет по двум взаимосвязанным вопросам. (1) Наблюдался ли в позднеимперской России мальтузианский кризис? (2) Каковы были основные причины русских революций в 1905–17 гг.? Я сосредоточусь на втором вопросе, так как меня, в первую очередь, интересует способность нашего научного направления эмпирически проверять общие теории исторического процесса, в данном случае, неомальтузианство и структурно-демографическую теорию (СДТ).
Однако я должен отметить, что хотя обе теории упоминаются в статьях дискуссантов, основной упор обоими авторами был сделан на неомальтузианство, т.е. был ли революционный кризис в России вызван ухудшением благосостояния народа. Хотя Сергей Нефедов должен был выступать сторонником СДТ, которой посвящена его замечательная книга (Нефедов 2005), в данном споре он почему-то откатился на позиции неомальтузианства. Но родоначальник структурно-демографической теории, Джек Голдстоун (Goldstone 1991), с самого начала четко отмежевал свою теорию от «грубого» (по его выражению) мальтузианства. Обнищание народа — не единственный, и даже не самый важный из факторов, ведущих к революции.
Дело в том, что против сплоченных элит и сильного государства народные восстания практически не имеют шанса на успех. Но долгосрочный демографический рост ведет не только к ухудшению благосостояния народа, он также имеет серьезные последствия для определенных структур общества, таких как, социальная стратификация и государство/власть (поэтому теория и включает слово «структура» в свое название). В частности, рост населения сопровождается быстрым ростом социального неравенства. В результате, растут оба «хвоста» распределения доходов за счет середины, и в то время как увеличивается процент населения за чертой бедности, небольшая прослойка богатеет.
Возникает ситуация, которая в СДТ характеризуется как «перепроизводство элиты». Численность элит растет и за счет биологического воспроизводства элитных семейств, и за счет социальной мобильности разбогатевших простолюдинов. В какой-то момент численность элит превышает свою «экологическую нишу», что вызывает рост внутриэлитной конкуренции и конфликтов, в свою очередь ведущих к фрагментации элит. Возникает слой т.н. «контр-элит» – обедневшие дворяне, младшие сыновья, «элитные аспиранты» из разбогатевших крестьян или купцов, и т.д. Их не устраивает сложившаяся структура власти, они и устраивают революции. В определенном смысле, перепроизводство элиты аналогично перенаселению. Но существенная разница заключается в том, что недовольство элит, в отличие от недовольства народа, напрямую ведет к ослаблению и, в конечном итоге, развалу государства, революциям и гражданским войнам.
Понятно, что в двух параграфах я не могу адекватно описать богатую ткань обратных связей, постулируемых СДТ (и которые характеризуют реальные исторические общества). Более полная картина дана в специальных публикациях посвященных СДТ (см. Турчин 2007, Turchin 2006). Кроме того, в соавторстве с С.А. Нефедовым мы исследовали 8 вековых циклов в Англии, Франции, России и Риме (Turchin, Nefedov 2009). Этот эмпирический анализ показал, что перепроизводство элиты – наиболее универсальный структурно-демографический механизм. Во всех восьми исследованых случаях предкризисный период характеризовался перепроизводством элиты. В частности, в позднеимперской России мы наблюдаем следущую динамику.
В первой половине 19-го века землевладельческие элиты заметно усилили давление на крестьян (Нефедов 2005: 4.1). Выросли барщина и оброк. Кроме того, помещики разными способами экспроприировали землю крестьян. Ухудшающее благосостояние народа можно проследить по динамике среднего роста и реальной заработной платы (см. рисунок). Средний рост достиг минимума в 1860-е годы, а заработная плата на 20 лет позже. Лаг между ростом и зарплатой частично объясняется тем, что антропометричексие данные показаны по году рождения, но окончательный рост складывается в результате условий (питание и эпидемиологическая среда), испытуемых в течение первых 20 лет жизни. Ухудшающееся благосостонайие привело кт ому, что в 1847¬–9 гг. разразился демографический кризис. Неурожай, голод и эпидемии унесли около 1 миллиона жизней. Число крестьянских волнений росло экспоненциально: от 10–20 в год в начале века до 162 в 1848 г. и 423 в 1858 г. (Литвак 1967). Это сыграло немалую роль в решимости правительства провести реформы 1860-х годов.
Как показал Б.Н. Миронов в серии работ (включая обсуждаемую статью), в результате реформ положение крестьянства стало постепенно улучшаться. Однако, Великие Реформы, перераспределяя ресурсы от дворян к крестьянам и государству (Нефедов 2005), имели непредвиденные последствия.
Между 1858 и 1897 г. численность потомственных дворян в 41 губернии европейской России (исключая польские губернии) выросла более чем в 2 раза: от 234 до 478 тыс. (Корелин 1979). В то же время общая площадь земли, принадлежавшая дворянам, сократилась с 78 до 58 млн. десятин (Соловьев 1979). Средний размер поместья в черноземных губерниях только между 1870 и 1897 гг. упал с 176 до 104 десятин (Корелин 1979). Быстро рос процент безземельных и обанкротившихся дворян (Нефедов 2005).
Безземельные дворяне в массовом порядке обратились к альтернативным источинкам доходов, главным среди которых была государственная служба. Ужесточение конкуренции за места на госслужбе вызвало резкий рост спроса на образование («кризис дипломов» по терминологии Рэндалла Коллинза). Численность учащихся выросла в 4 раза (Нефедов 2005:281). Однако государство было не способно трудоустроить всех выпускников ВУЗов. Между 1857 и 1897 гг. число чиновников увеличилось только на 21% (Миронов 2000: таблица Х.1). Образовался гигантский класс «лишних» людей, который постепенно оформился в контр-элиту. Точнее, в контр-элиты, так как единственное, что объединяло этих людей были ненависть к существующему строю и горячее желание его разрушить. Механизм разрушения прекрасно описан Нефедовым (2005: глава 5).
Подводя итоги, динамика ключевых показателей, рассмотренная выше, опровергает грубое мальтузианское объяснение причин русских революций 1905–17 гг. Падение качества жизни простого народа в первой половине и середине 19-го века привело к массовым крестьянским выступлениям, но они были легко подавлены государством. Перепроизводство элиты, которое развилось к концу века оказалось гораздо более серьезной проблемой, и привело (в купе с шоком Первой мировой войны) к краху государства и гражданской войне. В отличие от неомальтузианства, СТД предсказывает именно такую последовательность событий (сначала перенаселение и, после лага, перепроизводство элиты, за ним пик нестабильности). Более того, эта динамика типична для ранее изученных вековых циклов. Например, в средневековой Франции демографический кризис наступил в первой половине 14-го века (Великий Голод 1315–22 гг., Черная Смерть 1348 г.). А пик нестабильности прешелся на 1350–1450 гг. Более того, в этот кризисный период благосостояние народа улучшалось, как показывают данные по реальной заработной плате и среднему росту (ТН). Таким образом, ничего парадоксального в том, что похожая динамика наблюдаласьперед революционным кризисом в России, нет. Тем более что Россия в это время испытывала переход от аграрного к индустриальному обществу, что, в частности, отразилось на росте урожайности зерна.
Аргументация Б. Н. Миронова в основном сводится к критие мальтузианского объяснения революции; он не предлагает четко сформулированную альтернативную теорию. В интервью журналу «Эксперт» (3 ноября 2008 г.) он привлекает элементы теории модернизации для объяснения революции. Модернизационная теория революции была предложена Хантингтоном 40 лет назад (Huntigton 1968). Как отметил еще Чарльз Тилли (1978), теория эта смутна и противоречива. Насколько мне известно, большинство исторических социологов не воспринимают ее серьезно. В моей работе, которая сейчас готовится к публикации, я показываю, что систематической корреляции между модернизацией и революцией не наблюдается. С другой стороны, прогноз СДТ о том, что должен быть сдвиг по фазе между падением народного благосостояния и волной нестабильности, подтверждается на эмпирическом материале Западной Европы и США. Другими словами, хотя СТД была разработана и проверена для аграрных государств, она продолжает давать аккуратные прогнозы и для индустриализующихся обществ.
В заключение, сравнение прогнозов неомальтузианской и структурно-демографической теорий с динамикой ключевых показателей, наблюдаемых в позднеимперский период истории России, показывает, что последняя (СТД) эмпирически более адекватна. Это не значит, что СТД объясняет все аспекты русского революционного кризиса. Я уже упоминал такие важные факторы, как промышленная революция и эффект Первой мировой войны. Специфические формы, в которые вылилось перепроизводство элиты, были чисто русские (хотя те, кто общались с латиноамериканской интеллигенцией могут оспорить уникальность русского феномена). Но это не главное. Для того, чтобы история стала настоящей наукой, она должна использовать научный метод, т.е. отвергать одни теории в пользу других в результате сравнения теоретических прогнозов с данными. Мне кажется, что в результате дискуссии между Мироновым и Нефедовым, мы сделали шаг в этом направлении.

Динамика среднего роста (левая шкала, см) и индекса реальной зарплаты (правая шкала) в позднеимперской России. Источник данных: (1) Рост (Mironov 1999), (2) зарплата (Миронов 2003).
Библиография
Корелин А. П. Дворянство в пореформенной России. 1861-1904 гг. М., 1979.
Литвак Б. Г. Опыт статистического изучения крестьянского движения в России XIX в. М., 1967.
Миронов, Борис. Вперед к крепостничеству! Цены и зарплата в Петербурге за три века. Родина 2003(8): 15-19.
Нефедов С. А. Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России. Екатеринбург, 2005.
Турчин П.В. 2007. Историческая динамика: На пути к теоретической истории. Москва, УРСС.
Goldstone, J. A. 1991. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. University of California Press, Berkeley, CA.
Huntington, S. P. 1968. Political order in changing societies. Yale University Press, New Haven.
Mironov, B. N. 1999. New approaches to old problems: The well-being of the population of Russia from 1821 to 1910 as measured by physical stature. Slavic Review 58:1-26.
Mironov, B. N. 2000. A social history of Imperial Russia, 1700-1917. Westview Press, Boulder, CO.
Tilly, C. 1978. From Mobilization to Revolution. Addison-Wesley, Reading, MA.
Turchin, P. 2006. War and Peace and War: The Life Cycles of Imperial Nations. Pi Press, NY.
Turchin, P., and S. Nefedov. 2009. Secular cycles. Princeton University Press, Princeton, NJ.
http://cliodynamics....o...4&Itemid=76
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
#3

 Опубликовано 06 Апрель 2011 - 06:56
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 06:56

Если приемем, что Росия начала поздно своя индустриализация - примерно, с середине 19 века, графики почти одинаковие с положение в Англии в конца 18 в. и начале 19 в. - тогда индустриализация общества и демографический растеж привели до спад жизнений стандарт. В общем, улучшение наблюдалось в поздное управление Виктории.
А Русия не могла пройти по етот путь - решили, что с революция улучшение станет бьистрее, чем с еволюции...
По моему, парадокс такой - когда зарплати стали большие, и явно стандарт бил уже лучший, начала война в 1914 г. и все пошло назад. Разве только война оказалась большое препятствия перед русские?
Сообщение изменено: Bratilov, 06 Апрель 2011 - 06:59.
#4

 Опубликовано 06 Апрель 2011 - 07:25
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 07:25

Собственно Бродель, наряду с американцем Р.Фогелем (автор Time on the Cross) и является основоположником клиометрии. И Турчин, и Коротаев, и Нефедов с Мироновым их так сказать идейные наследники.
Война обнажила противоречия, и факторы долгой истории (демографические, экономические и социальные) вкупе с конкретными историческими событиями породили социальный взрыв после событий февраля 1917 года.
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
#5

 Опубликовано 20 Июнь 2011 - 13:22
Опубликовано 20 Июнь 2011 - 13:22

1. Голодный экспорт зерна – главная причина кризиса и революции?!
Концепция русской революции 1917 г., которую С. А. Нефедов отстаивает в своих работах, по внешнему виду неомальтузианская, а по сути – марксистско-ленинская. Согласно мальтузианской концепции, существует две главные причины периодического обострения нужды и бедности: высокая рождаемость (по причине стихийности, или нерегулируемости) и закон падающей производительности земли (в современной трактовке закон падающей производительности труда, примененного к участку земли с фиксированной площадью, или, более широко, закон убывающей производительности любого переменного ресурса при прочих фиксированных). Под влиянием этих причин возникает экзистенциальный кризис, который приводит к социальной напряженности в обществе и в конечном итоге к революции. По мнению С. А. Нефедова, главная причина русских революций начала ХХ в. тоже экзистенциальный кризис: трудящиеся буквально беднели, голодали и вымирали. Однако причины были иные – антикрестьянская политика правительства («половинчатая реформа 1861 года, освободившая помещичьих крестьян с крайне недостаточными наделами и сохранившая феодальное землевладение помещиков») и эксплуатации крестьянства со стороны землевладельцев. Хлеба производилось в стране достаточно для удовлетворения потребностей всего населения, но помещики в погоне за прибылью и при поддержке властей продавали свой хлеб за границу, так как это было якобы более выгодно, обрекая крестьянство на нищету и лишения. Голодный экспорт – вот главная причина недопотребления и экзистенциального кризиса. Аграрное перенаселение, демографический взрыв, экологический кризис, которые автор также упоминает, не имели бы мальтузианского эффекта, если бы не вывоз. Хлебный экспорт, который исследователями считается клином, вбитым в полунатуральное хозяйств деревни, источником прогресса в сельском хозяйстве, был, по мнению С. А. Нефедова, «остатком феодализма (sic! – Б.М.), он был основан на феодальном по происхождению крупном землевладении, и на той власти, которую еще сохраняло русское дворянство (курсив мой. – Б.М.)». Как в типичной марксистской работе советского времени, в качестве аргументов в пользу экзистенциального кризиса приводятся крестьянские волнения и недоимки, обезземеливание, социальное расслоение, пережитки феодализма, эксплуатация крестьянства, голодовки, болезни, нищета, стагнация сельского хозяйства вследствие сокращения природных ресурсов для сельского хозяйства и истощении почвы. Автор оценивает состояние российской империи в пореформенное время как системный, т.е. глобальный, всеобщий кризис. Словом, классовый марксистский подход, причем в ортодоксальной трактовке, здесь налицо. Хотя заключение статьи вполне мальтузианское: «…Колоссальное потрясение общества, которое опрокинуло все, что казалось наиболее прочным,... являются, быть может, гораздо более следствием роста населения, нежели деятельности Ленина или заблуждений Николая...».
На мой взгляд, С. А. Нефедов неудачно пытается соединить мальтузианство с марксизмом. Во-первых, общепризнанно, что сфера приложения мальтузианской концепции ограничена традиционными доиндустриальными обществами, где резервы совершенствования технологии и социальной системы ограничены и к тому же нет возможности увеличивать размеры пахотной и пастбищной земли, вследствие чего емкость экологической ниши остается величиной близкой к постоянной. Россия второй половины ХIX-начала XX в. была обществом, вступившим в индустриальную эпоху, к тому же обладала огромным массивом свободных земель, которые продолжали осваиваться, и имела большой опыт колонизации. Во-вторых, в симбиозе марксизма и мальтузианства есть принципиальное противоречие. Если все беды России происходили от фатально высокого естественного прироста населения, то пережитки крепостничества, политика правительства и другие социально-экономические факторы не должны иметь того большого значения, которое им придается. Если дело в политике власти, которая не смогла обеспечить адекватное развитие сельского хозяйства, то высокие темпы естественного прироста населения не могли стать решающим фактором революции, на чем настаивает С. А. Нефедов. Не случайно мальтузианцы и марксисты всегда были непримиримыми критиками друг друга...
http://cliodynamics....o...2&Itemid=76
- "Спасибо" сказали: альбинос в черном
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
#6

 Опубликовано 21 Июнь 2011 - 07:14
Опубликовано 21 Июнь 2011 - 07:14

Б. Н. Миронов. Развитие без мальтузианского кризиса: гиперцикл российской модернизации в XVIII – начале XX в.
В ходе дискуссии на две мои статьи поступило шесть комментариев. Отвечу на высказанные замечания и соображения...
http://bmironov.spb....m...=1&lc=art20
С. А. Нефедов: РОССИЯ В ПЛЕНУ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
О чем спорим?
Подводя итоги дискуссии, мне, прежде всего, хотелось бы поблагодарить моего уважаемого оппонента, Бориса Николаевича Миронова за такую вот констатацию: «На рубеже XIX – XX вв. мальтузианский тезис получил поддержку большинства авторитетных исследователей того времени – И. И. Игнатович (Игнатович 1925: 129–130, 1860), А. А. Кауфмана (Кауфман 1908: 69–80), П. И. Лященко (Лященко 1908: 416), Н. М. Покровского (Покровский 1907), Н. Н. Рожкова (Рожков 1902: 68–75), А. Финн-Енотаевского (Финн-Енотаевский 1911: 470– 472, 518–522) и других (Розенберг 1904: 7–41)…»(Миронов 2008)
Конечно, приятно чувствовать за собой поддержку «большинства авторитетных исследователей» - и вдвойне приятно, когда это признается оппонентом в первом же абзаце его статьи.
Я позволю себе отложить на время заявленный в заголовке вопрос о виртуальной реальности и напомнить участникам дискуссии, что предметом нашего спора является оценка уровня жизни населения России в конце XIX – начале XXI века. Традиционно считается, что этот уровень был низким – и именно это обстоятельство было причиной череды русских революций 1905-1917 гг.
Суждения историков об уровне потребления опираются, в том числе, и на многочисленные индивидуальные свидетельства, но главную роль играет массовый статистический материал – урожайные данные Центрального Статистического Комитета Министерства Внутренних Дел Российской империи. Точность этих данных в отдельных работах подвергалась сомнению (Фортунатов 1893:6; Иванцов 1915: 26), однако более детальные исследования показали, что они «устанавливали уровень урожая очень близко к действительности» (Виноградова 1926: 90; Wheatcroft 1974).
Данные ЦСК без каких-либо поправок и оговорок использовались в сотнях работ различных исследователей - и продолжают использоваться по сей день. Вот, к примеру, в учебнике под грифом МГУ и под ред. акад. Л. В. Милова подсчитывается уровень потребления крестьян (на основе данных ЦСК) - и делается вывод, что «достигнутый уровень, по существу, мог обеспечить земледельцу только минимум питания» (Милов 2006: 18-19).
Мои оппоненты, Б. Н. Миронов и М. А. Давыдов, считают данные ЦСК заниженными. Более того, М. А. Давыдов пишет, что эти данные «весьма часто попросту несостоятельны» (Давыдов 2009).
Главным аргументом М. А. Давыдова против статистики ЦСК являются сведения о вывозе хлебов из некоторых губерний, который в отдельные неурожайные годы оказывался больше, чем собранный в губернии урожай. Например, в Оренбургской губернии в 1910 году при урожае в 53,9 млн. пуд пшеницы было вывезено 11,7 млн. пуд, а в 1911 году при урожае в 5,0 млн. пудов было вывезено 7,4 млн. пудов (Давыдов 2003: 67). Это «недоразумение», однако, легко объяснить тем, что до сентября 1911 года (а возможно, и позже) вывозился хлеб предыдущего урожая, который был исключительно обильным. Таким образом, аргументы М. А. Давыдоване дают достаточного основания, чтобы оказаться от использования статистики ЦСК.
Принципиально важным для оценки объективности утверждений Б. Н. Миронова и М. А. Давыдова является то обстоятельство, что эти исследователи зачастую сами используют «попросту несостоятельные данные». В диссертации М. А. Давыдова более чем на ста страницах приводятся данные о производстве и потреблении зерновых по губерниям; при этом цифры приводятся с точностью до 0,001% и не делается даже намека на необходимость какой-то корректировки, эти данные обсуждаются, анализируются, а затем, как положено в диссертации, делаются широкие обобщающие выводы (Давыдов 2003а: 186-299). И это при том, что несколькими страницами ранее М. А. Давыдов обвиняет других исследователей: «Налицо обычная для отечественной историографии практика: признавая неточность урожайной статистики, делать с ее помощью широкие обобщения» (Давыдов 2003а: 29).
Но как бы то ни было, данные М. А. Давыдова о потреблении отличаются от моих результатов (Нефедов 2008: табл. 4) только тем, что я дополнительно учел расходы на посев и винокурение (а также потребление картофеля). Это объясняется тем, что мы использовали один и тот же источник (Производство… 1916), в свою очередь, использующий все те же «попросту несостоятельные данные». Более того, М. А. Давыдов – так же как и автор - подчеркивает, что «причину упадка российской деревни на рубеже веков нужно видеть в аграрном перенаселении» (выделено М. А. Давыдовым – С. Н.) (Давыдов 2003: 21). Так что вроде бы нам с М. А. Давыдовым и спорить не о чем (если он признает «состоятельными» те данные, за обработку которых получил степень).
Однако Б. Н. Миронов отвергает используемые мною и М. А. Давыдовым погубернские данные так как, по его мнению, «оценка посевов в регионах и губерниях существенно отличалась от действительных, следовательно столь же неточны оценки и сбора хлебов» (Миронов 2008с). Но с другой стороны, Борис Николаевич тоже использовал «попросту несостоятельные данные» для расчета потребления для 50 губерний в 1909-1913 гг. (Миронов 2002; Миронов 2008: 92) – и получает душевое потребление зерна и картофеля на уровне 356 кг = 21,9 пуда. Я дополнительно учел губернии Северного Кавказа и получил 22,7 пуда на душу (Нефедов 2008). О чем спорить, ведь у меня получается даже больше, чем у Бориса Николаевича?
http://cliodynamics....o...3&Itemid=76
Как по мне, Миронов гораздо убедительнее.
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
#7

 Опубликовано 23 Август 2011 - 13:27
Опубликовано 23 Август 2011 - 13:27

Об уровне потребления в России в конце XIX-начале ХХ в.
Историк Михаил Давыдов о мнимых и реальных предпосылках русской революции
http://www.polit.ru/...10/consumlevel/
- "Спасибо" сказали: альбинос в черном
Might is Right
"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"
Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова
У нас Белый царь над царями царь
Голубиная (Глубинная) книга
#8

 Опубликовано 19 Май 2017 - 11:49
Опубликовано 19 Май 2017 - 11:49

Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России.
http://library6.com/books/645296.pdf
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#9

 Опубликовано 27 Май 2017 - 14:15
Опубликовано 27 Май 2017 - 14:15

Б.Н. Миронов. Страсти по революции. М., 2013. С. 38-39
В пореформенное время в налоговой политике произошло три важных изменения. Во-первых, к платежу прямых налогов правительство привлекло все население, включая многочисленные группы населения, прежде от них освобожденные: дворяне и чиновники, казаки и национальные меньшинства. В то время как в дореформенное время прямые налоги платили крестьяне и мещане (подушную подать), а купцы — гильдейские пошлины.
Во-вторых, с начала 1860-х гг. российская налоговая система стала переходить с подушного принципа на подоходный, в результате чего тяжесть налогового бремени перемещалась с бедных на зажиточные слои населения. По расчету, сделанному в Министерстве финансов в 1859 г., «высшие классы», или неподатные сословия, обеспечивали поступление в казну 17% доходов (главным образом за счет косвенных налогов), а «низшие классы», или податные сословия — 76%; 7% государственных доходов приносили монетная, горная и другие регалии и государственное имущество. В 1887 г., по расчету известного финансиста Н.П. Яснопольского, эти источники доходов стали соотноситься как 38:55:7 (вместо 17:76:7). Для сравнения в Великобритании это соотношение составляло 52:40:8, во Франции — 49:30:21, в Пруссии — 30:29:41). Из общей суммы собственно налогов (без регалий) на высшие классы в 1859 г. приходилось 18%, на низшие — 82%, а в 1887 г. соответственно — 41% и 59%. Другими словами, тяжесть налогов для высших классов увеличилась почти в 2,3 раза. Эта тенденция в дальнейшем усиливалась.
В-третьих, в налоговой системе значение косвенного обложения повышалось, особенно при С.Ю. Витте. Но благодаря этому, справедливо считает М.К. Шацилло, податное бремя еще более сместилось с крестьянства на относительно зажиточные городские слои, так как косвенные налоги ложились главным образом на горожанина. Спички, нефть, табак, сахар и даже водка потреблялись в большей степени в городе. Питейный доход с сельского населения в 1901 г. дал в государственный бюджет 143,9 млн. руб.{ из 476,3 млн. руб. общего питейного дохода этого года, т.е. 30,2%; в 1912 г. соответственно — 256,3 млн. руб. из 953 млн. руб., т.е. 26,9%. В целом в 1901–1912 гг., поданным А.Л. Вайнштейна и А.М. Анфимова, на долю крестьянства приходилось лишь 32% всех налогов и платежей, а его доля в населении превышала 83%. Получается, норма обложения у сельского населения к началу XX в. резко понизилась и стала в 3,6 раза меньше, чем у городского населения.
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#10

 Опубликовано 28 Май 2017 - 14:21
Опубликовано 28 Май 2017 - 14:21

Б.Н. Миронов. Страсти по революции.
в России после отмены крепостного права произошло настоящее экономическое чудо. В 1861–1913 гг. темпы экономического развития были сопоставимы с европейскими, хотя отставали от американских. Национальный доход за 52 года увеличился в 3,84 раза, а на душу населения — в 1,63 раза. И это несмотря на огромный естественный прирост населения, о котором в настоящее время даже мечтать не приходится. Население империи (без Финляндии) увеличилось за эти годы с 73,6 до 175,1 млн. — в среднем почти по 2 млн. ежегодно. Душевой прирост объема производства составлял 85 процента от среднеевропейского. С 1880-х гг. темпы экономического роста стали выше не только среднеевропейских, но и «среднезападных»: валовой национальный доход увеличивался на 3,3% ежегодно — это даже на 0,1 больше, чем в СССР в 1929–1941 гг., и только на 0,2% меньше, чем в США — стране с самыми высокими темпами развития в мире. Развивались все отрасли народного хозяйства, хотя и в разной степени. Наибольшие успехи наблюдались в промышленности. Однако и сельское хозяйство, несмотря на институциональные трудности, прогрессировало среднеевропейскими темпами.
Но главное чудо состояло в том, что при высоких темпах роста экономики и населения происходило существенное повышение благосостояния, другими словами, индустриализация сопровождалась повышением уровня жизни крестьянства (86 процентов в 1897 г.) и, значит, происходила не за его счет, как общепринято думать.
На чем основывается такое заключение?
О росте благосостояния свидетельствуют увеличение с 0,171 до 0,308 — в 1,8 раза индекса развития человеческого потенциала, который учитывает (1) продолжительность жизни; (2) уровень образования (грамотность и процент учащихся среди детей школьного возраста); (3) валовой внутренний продукт (ВВП) надушу населения.
О повышении уровня жизни населения, в первую очередь крестьянства, свидетельствуют также:
(1) Снижение налогового бремени и рост доходов крестьян. На покрытие всех налогов и платежей в 1850-е гг. уходило около 39% всех доходов, а в 1912 г. — 18%. Благодаря этому остаток чистого дохода, за вычетом налогов и платежей, на душу сельского населения более чем удвоился.
(2) Рост с 1863 по 1906–1910 гг. расходов на алкоголь в 2,6 раза на душу населения.
(3) Повышение с 1885 по 1913 г. производства потребительских товаров и оборота внутренней торговли на душу населения в постоянных ценах — в 1,7 раза (за более раннее время сведений не имеется).
(4) Увеличение между 1886–1890 и 1911–1913 гг. количества зерна, оставляемого крестьянами для собственного потребления, на 34%.
(5) Увеличение с 1850-х по 1911–1913 гг. реальной поденной платы сельскохозяйственного рабочего в 3,8 раза, промышленных рабочих — в 1,4 раза.
(6) Уменьшение числа рабочих дней в году у крестьян со 135 в 1850-х до 107 в 1902 г.{329}, у пролетариев — числа рабочих часов с 2952 в 1850-х гг. до 2570 в 1913 г.
(7) Массовая скупка земли крестьянами. За 1862–1910 гг. крестьяне купили 24,5 млн. десятин земли, заплатив за нее огромные деньги — 971 млн. руб., — это в 28 раз больше, чем все недоимки, накопившиеся за ними к 1910 г. (на 35 млн. руб.). Купчая земля относительно надельной составляла 6,8% в 1877 г., 14,5% — в 1887 и 21,6% — в 1910 г., а относительно всей частновладельческой земли — соответственно 6,2, 13,1 и 25%. Причем почти половина (46%) земли была куплена крестьянскими обществами и товариществами. Нищие землю, как известно, не покупают.
Вывод о повышении уровня жизни населения основывается также на антропометрических сведениях (росте и весе). Существенное и систематическое увеличение конечной (т. е. при достижении полной физической зрелости) длины тела мужчин за 1796–1915 гг. на 7,7 см (с 161,3 до 169,0) и веса за 1811–1915 гг. на 7,4 кг (с 59,1 до 66,5) дает уверенность в том, что благосостояние крестьянства действительно повысилось. Индекс массы тела, показывающий уровень питания, на протяжении 1811–1915 гг. всегда соответствовал норме, а к концу изучаемого периода даже немного увеличился — с 21,8 до 23,3. Все это могло произойти только при условии повышения благосостояния. Любого биолога, врача, агронома, зоотехника, демографа, антрополога или экономиста эти данные убеждают. В самом деле, можно ли верить человеку, жалующемуся на нужду, бедность и болезни и утверждающему, что недоедает, недосыпает, чрезмерно много работает, живет в тяжелых экологических условиях, если он имеет хороший рост, нормальный или избыточный вес, хороший цвет лица и ясные глаза?!
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#11

 Опубликовано 28 Май 2017 - 14:55
Опубликовано 28 Май 2017 - 14:55

Нищие землю, как известно, не покупают.
А что покупают? ![]() Фабрики и пароходы?
Фабрики и пароходы? ![]()
Кстати, в абсолютных цифрах все эти проценты прироста сопоставимые с Западной Европой и США в ключевым позициям оказываются несопоставимы. При разнице в производстве по ключевым промышленным показателям (сталь, уголь, чугун, машины и т.д.) в разы или десятки раз все эти условно одинаковые n-процентов прироста это совсем разные значения.
I stal sparachnieje ŭščent,
A my tut byli, i my tut budziem,
Pakul isnuje hety śviet.
#12

 Опубликовано 28 Май 2017 - 17:21
Опубликовано 28 Май 2017 - 17:21

(1) индустриализация сопровождалась повышением уровня жизни крестьянства. <...> Благодаря этому остаток чистого дохода, за вычетом налогов и платежей, на душу сельского населения более чем удвоился.
(4) Увеличение между 1886–1890 и 1911–1913 гг. количества зерна, оставляемого крестьянами для собственного потребления, на 34%.
(7) Массовая скупка земли крестьянами.
Как при всём этом благолепии один неурожай вызвал в России величайший голод 1891-1892 годов? Может быть скупка земли общинами было защитой вот от таких вот ситуаций? Больше земли - больше запасов, меньшая зависимость от случайных факторов. Обычно покупке земли предшествовали годы лишений, непосильного труда и тотальной экономии на всём. Не думаю, что в России было как-то иначе чем у нас.
Никто не спорит, что постепенно, после первых после отмены крепостного права особо жестоких десятилетий, уровень жизни крестьян начал повышаться и повышался, но оборачивать это вот в такой вот пафосный памфлет с эпитетами вроде "настоящее экономическое чудо" и "хороший цвет лица и ясные глаза" смахивает на пропагандистскую агитку. Непонятно только из отрывка, агитку со вкусом и хрустом французской булки или просто всеобщего патриотизма ради.
I stal sparachnieje ŭščent,
A my tut byli, i my tut budziem,
Pakul isnuje hety śviet.
#13

 Опубликовано 28 Май 2017 - 17:31
Опубликовано 28 Май 2017 - 17:31

Землю крестьяне после отмены крепостного права выкупали у помещиков. Но деньги естественно выплачивали не сразу, а десятелетиями.
По сути, по хорошему если посмотреть, то ничего кроме их правового статуса и не изменилось. Помещик получал вместо оброка деньги за землю, а крестьяне работая на той же земле что и раньше платили за неё. Хорошую землю помещики не хотели продавать, в итоге проблема малоземелья решалась только частично.
#14

 Опубликовано 29 Май 2017 - 09:43
Опубликовано 29 Май 2017 - 09:43

Как при всём этом благолепии один неурожай вызвал в России величайший голод 1891-1892 годов?
"неурожаи 1891-1892 гг., как показал А. С. Нифонтов, явились печальным эпизодом в пореформенном развитии сельского хозяйства, а не проявлением его кризиса. В 1860-1890-е гг. земледелие успешно развивалось за счет увеличения посевов, но главным образом урожайности, причем самые высокие темпы приходились на 1890-е гг.: чистые сборы хлебов и картофеля на душу населения в 1860-е гг. выросли на 2% сравнительно с предшествующим десятилетием, в 1870-е гг. — на 12%, в 1880-е гг. — на 4%, в 1890-е гг. — на 17%. Спад хлебных сборов в 1891-1892 гг. был “признаком уже примитивного капиталистического земледелия — хищнического использования быстро истощавшихся черноземных почв)”, иначе говоря, болезнью развития, а не упадка".
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#15

 Опубликовано 29 Май 2017 - 09:49
Опубликовано 29 Май 2017 - 09:49

Землю крестьяне после отмены крепостного права выкупали у помещиков. Но деньги естественно выплачивали не сразу, а десятелетиями.
"Выкупная операция: проиграли ли крестьяне? Рецензент находится во власти распространенного стереотипа: государство и помещики в ходе отмены крепостного права ограбили крестьян. Именно потому и не согласен с моими расчетами, показывающими, что крестьяне в конечном итоге, т. е. в момент отмены выкупных платежей, в 1907 г., выиграли от выкупной операции.
В тексте монографии подробно обоснован мой вывод. Надельная земля выкупалась по цене, установленной Положениями о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости” — 26,87 руб. за десятину. Однако в 1907-1910 гг., сразу после отмены выкупных платежей, средняя рыночная цена десятины земли равнялась 93,4 руб. — в 3,48 раза выше; десятина надельной земли стоила 64 руб. — в 2,4 раза выше. Однако реальный выигрыш или проигрыш крестьян от выкупной операции зависел от инфляции. С 1854-1858 гг. по 1903-1905 гг. номинальные цены на землю выросли в 7,33 раза, а общий индекс цен — в 1,64 раза. Следовательно, с поправкой на инфляцию (64%) реальные цены на землю выросли в 4,5 раза (7,33: 1,64) и действительный выигрыш от выкупной операции к 1906 г. был реальным, а не виртуальным.
Даже если учесть, что, кроме выкупных платежей (867 млн. руб.), крестьяне заплатили еще 703 млн. руб. процентов, вследствие чего десятина надельной земли обошлась им в 48,5 руб. за десятину, они в конечном итоге все равно выиграли. 48,5 руб. — это в 1,9 раза ниже средней цены десятины земли (93,4: 48,5) и в 1,3 раза ниже цены крестьянской земли в 1907-1910 гг. (64: 48,5). Не забудем также: в течение 45 лет, 1861-1906 гг., надельная земля кормила, поила и одевала крестьян, и в начале XX в. превратилась, по словам известного либерального экономиста Л. В. Ходского, в огромный капитал в буржуазном смысле, способный при надлежащей охране его обеспечить благополучие земледельцев"
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#16

 Опубликовано 29 Май 2017 - 09:58
Опубликовано 29 Май 2017 - 09:58

Но выгода эта в экономическом смысле не сразу была видна...Это надо учитывать тоже.
Ну и батраков тоже стало много, которые какие то права имели, а экономически не так успешны были.
#17

 Опубликовано 29 Май 2017 - 09:59
Опубликовано 29 Май 2017 - 09:59

Никто не спорит, что постепенно, после первых после отмены крепостного права особо жестоких десятилетий, уровень жизни крестьян начал повышаться и повышался, но оборачивать это вот в такой вот пафосный памфлет с эпитетами вроде "настоящее экономическое чудо" и "хороший цвет лица и ясные глаза" смахивает на пропагандистскую агитку. Непонятно только из отрывка, агитку со вкусом и хрустом французской булки или просто всеобщего патриотизма ради.
Когда на одной чаше весов тонны мрачного интеллигентского нытья о беспросветности существования в царской России, не грех, думаю, бросить хоть какие-то эмоции на другую чашу.
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#18

 Опубликовано 29 Май 2017 - 10:02
Опубликовано 29 Май 2017 - 10:02

Я согласен что в целом крестьяне конечно выиграли и от отмены КП и от выкупа земли. Во первых у них какие то права появились, и я видел полно документов где они всевозможные прошения коллективно подают. Также как помещики жаловались на низкие цены отдельных земель по выкупу.
Но выгода эта в экономическом смысле не сразу была видна...Это надо учитывать тоже.
Ну и батраков тоже стало много, которые какие то права имели, а экономически не так успешны были.
Конечные выводы автора примерно такие же. Ситуация оставалась сложной, но была заметна позитивная динамика.
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
#19

 Опубликовано 30 Май 2017 - 14:04
Опубликовано 30 Май 2017 - 14:04

оборачивать это вот в такой вот пафосный памфлет с эпитетами вроде "настоящее экономическое чудо" и "хороший цвет лица и ясные глаза" смахивает на пропагандистскую агитку. Непонятно только из отрывка, агитку со вкусом и хрустом французской булки или просто всеобщего патриотизма ради.
Миронова, напротив, обвиняют в отсутствии патриотизма, и даже клеймят как империалистического наймита:
"До 70-х годов прошлого века западные историки видели причину революции в ухудшении положения народных масс, и прежде всего, крестьянства. Но в 1967 году один из апостолов холодной войны Джордж Кеннан (по образованию историк-русист) призвал к ревизии устоявшихся взглядов, он призвал западных историков показать достижения царского самодержавия, успехи российской экономики и случайный характер революции. В 1974 году был основан так называемый «Институт Кеннана» (Kennan Institute for Advanced Russian Studies), который организовал работы в соответствующем направлении. Гранты «Института Кеннана» получали многие историки, старавшиеся в своих работах показать, что уровень потребления народных масс увеличивался. В 1992 году грант «Института Кеннана» получил и Б. Н. Миронов, который, в свою очередь, стал продвигать эти идеи"
Я не могу оценивать выводы Миронова, касающиеся вопросов, требующих специальных знаний. Но его методологические установки мне понятны и возражений не вызывают. Опровергая демографическую концепцию С. Нефёдова, он справедливо отмечает:
"Принципиально важно: природа, люди и технология на практике (в отличие от постулируемой модели) могут и в действительности по-разному соединяются и взаимодействуют, и потому производят существенно различное количество продуктов при той же самой величине земли, труда и капитала. Производительность труда зависит в существенной степени от «правил игры» в обществе — того, что называется в институциональной теории институтами".
Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.
Ответить в эту тему

Посетителей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться


 Наверх
Наверх Ответить
Ответить Цитировать
Цитировать




