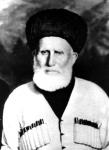Однако интерес представляют и некоторые сделанные попутно наблюдения автора относительно причин начала войны. Мысли В.В. Лапина по поводу целей Кавказской войны я и позволю себе здесь представить.
громадные силы, Россия двигалась вперед в этом регионе? Прежде всего,
следует сказать, что Россия не имела колонизационных интересов на Кавказе.
При наличии огромных неосвоенных территорий в Южной Сибири, в Поволжье, в
Новороссии захват еще какой-то территории, населенной еще к тому же
воинственными племенами, не мог быть оправдан с экономической точки зрения. Всего с 1713 по 1804 год пришлым российским землевладельцем отвели 623 тысячи десятин - площадь, для региона совершенно ничтожную. Кроме того, все эти угодья находились в ставропольских степях, достаточно удаленных от мест, где шли бои с горцами. В Закавказье, Дагестане, Чечне, Кабарде и Осетии русского землевладения не было. Даже через много лет после того, как на Кавказе установилось спокойствие, крестьяне предпочитали перебираться в Сибирь, нежели на Кавказ. Переселенческое движение на Кавказ было исключительно организованным,
осуществлялось с видами правительства. При этом едва ли не главной задачей
являлось внедрение здесь русского или христианского элемента как будущей
опоры власти. Кавказ рассматривался как место ссылки сектантов и разного рода
асоциальных элементов: бродяг, отставных и так далее. Это место называли
«теплой Сибирью». Таким образом, захват земли не был целью Кавказской войны. Вил дагестанских скал, чеченских и адыгейских лесных дебрей, азербайджанских знойных степей и гурийских болот никак не соответствовал представлениям русских крестьян о "богатой землице", ради завоевания которой стоило умирать. Даже в начале двадцатого века земельный участок в районе Сочи являлся сомнительным богатством, принимая во внимание огромную величину расходов на его обустройство и транспортные проблемы.
Не отличались особой привлекательностью и природные ресурсы этого
края. Уже в первой четверти XIX столетия заколебались, а спустя еще четверть века развеялись представления о щедрости кавказских недр. Соответствующими действительности оказались только сведения о запасах нефти, но до 1880-х гг. экономическое значение этого важнейшего ныне энергетического сырья было ничтожным. В 18-первой половине 19 вв. никто и не подумал бы воевать ради захвата нефтяного бассейна. Марганец и сера также мало кого интересовали в доиндустриальную эпоху. В первой половине XIX в. местные горные заводы приносили казне одни убытки. Правда, в первой четверти XVIII века Кавказ интересовал
Россию как путь в Индию, как важнейший пункт на пути восточной торговли, как
регион, способный поставлять сырье, многие виды которого отсутствовали в
европейской части России: шелк, хлопок, натуральные красители,
высококачественная шерсть, древесина ценных пород, мрамор, цветные и
драгоценные металлы. Но уже в середине XVIII века правительство поняло, что
представление об азиатских богатствах обманчиво, что выгоднее покупать
колониальные товары у британских и французских купцов в Петербурге и Одессе,
чем организовывать их производство на еще не завоеванной окраине. Даже
богатые на Кавказе районы южного Прикаспия не оправдали надежд русского
правительства. Все доходы с завоеванных в 1722-23 годах областей не
покрывали расходов даже на содержание там войск, ни копейки не
компенсировали громадных расходов на персидский поход Петра Великого, на
строительство каспийских флотилий.
Ограниченность местных ресурсов, необходимость сохранения источников доходов местной родовой элиты, опасения вызвать массовое недовольство населения податями настолько сужали доходную часть местного бюджета, что какого-то "выкачивания" денег с помощью "колониальной эксплуатации" не происходило. Только в 1840-е гг. в Закавказье местные доходы покрыли расходы на гражданскую администрацию, тогда как бремя содержания войск даже в мирное время на этой окраине империи возлагалось на остальные ее части. Во время войн с Турцией затраты на армию в этом регионе возрастали настолько, что о какой-либо компенсации за счет местных ресурсов не могло быть и речи. Даже в 1890 г., когда бакинская нефть стала претендовать на статус черного золота, дефицит государственных расходов по региону составил более 24 млн. рублей
Петр Великий мечтал о перенесении хотя бы части грузопотока Европа-Азия на Каспийско-Волжский путь. Строительство водных путей, соединявших бассейн Волги с Невой, должно было превратить Балтийские гавани в ворота для товаров, следующих из Северной
Европы в Персию и Индию, а доходы от транзитной торговли – озолотить
империю, развить коммерцию и промышленность. Однако к началу XIX века
эйфория по поводу чудесного экономического снадобья уже улетучилась.
Правительство довольно трезво оценивало перспективы создания трассы Баку-
Петербург, и прорубание окна в Азию не могло стать лозунгом завоевания
Кавказа. Русский солдат на Кавказе никогда не сражался за чьи-то экономические интересы (ни частные, ни государственные). Нельзя назвать ни одного крупного состояния, источником которого стал Кавказ. В воспоминаниях ветеранов Кавказской войны не найдено ни одного упоминания о том, что они, завоевав потом и кровью огромную территорию между Черным и Каспийским морем, обогатили державу. Более того, расходы казны в этом регионе за весь имперский период
превышали доходы от земель, присоединенных такими усилиями.
Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII-XIX веков. - СПб.: Издательство "Европейский дом", 2008. С. 37-41
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться




 Наверх
Наверх Ответить
Ответить Цитировать
Цитировать