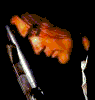О ПРАРОДИНЕ УГРО-ФИННОВ.
Вопрос о том кто были и когда появились первые прафинно-угры на территории Северо-Запада Русской Равнины, в Волго-Окском бассейне, в Прибалтике и Фенноскандии на сегодняшний день остается открытым, а противоречия не устранены.
Совершенно очевидно, что вопросы этногенеза невозможно решить при помощи только одной какой-то дисциплины. Нужны данные
археологии, антропологии, палеолингвистики, генетики и т.д. Теория может претендовать на объективность только в том случае,
если данные дисциплин не противоречат друг другу.
Существующие в настоящее время гипотезы о происхождении финно-угрорязычных народов в упрощенном виде можно разделить
на "восточную" и "западную".
Согласно восточной, иначе "уральской" гипотезе прафинно-угорской прародины, она, по мнению различных исследователей находилась где-то в регионе от Алтая до Среднего Поволжья и Волго-Камья, где изначально и формировались эти языки.
Сторонники данной теории среди лингвистов основывали свои выводы на эволюционной модели древа уральских языков,
построенной на основании их сравнительного изучения, определении относительной датировки различных элементов, на методе
"лингвистической палеонтологии" и т.п..В рамках всех вариантов данной гипотезы западные финно-угорские народы сложились в результате миграционных процессов с востока с территории прафинно-угорской прародины. Гипотеза предполагает смену языка в западных регионах.
Археологических аспектов данной гипотезы я коснусь ниже.
Главная проблема восточной гипотезы происхождения финно-угорских народов это смена языка в области расселения западных финских народов. Этому, однако, должно соответствовать надежное археологическое обоснование.
Теперь несколько слов о западной гипотезе. Сюда же следует отнести и гипотезы автохтонности западных финно-угорских народов.
В основе многих вариантов этой гипотезы лежит т.н. "контактная" схема изменения автохтонных образований во времени под влиянием различных факторов.
Исследователи, не принимавшие восточную гипотезу, указывали на лингвистические несоответствия, противоречия в т.н. древе уральских языков, ставили вопрос о точности методов "лингвистической палеонтологии", указывали на отсутствие надежного археологического подтверждения миграционных процессов прафинно-угорских народов с востока, наоборот - приводили доказательства автохтонного происхождения ряда археологических культур, которые сторонники восточной гипотезы записывали в число мигрантов с востока и т.д.
Есть крайне радикальные взгляды о продвижении прафинно-угорского этноса в глубокой древности с западных территорий на восток вплоть до Зауралья.
Ряд иследователей предполагает автохтонность прафинно-угорского этноса на территории населенной западными финскими народностями ( области Русской равнины, Северо-Запад, Восточная Прибалтика, Фенноскандия). Идея данной автохтонности нашла отражение в работах В.С. Патрушева ( В.С. Патрушев. Этногенез финно-угров в России. Х Конгресс финно-угорской истории. Таллин 1998; В.С. Патрушев. Этнокультурные процессы в России эпохи палеолита и мезолита. Финно-угры России. ЦАЭИ Марийского университета. Йошкар-Ола 2002),по мнению которого широкое распространение близких культурных элементов с постаренбургскими и постсвидерскими чертами, свидетельствуют о едином культурном пласте, объединяющем древности финно-угорских народов на самых ранних этапах развития на широкой территории Восточной Европы.
Близка и точка зрения В.В. Сидорова (В.В. Сидоров. Мезолит бассейна р. Съежи. Тверской Археологический сборник. Вып.2. Тверь 1996),который допускал связь приуральско-камского мезолита и западных культур Оки и Верхней Волги с сибирскими памятниками по цепочке приемственных комплексов.
Собственно все это мне и хотелось бы рассмотреть в данном сообщении, а также высказать и свою точку зрения по данному вопросу.
Основным поводом для создания данной темы стала небольшая дискуссия, возникшая некоторое время тому назад в другом разделе Форума. Спор оказался для меня очень продуктивным: заинтересовавшись современным состоянием проблемы ( наука не стоит на месте), я изучил новые, перичитал заново публикации по каменному веку/эпохе бронзы интересующих регионов и, с одной стороны,
переосмыслил какие-то свои прежние взгляды, с другой стороны предположения некоторых исследователей, еще недавно казавшиеся мне лишенными оснований, теперь такими не представляются.
Кроме того, сейчас совершенно по другому смотрю на работу Б.Н. Щербакова "Формирование финно-угорских народов"
https://www.balto-sl...?showtopic=9093
которую в дискуссии на данном форуме я критиковал за ряд неточностей , использование устаревших аргументов от археологии и
отсутствии новых (с моей точки зрения) выводов. Следует признать, что тогда я несколько погорячился. Во всяком случае, представляется, что указанная работа Б.Н. Щербакова при всех ее минусах, поднимает ряд интересных вопросов, требующих своего осмысления и, вероятно, более правдоподобно характеризует процессы древнейшего сложения финно-угорских народов, в отличии к примеру от работ по данной тематике известного уралиста В.В. Напольских.
Итак, в процессе того спора на Форуме, я высказал мнение, что древнее население Волго-Окского междуречья было протофинно-угорским по крайней мере с неолита, а возможно и ранее. Мой оппонент счел данное мнение лишенным оснований, по причине того, что оно противоречит точке зрения В.В. Напольских, изложенной им, в частности, в его монографии "Введение в историческую уралистику" Ижевск 1997.
Представляется,что точка зрения В.В. Напольских знакома основной массе участников Форума ( во всяком случае указанная монография выкладывалась на Балто-Славике), поэтому нет особой нужды здесь ее подробно пересказывать. Непосредственно касаемо западных финнов, это вкратце у В.В. Напольских выглядит так: " общие истоки этнической истории западных финно-угров (финно-волжских народов) связаны с культурами Верхнего и Среднего Поволжья эпохи поздней бронзы - раннего железа ( формирование культуры ложнотекстильной керамики) и энеолита ( время существования волосовско-гаринской общности) ( В.В. Напольских. Указ. соч. стр. 191).
Относительно более ранней культурно-исторической общности ямочно-гребенчатой керамики В.В. Напольских в своих представлениях не определился: так он предполагает языковую принадлежность данной общности к дофинно-волжским финно-угорским диалектам (В.В. Напольских. Указ. соч. стр. 193). В другом случае, он снова допускает возможность принадлежности носителей культур ямочно-гребенчатой керамики волго-окского типа или отдельных их групп-прежде всего создателей балахнинской культуры ( вот только объективно совершенно непонятно в чем, по мнению В.В. Напольских, принципиальное различие этих групп на ранней и развитой стадиях культуры ямочно-гребенчатой керамики - прим. мое) к т.н. "парауральским"
диалектам, но особых оснований В.В. Напольских для этого не видет, т.к. эти группы не могут быть причислены к числу т.н. "эндоуральцев" т.е. прямых языковых предков современных уральских языков ( В.В. напольских. Указ. соч. стр.197-198).
Довольно странная прежде всего своей неопределенностью позиция языковеда.В данном случае вопрос о культуре ямочно-гребенчатой керамики ключевой. И в такого рода вопросах, позиция автора должна быть изложена с предельной ясностью: либо "да", либо "нет". Если В.В. напольских не говорит категорически "нет", то это, соответственно, сводит на "нет" и все его построения. Довод В.В. Напольских об отсутствии особых оснований для причисления языка носителей указанной культуры к "парауральским" диалектам, только по той причине, что они не являются "эндоуральцами" вряд ли можно признать убедительным.
Конечно, в какой-то степени, В.В. напольских в своих построениях по реконструкции древнейшей истории, этногенеза и лингвистических датировок учитывает данные последних исследований, но при этом, в ряде основополагающих случаев использует устаревшие, даже на момент создание этой работы, данные, в основном позаимствованные из публикаций А.Х. Халикова. Много и сомнительных и слабо аргументированных археологических выводов.
Ввиду того что в настоящий момент считается общепризнанным факт, что носители культуры сетчатой керамики уже были финно-угроязычными, здесь этого вопроса я касаться не буду, поскольку нет и самой темы для дискуссии.
Следует отметить, что в рамках понятия о волосовско-гаринской общности, волосовская культура имеет самостоятельный генезис, а гаринско-борская свое, достаточно сложное происхождение, при этом вероятно участие в ее сложении культуры ямочно-гребенчатой керамики ( в т.ч. через новоильинскую культуру). Сложение западных культур "волосоидного" типа также самостоятельный процесс . Подобные кульуры (типа Пиестиня и пористой керамики) возникают также и в Восточной Прибалтике, куда камско-уральские элементы никогда не проникали.
В археологии и лингвистики гипотеза в том или ином виде о миграционном восточном (уральском) происхождении западных финно-угров сложилась достаточно давно. Я не ставлю своей задачей полный обзор историографии по данному вопросу, но хотелось бы обозначить основные моменты.
По мнению А.Я. Брюсова ( А.Я. Брюсов. Очерки по истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху., стр. 177-178, М. 1952) заселение северо-западной части Русской равнины вплоть до Прибалтики происходило в мезолите как из Зауралья, так и с юго-западных территорий. В обоснование о связях с Приуральем/Зауральем им указывалось в частности на значительное сходство костяного инвентаря стоянки Кунда с костяным инвентарем т.н. шигирской культуры в Зауралье. Соответственно А.Я. Брюсов предполагал прафинно-угорязычный характер носителей культуры ямочно-гребенчатой керамики ( А.Я. Брюсов. История древней Карелии. ,стр.101, Труды ГИМ вып.9, М.1940; А.Я. Брюсов. Очерки по истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху., стр.254, М.1952).
Предположение А.Я. Брюсова о заселении северо-западного региона в мезолите в т.ч. и из Зауралья, было поддержено В.М. Раушенбах ( В.М. Раушенбах. среднее Зауралье в эпоху неолита и бронзы., стр.146-147, М.1956), которая отмечала не только сходство костяных шигирских изделий с костяным инвентарем Кунды, но и обращала внимание на данные палеоантропологии.
Несколько позднее, в связи с выходом работ по урало-сибирской лингвистики, на основании лингвистических построений Б.А. Серебренникова (Б.А. Серебренников. Волго-Окская топонимика на территории Европейской части СССР. Вестник языкознания. М.1955; Б.А. Серебренников. Происхождение чувашей по данным языка. О происхождении чувашского народа. Чебоксары 1957),
получила дальнейшее развитие теория уральского формирования финно-угорской общности. Однако, в свете этой теории, появилось мнение об ошибочности указанных предположений А.Я. Брюсова. В рамках теории была сделана попытка считать первыми финно-угорскими урало-камскими мигрантами носителей культуры сетчатой керамики. Однако от этого пришлось вскоре отказаться.Данные археологии свидетельствовали о прямо противоположном: происхождение культуры сетчатой керамики в Волго-Окском междуречье и на сопредельных территориях никак не могло быть увязано с восточными миграционными процессами.
Приблизительно до начала 70-х гг. 20 -го века многим представлялось более чем правдоподобным другое предположение - о восточном (волго-камском) происхождении неолитической волосовской культуры Волго-Окского междуречья и прилегающих территорий, с которой можно было бы увязать и первых западных угро-финнов.
О.Н. Бадер обратил внимание на некоторое сходство волосовских и волго-камских памятников и в ряде своих публикаций предполагал восточное, камское происхождение волосовской культуры ( О.Н.Бадер. У истоков финно-угорской культуры в Восточной и Северной Европе. Тезисы докладов и сообщений археологов СССР на VII Международном конгрессе доисториков и протоисториков. М.1966; О.Н. Бадер. Бассейн Оки в эпоху бронзы. М.1970; О.Н. Бадер. О древнейших финно-уграх на Урале и древних финнах между Уралом и Балтикой. В сб.: Проблемы археологии и древней истории угров. М.1972)
П.Н. Третьяков также связывал происхождение волосовской культуры с уральско-камским неолитом, продвижение же уральских племен на запад, виделось П.Н. Третьякову многократным процессом ( П.Н. третьяков. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге., стр. 55, М.Л.1966). Автор считал волосовские племена прафиннами и отрицал их связь с культурой ямочно-гребенчатой керамики.
Впоследствиии и А.Я. Брюсов поддержал гипотезу восточного происхождения волосовской культуры ( А.Я. Брюсов. Проблемы происхождения культур каменного века в северной части СССР. САИ №4. М.1968).
В.М. Раушенбах связывала происхождение волосовских племен с горбуновской культурой Зауралья ( В.М. Раушенбах. Стоянка Николо-Перевоз-II на р. Дубне. В сб.: Экспедиции ГИМ. М.1969).
Главным сторонником происхождения волосовской культуры из Волго-Камья был А.Х.Халиков, который вообще рисовал картину широкой экспансии протоволосовских племен из Волго-камья в Волго-Окский регион, на запад, северо-запад и север ( А.Х. Халиков.
Древняя история Среднего Поволжья. М.,1969). Им же была предложена схема ранних этапов финно-угорского этногенеза ( А.Х. Халиков. У истоков финно-угорских народов., стр.9-36. Происхождение марийского народа. Йошкар-Ола 1967), собственно и взятую на вооружение В.В. Напольских.
Примерно так и возникло предположение ( после неудачи с культурой сетчатой керамики), что начальные этапы этногенеза западных финских народов следует связывать именно с волосовско-гаринской общностью.
Нужно отметить, что уже тогда ( 60-е - начало 70-х гг. 20 века) гипотеза о волго-камском происхождении волосовской культуры разделялось далеко не всеми археологами.
И.К. Цветкова пришла к выводу, что волосовская культура на Оке генетически связана с волго-окской культурой ямочно-гребенчатой керамики ( И.К. Цветкова. Племена рязанской культуры. Труды ГИМ вып.44, М.1970).
Мнения о происхождении волосовской культуры на основе культуры ямочно-гребенчатой керамики придерживался и Д.А. Крайнов ( Д.А. Крайнов. Стоянка и могильник Сахтыш -VIII. В сб.: Кавказ и Восточная Европа в древности. М.1973).
В связи с открытием протоволосовских древностей в Волго-Окском регионе и на сопредельных территориях, доказано формирование волосовской культуры на основе местных, а не волго-камских древностей.
Это подтверждают исследования И.К. Цветковой ( И.К. Цветкова, А.Е. Кравцов. Керамика неолитической стоянки Владычинская-Береговая. СА №2, М.1982), Д.А. Крайнова ( Д.А.Крайнов. Волосовская культура. Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР., М.1987), В.В. Сидорова ( В.В. Сидоров. Отношение льяловской и волосовской культур. XVII Всесоюзная финно-угорская конференция. Устинов 1987; В.В.Сидоров. Многослойные стоянки Верхненго Поволжья. Волго-Окская экспедиция. М.1990; В.В. Сидоров.Волосовская культура - происхождение, судьба. Материалы научной конференции. Йошкар-Ола 2007),А.В. Энговатовой ( В.В.Сидоров, А.В. Энговатова. Протоволосовский этап или культура. Тверской Археологический сборник. Вып.2, Тверь 1996; А.В.
Энговатова. Древнейшие охотники и рыболовы Подмосковья. М.1997), В.В.Никитина ( В.В. Никитин. Этнокультурная ситуация в
неолите лесной полосы Среднего Поволжья. Йошкар-Ола 1996; В.В. Никитин. Истоки волосовских древностей на Оке и Волге. В сб.:
Археология Восточной лесостепи.Вып 2, т.1. Пенза 2008) и др. исследователей.
С большой долей вероятности можно утверждать, что ведущая роль в процессе сложения волосовской культуры, принадлежала носителям культуры ямочно-гребенчатой керамики, занимавшей обширную территорию лесной полосы Европейской части России от Камы до Прибалтики. Совершенно понятно, что в в восточных областях данного региона, на границе с Воло-Камьем наблюдается ее взаимодействие с волго-камским населением, но приоритет принадлежит носителям культуры ямочно-гребенчатой керамики.
М.Г. Косменко ( М.Г. Косменко. Археологические культуры периода бронзы - железного века в Карелии. СПб 1993) также не нашел доказательств распространения волосовской культуры с востока на запад, а следовательно и признаков формирования западной финно-угорской общности именно в это время (согласно гипотезе А.Х.Халикова -В.В. Напольских-прим. мое).
В.В. Никитин ( В.В. Никитин. Указ. соч. стр.160)в этом вопросе очень категоричен:"...они ( волосовские племена - прим. мое) представляли общефинскую этнокультурную общность, сложившуюся еще в развитом неолите (возможно и раньше) в среде культур гребенчато-ямочного (ямочно-гребенчатого) круга, что объясняет происхождение прибалтийских финнов, куда неолитические культуры уральского (камского) типов, как отмечают прибалтийские исследователи не проникают" ( но в Восточной Прибалтике есть культура ямочно-гребенчатой керамики и последовавшие за ней волосоидные культуры; культуру сетчатой керамики в Прибалтике и Южной Финляндии в настоящее время рассматривают как возникшие на местной основе, а не в результате миграционных процессов с Верхней Волги - прим. мое).
Несколько отвлекаясь от основного ( более подробно я останавлюсь на этой теме в другом сообщении) еще раз необходимо подчеркнуть, что в Восточной Прибалтике, как и в Южной Финляндии есть древности с сетчатой керамикой ( несомненные финно-угры в т.ч. и по В.В. Напольских). Исследованиями установлено, что все эти культуры сложились на местной основе, а не возникли как результат миграции населения ( К.В. Воронин. К вопросу о происхождении и развитии культуры сетчатой керамики бронзового века.Тверской Археологический сборник. Вып.3, Тверь 1998), это справедливо также для районов Приильменья, Приладожья, Эстонии (М.А.Юшкова. Эпоха бронзы и ранний железный век на Северо-Западе России. Автореферат кандидатской диссертации. СПб 2011).Автохтонное происхождение сетчатой керамики прослежено также и на территории Лубанской низменности (Восточная Латвия) ( И.А. Лозе. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. Рига 1979).
Имеются довольно ранние абсолютные датировки по С14 для волосовской культуры (не каллиброваны).
Для Волго-Окского междуречья: на стоянке Воймежное-I( юго-восток Московской обл.) волосовский слой развитого этапа датирован в диапазоне 4860+-50 - 4530+-60 л. н. ( А.В. Энговатова. Указ. соч. стр. 62,122-124), на поселении Ивановское -III (Ярославская обл.)4800+-250 - 4790+-50 л.н. ( Д.А.Крайнов. Указ. соч. стр.13).
Для северных территорий: нижний волосовский слой стоянки Модлона (северо-запад Вологодской обл.) имеет дату 4850+-120 л.н.
( Д.А. Крайнов. Указ. соч. стр. 13).
Ранние даты получены и для локального варианта волосовской культуры в Среднем Поволжье : поселения Майданское и Удельный Шумец-VI(правобережье р. Ветлуги, недалеко от впадения в р.Волгу) имеют соответственно даты 4825+-80 л.н. и 4720+-80 л.н.
(А.И. Королев, А.А. Шалапинин. Радиоуглеродное датирование ранних материалов волосовской культуры Среднего Поволжья., стр. 257., Известия Самарского научного центра РАН. Вып 2, т.1., Самара 2010).
В Примокшанье на поселении Имерка-V волосовские материалы датированы 4600+-160 л.н. ( А.И. Королев, А.А. Шалапинин.Указ. соч. стр. 258).
В Лубанской низменности (Восточная Латвия) для культуры с пористой керамикой, близкой волосовской культуре, даты укладываются в диапазон 4780+-225 - 4350+-200 л.н. ( Д.А. Крайнов. Указ. соч. стр.14).
Следовательно можно говорить о существовании памятников волосовского типа уже в начале III т.л. до н.э. ( это по некаллиброваным датам) на обширной территории от Восточной Прибалтики до Среднего Поволжья и от Примокшанья до севверных р-нов Вологодской обл., и еще дальше на север. Каллибровка полученных дат даст результат в сторону их удревнения. Однако уже сейчас большинство из перечисленных памятников можно смело датировать не позднее конца IV т.л.до н.э.
А это, в свою очередь, является веским основанием. чтобы поставить под сомнение палеолингвистические датировки и построения, сделанные В.В. Напольских, который только еще для III т.л. до н.э. определяет прафинно-угорский экологический ареал в пределах Среднего Урала, Среднего и Южного Зауралья, юго-западной части Западной Сибири, с возможным включением сюда районов к западу от Уральских гор - прежде всего бассейнов Камы, Верхней Вычегды и Верхней Печеры ( В.В. Напольских. Указ. соч. стр. 140).
Вышеуказанная гипотеза А.Х. Халикова и В.В. Напольских об истоках древнейшей финно-угорской общности в энеолитической волосовско-гаринской культурно-исторической общности подвергнута критике целым рядом исследователей.
Так М.Ф. Косарев и С.В. Кузьминых ( М.Ф. Косарев, С.В. Кузьминых. К проблеме поисков уральской прародины., стр. 293,Тверской Археологический сборник, Вып.1., Тверь 2000), касаясь схемы раннего этногенеза финно-угров, предложенной А.Х.Халиковым, отмечают, что в настоящий момент из этой схемы выпало важнейшее основаполагающее звено, т.к. В.В. Никитин показал, что в образовании культур протоволосовского круга решающая роль принадлежала культурам ямочно-гребенчатой керамики.
В другой своей работе С.В. Кузьминых ( С.В. Кузьминых. Археологическое изучение ананьинского мира в ХХ веке: основные достижения и проблемы Российская археология: достижения ХХ и перспективы XXI вв. Ижевск 2001) признает существенные генетические различия между верхневолжскими и камскими древностями и, соответственно, вытекающую отсюда противоречивость вообще всей схемы А.Х. Халикова.
М.Г. Косменко ( М.Г. Косменко.Проблемы изучения этнической истории бронзового века- раннего средневековья в Карелии., стр. 195-196, В сб.: Проблемы этнокультурной истории населения карелии ( мезолит-средневековье).Петрозаводск 2006) отмечает, что от каменного века до энеолита в лесной зоне между Уралом и Балтикой факты переселения с востока достоверно не подтверждены, а версия восточного происхождения культур не получает продуктивного развития, поскольку все эти культуры мимеют местное происхождение, т.е. формировались в западной части Русской равнины или восточной части Прибалтики. Гипотезы о финно-угорском характере культур каменного века-энеолита, по мнению М.Г. Косменко, следует проверять путем анализа генетической связи с культурами эпохи бронзы ( в данном случае культура сетчатой керамики - прим. мое)
Относительно древностей волосовско-гариноской общности на территории Карелии, М.Г. Косменко ( М.Г.Косменко.Указ.соч. стр. 202)
не соглашается с восточной гипотезой генезиса данной культуры ( А.Х. Халиков, В.В. Напольских - прим. мое), поскольку этому противоречат их довольно ранние зднсь датировки по С14 и посуда неолитоидного ( протоволосовского - прим. мое) типа на подобных ранних поселениях региона.
М.Ф,Косарев и С.В.Кузьминых ( М.Ф. Косарев, С.В. Кузьминых. Указ. соч. стр. 385-396) отдавая должное В.В. Напольских как лингвистту, отмечают те же несоответствия в его построениях, что и в схемах А.Х.Халикова, обусловленные тем, что В.В. напольских опирается либо на давно устаревшие, либо слабо аргументированные археологические доводы.
За использование устаревших, либо недоказанных данных для Карелии, В.В. Напольских критикует также и В.Ф. Филатова ( В.Ф. Филатова. Вопросы происхождения и этнокультурной принадлежности населения эпохи мезолита., стр. 26-27, В сб.: Проблемы этнокультурной истории населения Карелии ( мезолит-средневековье) Петрозаводск 2006).
Таким образом, на сегодняшний день гипотеза о восточном ( камско-уральском_ происхождении волосовской культуры представляет лиш историографический интерес. Все данные археологии не противоречат прафинно-угорскому характеру культуры ямочно-гребенчатой керамики. Также понятно, что происхождение ямочно-гребенчатой керамики не связана с Волго-Камьем. Очень хорошо, что хоть таких попыток никто не предпринимал.
Так что: правы те исследователи, которые предполагали западное автохтонное сложение прафинно-угорского этноса? На этот вопрос я постараюсь ответить в дальнейшем.
В начале, в очень краткой форме, нужно рассмотреть теоретическую возможность миграции населения из Зауралья, во время, предшествовавшее возникновению культуры с ямочно-гребенчатой керамикой. Теоритическую возможность миграции древнейших прафинно-угорских племен на территорию Северо-Запада России и в Прибалтику, как это в свое время допускали А.Я. Брюсов и В.М. Раушенбах. Располагаем ли мы какими-либо доказательствами?
В связи с воставленным вопросом прежде всего следует указать на данные палеоантропологии. Здесь прежде всего привлекает внимание известное погребение № 158 из мезолитического Оленеостровского могильника в Карелии. Именно оно( точнее череп погребенного) является предметом дискуссии многих антропологов. Всем хорошо известна суть этой дискуссии: ряд исследователей предполагали наличие в нем т.н. палеомонголоидных элементов, другие высказывались о сложении между Балтикой и Уралом реликтовой протоморфной уральской расы, третьи говорили о "псевдомонголоидности", поскольку, по их мнению, уплощение верхней части лицевого скелета является палеоевропейской особенностью, имевшее широкое распространение в палеолите-мезолите Европы.
Ну сейчас мы имеем дело уже не с одним таким черепом, а располагаем целой краниологической серией времен мезолита - неолита, объединенной такими особенностями. Имеют ли данные черепа в себе палеомонголоидную примесь или относятся к протоморфной реликтовой расе? Лично мне представляются более обоснованными последние выводы Т.И. Алексеевой ( Т.И. Алексеева Неолитическое население лесной полосы Восточной Европы .,стр. 18-42, в сб.: Неолит лесной полосы Восточной Европы (Антропология Сахтышских стоянок) М.1997) и Р.Я. Денисовой ( Р.Я. Денисова.Проблема наличия монголоидного компонента в составе древнего населения Восточной Европы.,стр. 42-55, в сб.: Неолит лесной полосы Восточной Европы ( Антропология Сахтышских стоянок) М.1997) о наличии палеомонголоидного компонента.
Однако, одних антропологических данных совершенно недостаточно, чтобы говорить об этнокультурных миграционных процессах. Получить подобный набор признаков ( если они палеомонголоидные) их древние обладатели могли разнообразными путями , особенно если учесть, что лесная полоса Восточной Европы примыкает к Уральскому региону. Археологическая культура не всегда тождественна антропологическому типу. Нужны данные археологии.
На территори от Восточной Прибалтики до Зауралья в эпоху мезолита-раннего неолита распространены весьма схожие между собой костяные орудия т.н. "шигирского типа": своеобразные наконечники стрел, гарпуны и т.п.. В настоящее время орудия такого типа известны в культурах Кунда, типа Веретье, Оленеостровском могильнике, бутовской культуре Волго-Окского междуречья, на поселениях Шигирского торфяника в Зауралье и др. памятниках. Их очевидное сходство еще в 50-е гг. 20-го века дало повод некоторым исследователям предполагатрасселение их создателей из Зауралья ( например см. выше А.Я. Брюсов, В.М. Раушенбах).
Сейчас мы понимаем, что одно только сходство между собой орудий "шигирского типа" оснований для глобальных выводов не дает.
Карта распространения находок орудий "шигирского типа".Наконечники стрел "шигирского типа" ( по М.Г. Жилину)

Очень интересно другое.
М.Г. Жилин ( М.Г. Жилин. Наконечники стрел шигирского типа в мезолите и раннем неолите Восточной Европы ., стр. 50-56, Тверской Археологический сборник. Вып.2.,Тверь 1996) отмечает, что картографирование подобных находок показывае их распространение только в зоне Восточной Европы на территории от Восточной Прибалтики до Среднего Зауралья включительно, за пределами указанной территории подобные типы изделий не встречаются. По мнению М.Г. Жилина, эта территория соответствует ареалу связей древнего населения , изготовлявшего орудия такого типа. При этом, автор считает, что скорее это были контакты между людьми понимавшими друг друга, а не обмен или торговля костяными орудиями.
В другой статье, М.Г. Жилин (М.Г. Жилин. Стоянка Окаемово-4 на Средней Дубне., стр.32-42, в сб.: Проблемы изучения эпохи первобытности и раннего средневековья лесной зоны Восточной Европы №2. Иваново 1995) по -поводу мезолитических орудий "шигирского типа" делает вывод, что они вероятно принадлежат различным, но близким культурам, составлявшим в это время крупную культурно-историческую общность.
Хотелось бы обратиться и к работе одного из современных ведущих специалистов по мезолиту А.Н. Сорокина ( А.Н. Сорокин. Мезолит Оки.Проблемы культурных различий. ТООР №5.,М.2006), в которой автор рассматривает проблематику мезолита региона с учетом всех накопленных данных.Лично мне данная работа представляется существенным шагом вперед в исследовании мезолита и осмыслении многих ранее неясных вопросов.
Представляется совершенно справедливой критика А.Н. Сорокиным ( А.Н. Сорокин. Указ. соч. стр. 21) предложенной М.Г. Жилиным классификации костяных орудий данного типа за ее излишнюю усложненность и чрезвычайную громожкость. Сейчас оставим за скобками ( как не имеющего прямого отношения к теме моего сообщения) подробный разбор предположений А.Н. Сорокина о правомерности выделения и классификации мезолитических культур региона и их генезиса. Принципиальны иные выводы, сделанные А.Н.Сорокиным.
Рассматривая мезолитическую т.н. пургасовскую культуру Волго-Окского междуречья, Верхневолжской низменности и Среднего и Нижнего Примокшанья (в правомерности выделения пургасовской культуры А.Н. Сорокин не сомневается, некоторые исследователи видят в данных памятниках вариант бутовской культуры - прим. мое),А.Н. Сорокин ( А.Н. Сорокин. указ. соч. стр. 72) отмечает, что аналогии пургасовским кремневым наконечникам стрел имеются в мезолите Коми и Таймыра. При этом, автор ( А.Н. Сорокин. Указ. соч. стр. 75) не исключает и связь кремневой индустрии пургасовской культуры с культурой типа Веретье. Касаясь култинской ( по А.Н. Сорокину) культуры эпохи мезолита (имевшей распространение в Тверской обл. и северной части Волго-Окского региона)( А.Н. Сорокин. Указ. соч. стр. 52),автор связывает ее генезис с мезолитом Камско-Вятского междуречья, о чем свидетельствуют имеющиеся аналогии, а также территориальная близость.
А.Н. Сорокин ( А.Н. Сорокин. Указ. соч. стр. 71) подчеркивает схожесть иеневской культуры Волго-Окского междуречья на ее заключительном этапе с памятниками , относящимися к усть-камской мезолитической култьтуре и мезолиту Марийского Поволжья. Сходство иеневских и усть-камских материалов столь ощутимо, что следует говорить даже о большем, чем их единая генетическая подоснова.
Кроме этого, по мнению А.Н. Сорокина ( А.Н. Сорокин.Указ. соч. стр.71)между усть-камской культурой и мезолитическими памятниками Марийского Поволжья нет принципиальных различий, вероятно и те и другие являются разными хронологическими этапами единой культуры.
Вообще культуры мезолита типа Иенево (Волго-окское междуречье), песочноровской, зимовиковской, усть-камской (Волго-Камье),
а также Фосна и Комса (Фенноскандия) А.Н. Сорокин ( А.Н. Сорокин Указ. соч. стр. 73) считает большой культурно-исторической общностью.
А.Н. Сорокин, следом за другими исследователями , не сомневается в сходстве между собой ряда мезолитических памятников в т.ч. в Восточной Прибалтике,на Русской равнине,на Северо-Западе России, в Волго-Камье и в Фенноскандии, которые принято объединять в две болшие общности "постаренбургскую" и "постсвидерскую". При этом, автор , подчеркивая близость между собой всех этих памятников , сомневается в правомерности применении такого термина как "постсвидерский", в частности указывая на разницу в индустрии между самой свидерской культурой и т.н. культурами постсвидерского круга в интересующим нас регионе (
А.Н. Сорокин. Указ. соч. стр. 77-96).
Кстати мнения об отсутствии сходства между свидерской и бутовской индустрией придерживался и А.Е. Кравцов ( А.Е. Кравцов, А.Н. Сорокин. Актуальные вопросы Волго-Окского мезолита. М.1991).
Что касается мезолитического Оленеостровского могильнмка, то о местном возникновении его кремневых наконечников стрел и об отсутстви связи со свидерской культурой писали В.Ф. Филатова и М.Н. Желтова ( В.Ф. Филатова. Наконечники стрел в мезолите Карелии. СА № 1.,М.1987; М.Н.Желтова.Некоторые технико-морфологические особенности свидерской индустрии.Тверской Археологический сборник. Вып.4., Тверь 2000).
Все это не влияет принципиальным образом на рассматриваемую в данном сообщении тему, поскольку всеми исследователями, независимо от того разделяют ли они точку зрения об участии свидерской культуры в формировании данного круга памятников или нет, признается определенное сходство между ними. Разница только во взлядах на процессы их генезиса. Например, прибалтийские исследователи культуры Кунда предполагали для этого времени приток в Восточную Прибалтику населения с восточных сопредельных территорий (Л.Янитс, К. Янитс. Доклад на V Международном конгрессе финно-угроведов. СА № 1., М.1983) и т.п.
Лично мне представляется, что пока рано полностью отказываться от идеи свидерского происхождения всех этих памятников, но, вероятно, не стоит и особо приувеличивать участие свидерских элементов в генезисе той или иной культуры всей этой т.н. "постсвидерской" группы.
Участие в генезисе мезолитических культур лесной полосы Восточной Европы и Прибалтики и свидерской культуры в той или иной степени допускает и А.Н. Сорокин ( А.Н. Сорокин. Указ. соч. стр. 83), но справедливо считает, что в каждом отдельно взятом случае это должно быть надежно подтверждено, а не являться предметом декларации. При этом, по мнению А.Н. Сорокина ( А.Н. Сорокин.Указ. соч. стр. 71) материалы всех этих культур, а также усть-камской ( Волго-Камье) не выходят из общеевропейского контекста.
Другим, важным предположением А.Н. Сорокина является то, что бутовское население, вероятно, нек было единственным в Волго-Окском междуречье в конце мезолита, а процесс неолитизации затронул все группы этого населения ( А.Н. Сорокин. Указ. соч. стр.76).
Представляет интерес и трактовка автором миграционных процессов в мезолите ( А.Н. Сорокин. Указ. соч. 93-95). По его мнению, учитывая характер хозяйственного уклада древнего населения, а также климатических особенностей данного пермода, передвижение населения не было исключительно однонаправленным. Перемещения одних и тех же коллективов происходили как в одну сторону, так и обратно в противоположную. Со своей стороны замечу, что особенно правдоподобно это выглядит в пределах культурно-исторической общности.
Итак, резюмируя наши сегодняшние представления о мезолите лесной зоны Европейской части России, Северо-Запада, и Восточной Прибалтики, нужно отметить, что никаких археологических подтверждений миграционным процессам из Уральского региона на запад в мезолите не наблюдается. Это также справедливо и для севера Европейской части России, в частности Карелии ( В.Ф. Филатова. Вопросы происхождения и этнокультурной принадлежности населения эпохи мезолита. В сб.: Проблемы этнокультурной истории населения Карелии ( мезолит - средневековье) Петрозаводск 2006).
Следовательно, предположения некотрых исследователей о заселении в мезолите Волго-Окского региона, Северо- Западной части Русской равнины, вплоть до Прибалтики из Уральского региона подтверждения не получии.
Однако, между рядом мезолитических культур Волго-Окского региона, Северо-Западной части Русской равнины, Фенносканди, Восточной Прибалтики и Волго-Камского региона и, возможно, далее к востоку наблюдается определенное сходство, т.е. можно говорить о сложении здесь больших культурно-исторических общностей уже в мезолите.
Все эти культуры относятся к европейскому кругу культур.
Не находит подтверждения и гипотеза А.Х.Халикова о сибирских истоках раннего мезолита Средней Волги и Прикамья, рассматривавшего их возникновение как результат продвижения урало-алтайской языковой общности в указанные районы ( А.Х. Халиков. Основы этногенеза народов Среднего Поволжья и Приуралья. Ч.1,.Казань 1991). На отсутствие в данных памятниках сибирских черт и их сходство с европейскими культурами обращали внимание как раньше, так и позднее А.А. Формозов ( А.А. Формозов.Проблемы этнокультурной истории каменного века на территори Европейской части СССР. М.1977) ,М.Г. Косменко ( М.Г. Косменко. Мезолит Среднего Поволжья. КСИА .Вып.149., М.1977) , М.Ш. Галимова ( М.Ш. Галимова. Памятники позднего палеолита и мезолита в устье реки Камы. М.-Казань 2001) и др. исследователи.
Есть все основания говорить этнокультурных миграционных процессах в мезолите не с востока в обратную сторону в Приуралье и, возможно, Зауралье.
Вероятно не стоит приувеличивать значение свидерской культуры в сложении данных культур.
Что касается Волго-Окского междуречья, то очень похоже, что население бутовской культуры не являлось здесь единственным в позднем мезолите. Возможно, косвенное подтверждение этому в некоторых заметных различиях в вариантах ранненеолитической верхневолжской культуры.
Да и сам вопрос о территории распространения верхневолжской ранненеолитической культуры требует дополнительного изучения и утВозможно, что наиболее ее южным памятником окажется стоянка Студеновка-3 на р. Воронеж Липецкой обл. ( А.Н. Бессуднов, Р.В. Смольянинов. Неолитические материалы с поселения Студеновка-3 на р. Воронеж., стр. 127-132., в сб.: Археология Восточной лесостепи. Вып.2, т.1., Пенза 2008). Другой вопрос: насколько данная культура здесь автохтонна.
Необходимы и дополнительные исследования для установления взаимоотношений и возможного родства верхневолжской ранненеолитической культуры с другими одновременными культурами, в частности на территории Северо-Востока России, ее отношениях с ранненеолитической волго-камской культурой.К примеру, на территории бассейна р. Сухоны и вна территори Коми ( т.н. керамика энтийского типа) обнаруживаются ранненеолитические материалы, с одной стороны весьма схожие с верхневолжской культурой, а с другой с волго-камской. ( Н.Г. Недомолвина. Неолит верхней Сухоны., стр. 14-15., Автореферат кандидатской диссертации. СПб 2007)
И в заключении, что касается краниологических материалов мезолитического времени, характеризующихся палеомонголоидностью/лапаноидностью.
Если эти известные признаки считать как проявление палеомоголоивовсе не обязательно связывать это с инокультурными миграционными процессами, тем более что археологического подтверждения таким процессам нет. Все-таки не стоит забывать, что вероятнее всего мы имеем здесь дело с культурно-историческими общностями. На востоке ( мезолитическая усть-камская культура) они непосредственно граничили с Уралом, а какая-то их часть заходила и еще дальше в Зауралье. Помимо это го мы располагаем крайне скудными сведениями о шигирской культуре Зауралья и ее отношеении с культурами западных регионов.
Возможно допустить , что эти антропологические признаки являются отражением древних контактов западного и восточного населения, контактов не связанных с инокультурными миграционными процессами в западном направлении и последующего распространение метисированных индивидумов внутри культурно-исторической общности.
Во всяком случае, сравнительно недавно обнаруженный череп из мезолитического погребения на стоянке Маяк в Среднем Поволжье ( Самарская обл.) обладает все той же комбинацией черт, которые А.А. Хохлов ( А.А. Хохлов. Формирование уралоидного антропологического пласта и историческая роль его компонентов в расогенезе народов Приуралья и Поволжья. В сб.: Формирование и взаимодействие уральских народов в изменяющейся этнокультурной среде Евразии : проблемы изучения и историография. Уфа 2007)называет сочетанием европейских черт и "условно-монголоидных".
Вышеуказанная схема может оказаться справедливой и по отношению к подобным краниологическим материалам эпохи неолита. В том случае, если в ходе дальнейших исследований, вывод о "палеомонголоидности" не найдет своего подтверждения, то вопрос вообще снимается сам собой.
В свете всего вышеизложенного , западные, особенно автохтонные гипотезы происхождения западных но-угорских народов не выглядят такими уж совершенно беспочвенными.
Критикуя т.н. "свидерскую гипотезу" возникновения этих народов, изложенную в докладах Я. Маккаи и А. Парполы, В.В. Напольских ( В.В. Напольских. ,А.В.Энговатова.Симпозиум "Контакты между носителями индоевропейских и уральских языков в неолите, энеолите и бронзовом веке (7000-1000 гг. до н.э.)в свете лингвистических и археологических данных (Твярминне 1999), стр. 224-232. РА № 4., М.2000. Важное примечание: данная критика относится только к разделу В.В. Напольских, о чем сделано в тексте соответствующее уведомление читателям. Возможно, по ряду вопросов А.В. Энговатова придерживается иной точки зрения, отличной от взглядов В.В. Напольских), приводит следующие аргументы , по его мнению, доказывающие несостоятельность данной гипотезы: такая схема требует полного пересмотра всей хронологии уральской языковой истории, методика лингвистической палеонтологии никак не согласуется с центральноевропейской прародиной уральцев, типологическая близость уральских языков не к языкам западного круга ( семитским, кавказским, индоевропейским) , а к восточным ( тюркским, тунгусо-маньчжурским, монгольским, юкагирскому), а с юкагирским языком уральские языки находятся в генетическом родстве, с точки зрения данной гипотезы остается абсолютно необъяснимым появление пермских, угорских и самодийских языков на исторической территории их бытования.
Первый довод В.В. Напольских о невозможности пересмотра хронологии уральской языковой истории нельзя считать серьезным.Абсолютная хронология это традиционно слабое место палеолингвистики вообще. В конкретно взятом случае, лингвистическая хронология весьма относительна и строится в основном на данных археологии. О больших сомнениях в компетентности В.В. Напольских в палеолингвистических построениях, в т.ч. определении прафинно-угорского "экологического ареала"я писал выше. Да и вообще в точности методов лингвистической палеонтологии последнее время также очень часто возникают сомнения.
Что же касается гипотетической возможности связи свидерской культуры с праиндоевропейцами, что возможно предполагает В.В. Напольских ( судя по его высказываниям на форуме Молген), то здесь гораздо больше вопросов: можно ли вообще весь "постсвидер" отождествлять с ними или только какую-то его часть, испытавшую на себе еще и инокультурное влияние,или таких оснований нет вообще,наконец имеет ли сама свидерская культура отношение и какое, в какой степени ко множеству т.н. "постсвидерских" памятников.
Складывеется впечатление, что про Центральную Европу, В.В. Напольских несколько лукавит, его оппоненты ставили вопрос скорее в рамках "контактной схемы". Конечно следует согласится с В.В. Напольских, что нет никаких оснований помещать прародину уральцев в Центральную Европу.
По сути единственным, но очень серьезным доводом В.В. Напольских является аргумент о появлении пермских, угорских и самодийских языков.
Как я уже отмечал выше, проблемы палеоэтногенеза можно решить только в том случае если данные дисциплин, привлеченных к исследованиям не противоречат друг другу.
Восточная ( уральская ) гипотеза происхождения западных финно-угорских народов в любом своем варианте предполагает привнесение/смену языка , а это противоречит данным археологии. Не все здесь гладко и с лингвистической точки зрения: наблюдается существенное различие в морфологии между пермскими и более западными финскими языками. Нет удовлетворительного ответа на вопрос о причинах и времени сложения различий между пермскими и западными финскими языками. Вытеснение местных западных языков восточным и его быстрая дивергентная трансформация более чем сомнительна, поскольку в Фенноскандии нет пермской топонимики. Лексика современных саамских языков обнаруживает четкие параллели с марийской, а не с пермской лексикой. Для ряда северо-западных территорий, изучение топонимики и гидронимики позволяет предполагать , что она соотносится с древними "волжскими" или "волго-окскими" финно-угорскими языками, но возникают обоснованные в том, что языки эти генетически связаны с Камско-Уральским регионом ( М.Г. Косменко. Указ. соч. стр. 204).Именно поволжские, а не камско-уральские параллели наблюдаются и в субстратной топонимике. Это далеко не все примеры.
Западная гипотеза также противоречит данным археологии, в том, что касается происхождения ряда восточных угро-финских народов и особенно угров. Это противоречит и лингвистическим исследованиям. Наблюдается сходство всех угро-финских языков , образующих уральскую семью.И как в этом случае быть с самодийцами? Отмечается типологическая близость уральских языков к другим восточным, а не западным языкам.Безусловно нельзя списывать со счетов и данные лингвистической палеонтологии и т.д.
Лично мне проблема поисков прафинно-угорской прародины напоминает большое бревно, которое нужно поднять, но за какой конец ни возьмись - другой перевешивает. А может стоит взяться за середину?
В этой связи мне представляются чрезвычайно интересными и перспективными работы М.Г. Косменко "Основные концепции этноса и проблемы этнической принадлежности культур бронзового века - раннего средневековья в Карелии" в сб.: Межкультурные взаимодействия в полиэтническом пространстве пограничного региона. Петрозаводск 2005 и " Проблемы изучения этнической истории бронзового века - раннего средневековья в Карелии" в сб.: Проблемы этнокультурной истории населения Карелии (мезолит-средневековье) Петрозаводск 2006.
Автор рассматривает восточную и западную теории прафинно-угорской прародины.
Касаясь восточной ( уральской) теории, М.Г. Косменко отмечает, что она в настоящий момент не находит полного подтверждения. Прежде всего данная теория противоречит данным археологии.Главным недостатком большинства версий в рамках этой теории является то, что вопрос об отношениях гипотетических финно-угорских мигрантов с местным населением практически не рассматривался. Не установлен даже сам факт значительного переселения угро-финнов на запад. Единственным подтвержденным фактом такого переселения и уже в железном веке является инфильтрация ананьинского волго-камского элемента в среду северо-западного населения ( это связано с формированием южных саамов), при этом и здесь нет оснований говорить о полной смене языка, появилась только новая лексика.
В т.н. древовидной модели уральских языков М.Г. Косменко видит существенные противоречия, а относительная хронология финно-угорских языков на основе анализа их фонетики нуждается в дополнительном обосновании и совершенно не обязательно с позиций древовидной эволюционной модели.
Вместе с тем восточная теория не является совершенно беспочвенной, поскольку отмечаются черты сходства лексики финно-угорских языков, а восточный компонент выявлен среди отцовских генов западных финских народностей.
Много изъянов и противоречий находит М.Г. Косменко и в западной теории генезиса финских народностей. Здесь также много противоречий с данными археологии. Это касается происхождения восточных угро-финнов за Уральским хребтом.Автор отмечает, что западная концепция столь же умозрительна, как и восточная. С позиций западного происхождения уральцев/финно-угров неясным остается причина сходства уральских языков.
Однако, реальным и важным фактом, положенным в основу данной теории, М.Г. Косменко признает факт отсутствия доминирующего комплекса черт восточного происхождения у современных западных финноязычных народов на протяжении всего периода древней истории и в Прибалтике и в Фенноскандии,а веская сумма доводов против смены языка западными этносами не может быть оставлена без внимания.
М.Г. Косменко считает, что противоречия и коллизии, свойственные современным версиям восточной (уральской) концепции однозначно показывают невозможность создать в рамках этой моноцентрической теории адекватную картину формирования финноязычных этносов в лесной зоне между Уралом и Балтикой. Выход, по мнению автора, только один: не в дальнейшей бесперспективной модернизации восточной миграционной теории, а в отказе от ее традиционной формы и сопутствующего представления о смене языка в западных регионах финно-угорского ареала.
М.Г. Косменко принимает хотя и пока слабо разоаботанную, но все-таки более объективную и адекватную полицентрическую гипотезу первоначального сложения финских этносов с их последующей окончательной интеграцией восточным компонентом ( ананьинская культура) и не рассматривает сходство языков как наследие былого единства.Основой во всех случаях являлся местный компонент и смены языка не происходило. По мнению автора, опираясь на данные археологии, в настоящее время можно говорить о верхневолжском и камском центрах сложения предфинно-угорских этносов в лесной зоне Европейской России.
Для обоснования своих выводов автор использует данные археологии, антропологии и лингвистики.
Скачать работу М.Г. Косменко в формате pdf здесь:
http://files.mail.ru/ZYCC1H
По моему убеждению , данная модель при ее дальнейшей разработке должна оказаться весьма перспективной. Рассмотрение сложения финно-угорских народов не в результате миграционных процессов, а в результате процессов интеграционных, объединявших местные диалекты, на мой взгляд, сглаживает все имеющиеся противоречия .
Хотя М.Г. Косменко в своей работе и очень осторожно подходит к данному вопросу и утвердительно говорит лишь об интеграционных процессах, связанных с культурой сетчатой керамики и ананьинской культурой, таких процессов в древнейшей истории финно-угорских народов могло быть несколько. Думается, это плодотворная тема для будующих исследований.
В дальнейшем я намерен продолжить данную тему и дополнить ее сообщениями о культуре сетчатой керамики, волосовской культуре, культурно-исторической общности ямочно-гребенчатой керамики и ранненеолитических культурах региона.
Я не стал делать список использованной литературы, поскольку это бы заняло очень много дополнительного места. Все ссылки имеются в тексте.
Войти Создать учётную запись

ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАПАДНЫХ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ
#1

 Опубликовано 25 Январь 2012 - 19:20
Опубликовано 25 Январь 2012 - 19:20

- "Спасибо" сказали: Tora_sama
#2

 Опубликовано 25 Январь 2012 - 19:34
Опубликовано 25 Январь 2012 - 19:34

В. Ставицкий:
"Но то, что сделал Жих - это скорее его беда, а не вина. Поскольку даже более маститые ученые (не археологи) попадают впросак когда берутся интерпретировать археологические материалы. Вот например, недавно избранный член-корреспондент РАН, В.Напольских написал книгу об этногенезе финно-угров ("Введение в уралистику") с опорой на археологические публикации 60-70-х годов, получилась такая же точно фантазия."
 R1a1a, R1a1a et R1a1a
R1a1a, R1a1a et R1a1a K1b2a, H et T1а
K1b2a, H et T1а
#4

 Опубликовано 26 Январь 2012 - 07:43
Опубликовано 26 Январь 2012 - 07:43

Он профессиональный археолог со стажем где-то свыше тридцати лет.
#5

 Опубликовано 26 Январь 2012 - 08:35
Опубликовано 26 Январь 2012 - 08:35

Я почему спрашивал - мне интересно, что думают профессиональные лингвисты о его полицентрической гипотезе. Конкретная цитата:
Не совсем понятен смысл - то-есть финнские языки не родственны другим уральским? На основании чего тогда сходство - на основании заимствованной лексики? Но ведь не просто так установили родство, к примеру, с самодийскими языками. Или этот восточный компонент - ананьинская культура сделала их родственными - в таком случае ее и можно считать прафинской..
#6

 Опубликовано 26 Январь 2012 - 08:50
Опубликовано 26 Январь 2012 - 08:50

Не совсем понятен смысл - то-есть финнские языки не родственны другим уральским? На основании чего тогда сходство - на основании заимствованной лексики? Но ведь не просто так установили родство, к примеру, с самодийскими языками. Или этот восточный компонент - ананьинская культура сделала их родственными - в таком случае ее и можно считать прафинской..
Уважаемый Брут! Я поэтому и выложил здесь работу М.Г. Косменко, чтобы каждый заинтересовавшийся участник, мог самостоятельно с ней ознакоиться и сделать соответствующие выводы : "убедительно" либо " не убедительно".
В своей работе М.Г. Косменко оперирует не только данными археологии, но и приводит данные лингвистики с сответствующими ссылками на работы специалистов.
Прочтите работу М.Г. Косменко, полагаю Вы найдете ответы на многие поставленные Вами вопросы. При этом автор ничего категорически не утверждает, а лишь обозначает перспективу в направлении дальнейших исследований, после того как миграционная восточная гипотеза зашла в тупик.
#7

 Опубликовано 26 Январь 2012 - 23:01
Опубликовано 26 Январь 2012 - 23:01

Angela Marcantonio, The Uralic language family. Facts, myths and statistics. Publications of the Philological Society, 35. Oxford - Boston: Blackwell, 2002. 335 S.
Анжела Маркантонио вроде как поставила под сомнение само существование уральской семьи.
#8

 Опубликовано 31 Январь 2012 - 14:10
Опубликовано 31 Январь 2012 - 14:10

Все перечисленные культуры - автохтоны Восточной Европы, между ними неоспоримая преемственность. Причем преемственность эта тянется с мезолита.
А данные языка свидетельствуют о связях с языковыми семьями Алтая и прилегающих территорий.
#9

 Опубликовано 31 Январь 2012 - 19:19
Опубликовано 31 Январь 2012 - 19:19

Все перечисленные культуры - автохтоны Восточной Европы, между ними неоспоримая преемственность. Причем преемственность эта тянется с мезолита.
А данные языка свидетельствуют о связях с языковыми семьями Алтая и прилегающих территорий.
Да,Lana, Вы совершенно правильно понимаете проблему.
Нельзя сказать, что все археологические культуры на территории занятой западными финно-угорскими народами , начиная с мезолита автохтонны. Археологические данные свидетельствуют о множестве миграционных процессов , происходивших здесь еще с позднего палеолита и особенно в эпоху бронзы. Только все эти прослеженные перемещения древнего населения не имеют никакого отношения к Уральскому региону. А никаких свидетельств о миграционных инокультурных процессах с востока, с Уральского региона, с которыми можно было бы ( и необходимо) связать смену языка на западных территориях науке по сегодняшний день не известны. Полагаю, что и в будующем такие свидетельства обнаружены не будут, вероятно, по причине их объективного отсутствия.
На самом деле все инокультурные миграционные процессы прослежены достаточно четко. Ну вот, для примеров. В эпоху неолита , во времена бытования в Волго-Окском бассейне и на прилегающих территориях культурно-исторической общности ямочно-гребенчатой керамики, сюда из бассейна Десны проникают племена носители культуры ромбоямочной керамики (вероятно родственные носителям культуры ямочно-гребенчатой керамики) и распространяются далеко на север, в Карелию. В поздневолосовское время в Волго-Окском междуречье появляются носители культуры т. н. "лапчатой керамики", вероятно, отчасти потеснившие племена волосовской культуры (особенно это характерно для южных областей Волго-Окского региона). С их атрибутацией проблем не возникает: они генетически связаны с деснинской культурой ( снова Юго-Запад).
Продвижение племен фатьяновской культуры (индоевропейцы), поздняковской культуры (вероятно ираноязычные индоевропейцы),
абашевских племен ( индоевропейцы) - все это хорошо подтверждается данными археологии. Даже миграционный процесс носителей восточноприбалтийского варианта культуры сетчатой керамики в северо-западные области Русской равнины( уже в эпоху поздней бронзы) - и тот находит свое археологическое подтверждение. Возможно говорить о перемещении не очень значительной части потомков балановского варианта фатьяновской культуры со Средней Волги на запад - в Волго-Окское междуречье.
Иными словами, все перемещения инокультурного населения оставляют свои следы. А вот следов, свидетельствующих о передвижении населения из Уральского региона нет.
Точнее почти нет: единственным достоверно подтвержденным фактом миграции с востока и уже в железном веке является инфильтрация ананьинских элементов из Волго-Камья на северо-запад, что привело к сложению культуры южных саамов.
Отдельно нужно коснуться такого явления как сейминско-турбинский транскультурный феномен ( весьма неясной атрибутации).
Действительно распространение сейминско-турбинских племен происходило с востока (это тоже прослежено археологическим путем).
Но связать их с угро-финнами невозможно - это первое. Второе: врямя существования данной культуры очень небольшое и очень сомнительно, чтобы носители этой культуры могли повлиять хоть каким-то существенным образом на этнический состав древнего населения региона. Загадка еще и в том, что передовая для своего времени бронзовая металлургия сейминцев, а также не известные ранее типы бронзовых изделий ( их так и называют "изделия сейминского типа") были усвоены местным населением приблизительно лет через двести после исчезновения сейминцев , когда культуры типа приказанской и поздняковской вошли в систему Евразийской металлургической провинции.
Теперь что касается преемственности культур региона.
Преемственность -да, безусловно, но о ней я скажу позже.
Самое интересное еще и то, что в северной части Русской равнины от Восточной Прибалтики до Волго-Камья, пожалуй, со времен позднего палеолита возникает культурно-историческая общность/общности культур, эти общности никогда не теряли тесных связей друг с другом и продолжали существовать вплоть до сложения финно-угорских т.н. "городищенских культур".
Даже если взять сам Волго-Камский регион, где также обнаружены позднепалеолитические памятники, то исследователи последних лет сходятся во мнении, что хотя процесс сложения позднепалеолитической культуры и был отчасти самостоятельным, но происходил в недрах т.н. "постаренбургской" общности, при этом позднепалеолитическая культура Волго-Камья , вместе с другими культурами на обширном Восточно-Европейском пространстве составляла культурно-историческую общность, объединенную общими маркирующими признаками.
Я полагаю, что и все дело в этих культурно-исторических общностях. "Ключ" к решению проблемы где-то в них.
М.Г. Косменко в своей статье, выложенной выше, высказал очень правильную мысль: финно-угроязычность носителей археологических культур следует проверять путем генетической связи с культурами эпохи поздней бронзы ( потому что именно они генетические предшественники финно-угорских культур). Это возможно сделать путем исторической ретроспективы.
Если, к примеру, взять Верхневолжский регион, то культура эпохи поздней бронзы это культура сетчатой керамики. Ни у кого из исследователей не вызывает сомнения, что культура сетчатой керамики здесь была генетической предшественницей финно-угорской дьяковской культуры.
Последними исследованиями установлено, что основным компонентом для сложения культуры сетчатой керамики явились т.н. фатьяноидные древности. Доказано и влияние ираноязычной поздняковской культуры на формирование культуры сетчатой керамики. Возможно некоторое участие в этом процессе племен абашевской культуры (индоевропейцы). Ну и конечно культура включила в себя отдельные постнеолитические элементы ( это больше характерно для других регионов).
Происхождение фатьяноидных древностей явилось отражением процесса смешения в эпоху бронзы пришлого индоевропейского населения фатьяновской культуры с местными постнеолитическими племенами, прежде всего с племенами волосовской культуры.
Что касается волосовской культуры, то здесь - в Верхневолжском регионе ( именно его мы рассматриваем в отдельно взятом случае)
она, вероятно, возникает в результате смешения северо-западной валдайской и ей подобных культур и культуры ямочно-гребенчатой керамики, причем приоритет в этом процессе принадлежит последним.
Предшествующая волосовской культуре культура ямочно-гребенчатой керамики ( проще льяловской культуры) развивается на базе верхневолжской ранненеолитической культуры. Представляется, что многие спорные моменты в вопросе сложения т.н. льяловской культуры разрешены : весьма близкая льяловской, культура ямочно-гребенчатой керамики возникает также и на Левобережной Украине, соответственно на базе днепро-донецкой культуры. Правда, дальнейшего своего развития культура ямрчно-гребенчатой керамики на Украине не получает, по независящем от нее причинам.
Ну и наконец сама верхневолжская ранненеолитическая культура на Верхней Волге происходит от мезолитической бутовской культуры.
О мезолитических памятниках, я немного писал в своем первом сообщении. Надеюсь, в обозримом будующем будет доказана генетическая связь мезолита региона с познепалеолитическими памятниками Волго-Окского междуречья.Ну а пока вот такой очень краткий пример преемственности древних культур в конкретно взятом регионе.
- "Спасибо" сказали: Tora_sama
#10

 Опубликовано 08 Февраль 2012 - 10:08
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 10:08

К вопросу о происхождении культуры сетчатой керамики.
Начало эпохи бронзы на территории,заселенной западными финно-угорскими народами связано с миграцией носителей культуры
боевых топоров и шнуровой керамики. В более поздние периоды бронзового века территория от Восточной Прибалтики (включая
восточные районы Латвии и Эстонии) до Средней Волги и от северных областей Фенноскандии до Примокшанья и истоков Дона,
оказывается занята группами родственных племен сетчатой керамики, иначе культурно-исторической общностью сетчатой керамики.
Свое название культура получила от своеобразного узора на керамических изделиях, похожего на мелкую сетку. Такой узор наносился по сырому тесту глины путем отпечатков ткани (текстиля), часто поставленными и перекрещивающимися оттисками гребенчатого штампа, шнуром или веревочкой, намотанной на штамп и т.п. Нередко поверх этого оригинального узора налагался другой орнамент: круглые выпуклины с внешней стороны сосудов, особенно в их верхней части- т.н. "жемчужины", оттиски гребенчатого штампа и их композиции, ямки, ямчатые вдавления, композиции из ямок и пр. Развитие керамических традиций шло от
круглодонных сосудов к увеличению плоскодонных, а также увеличению сетчатых отпечатков, выполненных путем наложения ткани.
Среди исследователей наблюдается индивидуальный подход к термину для обозначения данной культуры: "сетчатая", ложнотекстильная", "текстильная". Лично мне представляется более правильным применение термина "сетчатая", поскольку термин
"текстильная" в большей степени применим к древностям железного века.
У всех исследователей древнейшей истории не вызывает сомнений финно-угорский характер данной культуры, поскольку установлена ее генетическая связь с более поздними финно-угорскими культурами железного века.
Рисунок 1. Сетчатая керамика и сосуд ранней дьяковской культуры.

В процессе новых исследований было установлено местное автохтонное происхождение данной культуры для ряда регионов:
Восточной Прибалтики, Юго-Западной Финляндии, Северо-Западной части России и районов Верхней Волги (К.В. Воронин, 1998).
Еще раньше к выводу о местном и очень древнем возникновении сетчатой керамики в Лубанской низменности (Восточная Латвия)
пришла И.Е. Лозе (И.Е. Лозе, 1979). По мнению автора, ранняя сетчатая керамика здесь представляет единое культурное явление
с поздненеолитической пористой керамикой.
За период изучения, отчетливо вырисовалась картина, что в ранних сетчатых древностях Северо-Запада Европейской равнины, Восточной Прибалтики и Верхней Волги прослеживается т.н. "фатьяноидный" след.
Впервые на данный факт обратил внимание еще Д.А. Крайнов (Д.А. Крайнов, 1972, стр.36,38,80). Его наблюдения нашли
подтверждение и в выводах других исследователей, в частности Г.М. Бурова ( Г.М. Буров, 1991, стр.135-136), М.Г. Косменко (М.Г. Косменко, 1991, стр. 148; М.Г. Косменко, 1992, стр. 154-160), С.В. Ошибкиной ( С.В. Ошибкина, 1987, стр. 148,155) и др.
"Фатьяноидными древностями" в археологической литературе принято называть гибридные культурные образования, возникшие в результате контакта и смешения пришлого населения шнуровой фатьяновской культуры, местных постнеолитических племен,
других синхронных культур нешнуровой общности. Фатьяноидная керамика сочетает в себе как фатьяновские признаки, так и характерные особенности, присущие керамике этих иных культур.
Рассматривая проблему происхождения культуры сетчатой керамики на Северо-Западе Русской равнины, М.М. Юшкова
( М.М. Юшкова, 2011, стр.8) пришла к заключению, что здесь также возникают памятники на основе синтеза фатьяновской культуры с постнеолитическими племенами.
В Приильменье, на поселениях Усть-Рыбежна-2 и сяберская -3 обнаружена типично фатьяноидная керамика, покрытая сетчатыми отпечатками. Такую керамику М.М. Юшкова называет "гибридной", т.е. переходной от фатьяноидных древностей к ранней стадии культуры сетчатой керамики.
Полные аналогии такой «гибридной» керамике имеются в Эстонии, в частности на поселении Кулламяги (М.М. Юшкова, 2011, стр.8).
Среди элементов орнамента вышеуказанной керамики с поселения Усть-Рыбежна-2 встречаются т.н. "жемчужины", композиции из оттисков гребенчатого штампа, из ямок и ямчатых вдавлений, прочерченный орнамент, схематичные изобоажения водоплавающих птиц ( М.М. Юшкова, 2011, стр.11). Последнее обстоятельство особенно интересно в свете финно-угорской мифологии.
В настоящее время вопрос о происхождении культуры сетчатой керамики лучше всего изучен для областей Восточной Прибалтики и Северо-Запада Европейской части Русской равнины, Верхней Волги соответственно он представляется и более обоснованным.
Правильная мысль принадлежит С.В. Кузьминых ( С.В. Кузьминых, 2001, стр.14). Позволю себе ее процитировать полностью:
" ...процессы взаимодействия скотоводов "шнуровиков" с постнеолитическими группами охотников и рыболовов охватили зону
широколиственных лесов и южную кромку тайги Восточной Европы. Археологическое выражение этого процесса документируется
древностями типа Kiukaiskultur в Южной Финляндии, древней штрихованной керамики в Северной Белоруссии и в Балтийских
странах, т. н. фатьяноидных или галичских в центре Русской равнины и чирковских в Волго-Камье."
Вообще можно говорить, что культура сетчатой керамики возникает там, где есть т. н. фатьяноидные древности ( либо их относительный аналог) и где эти древности имеют дальнейшую прямую линию развития, например на Северо-Западе Русской
равнины, на Верхней Волге, в ряде регионов Восточной Прибалтики и Южной Финляндии — здесь доказано автохтонное, очень древнее, происхождение данной культуры. В тех регионах, где нет фатьяноидных древностей (например некоторые районы Карелии и Финляндии — особенно северные и т. д.), либо где прямая линия развития фатьяноидных древностей прерывается ( например
районы Средней и Нижней Оки, в которые наблюдается мощное проникновение носителей шагарской, поздняковской и пр. культур),
там не наблюдается зарождение культуры сетчатой керамики, ее носители проникают в эти регионы позднее.
Понятно, что в данном случае и сам субстрат в сложении подобных древностей должен был быть уже финно-угорским, поскольку носители культуры боевых топоров принадлежат к индоевропейской языковой семье. Следовательно в этих регионах побеждает
побеждает местный языковой субстрат.
В связи с вышеизложенным не может не возникнуть следующий вопрос: почему в северных ареалах распространения гибридных образований «шнуровиков» с местными и иными культурами возникает культура сетчатой керамики — финно-угорская, а в более южных и юго-западных областях в результате такого же смешения таких же "шнуровиков" индоевропейцев с местным населением
появляются иные, возможно протобалтские индоевропейские культуры?
В рамках наших сегодняшних знаний однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Возможно, в этих районах мигранты лучше адаптировались к природной среде. Возможно иное объяснение. Не хочу делать каких-нибудь далеко идущих выводов, но не
стоит забывать, что еще до появления носителей культуры шнуровой керамики, здесь побывали и носители культуры шаровидных амфор. С ними, местные племена также взаимодействовали. Есть и археологические подтверждения этого взаимодействия: например памятники «вальдбургского типа» в Юго-Западной Прибалтике, гибридные образования в Литве, возможно в Белоруссии. Процесс
взаимоотношений местного населения и носителей культуры шаровидных амфор на Брянщине и части Смоленской области не изучен вообще. Стоит и вспомнить археологически подтвержденный факт оттока местного населения из бассейнов Верхнего Днепра и
Десны в Волго-Окское междуречье. Причем таких процессов было два: более ранний и более поздний. Какими причинами объяснить эти процессы? С более ранним миграционным процессом пока ясности нет.Более поздний, по времени совпадает с прочным
прочным обоснованием «шнуровиков» в этих регионах.
Еще раз подчеркиваю, что я не делаю далеко идущие выводы, но все это дает пищу для основательных размышлений.
Теперь следует вернуться к основной теме.
Что касается абсолютных датировок по С14 для культуры сетчатой керамики, то их, к сожалению, мало.
Например, для ряда регионов Карелии распространение культуры датируется в диапазонах 3600-2500-2250 л.н. (не каллиброваны), ( М.Г. Косменко, 2006, стр.196). Для Верхневолжского региона ( поселение Сахтыш-II в Ивановской обл.) имеется дата 1330+-40 л. до н.э. ( не каллибрована)( Д.А. Крайнов и др., 1991, стр.36) , т.е. на сегодняшний день это приблизительно 3340 л.н.,
очень рано- не позднее I половины II т.л. до н.э. датируется сетчатая керамика с поселения Ивановское-III в Ярославской обл. (Д.А. Крайнов, 1991). Две даты для культуры для культуры
сетчатой керамики происходят с поселения Усть-Рыбежна -2 (Приильменье): 3250+-80 В.Р. и 3180+-80 В.Р. (не каллиброваны) (М.М. Юшкова, 2011, стр.11).
Отдельно следует сказать о датировках т. н. «гибридной» керамики: фатьяноидной по виду, но орнаментированной сетчатыми
отпечатками. По радиоуглеродным датам, происходящим с поселения Кулламяги в юго-восточной Эстонии и поселения Сяберская-3 (Приильменье) М.М. Юшкова считает возможным определить ее диапазон 2300-1680 гг. до н.э. ( не каллиброваны) ( М.М. Юшкова,
2011, стр.8).
Однако смущает и сам большой хронологический разброс и очень ранняя, по моему мнению, первая дата. Конечно, можно допустить,
что процесс "гибридизации" начался в Восточной Прибалтике существенно раньше, учитывая очень древнюю пористую сетчатую
керамику, происходящую с поселений Лубанской равнины ( И.А. Лозе, 1979). Но, вероятно, эти даты требуют дальнейшего
уточнения. Думаю, следует согласиться с М.М. Юшковой ( М.М. Юшкова, 2011, стр.11), которая полагает, что возникновение
культуры сетчатой керамики происходило в первой половине II т.л. до н.э., а ее расцвет в середине-второй половине II т.л. до н.э..
Интересные выводы сделаны К.В. Ворониным ( К.В. Воронин, 1998). Автором отмечено появление восточноприбалтийской , точнее восточнолатвийской ( с территории Лубанской низменности в Латвии ) пористой керамики, украшенной сетчатыми отпечатками
на ряде поселений Северо-Запада Европейской части России, в частности на поселении Стан-I Удомельского р-на Тверской обл.
Это, по его мнению, привело к законченному сложению на большом пространстве от Восточной Прибалтики до ряда районов Волго-Окского междуречья культуры сетчатой керамики.
Представляется вполне вероятным , что в генезисе сетчатой керамики можно допустить и абашевский след, не везде, но во всяком случае для Верхнего Поволжья. Но, скорее всего, более правильно говорить не о непосредственном участии абашевской культуры в
ее формировании , а опосредованно, через все те же фатьяноидные древности.
Изучение фатьяноидной керамики Сахтышских стоянок ( Ивановская обл.), позволило О.С. Гадзяцкой разделить обнаруженную там
керамику на две группы (О.С. Гадзяцкая, 1992, стр.127-135). К первой группе относится керамика без органических примесей
в тесте глины.
Обращают на себя внимание фрагменты керамики, отнесенной к данной группе с т. н. «жемчужинами»,ямками, ногтевыми вдавлениями. Помимо фатьяновского влияния, в этой группе керамики, по мнению О.С. Гадзяцкой , прослеживаются и некоторые элементы орнамента, близкие к абашевским, например лесенка и т.п.. К этой же группе керамики отнесен фрагмент фатьяноидного сосуда с изображением уточек, плывущих по воде друг за другом (sic!). Изображение выполнено оттисками гребенчатого штампа.
Вторая группа керамики это фрагменты фатьяноидных сосудов с примесью раковины и органики в тесте глины.
В отличии от первой группы орнаментация ее плотная и насыщенная. В подавляющем большинстве случаев орнамент выполнен
оттисками гребенчатого штампа : зигзаги, горизонтальные параллельные линии, короткие оттиски гребенчатого штампа. Изредко
встречаются другие элементы орнамента : елочка, косая решетка, заштрихованные треугольники, оттиски веревочки. Еще реже — прочерченные линии и различные вдавления.
Среди данной группы керамики имеются два фрагмента сосуда с изображением змеи и рыбы.
О.С. Гадзяцкая справедливо предполагает, что нет оснований разделять эти два типа керамики на какие-то самостоятельные культурные группы ( О.С. Гадзяцкая, 1992, стр.138).
Указанное выше изображение рыбы, точнее некоторые детали передачи ее образа, согласно О.С. Гадзяцкой ,сопоставимы с
изображением рыб из абашевского Кухмарского могильника, расположенного неподалеку от Сахтышских стоянок — в Ярославской обл.. Сам сосуд из Кухмарского абашевского могильника по своей форме близок к фатьяноидной керамике Сахтышских стоянок
( О.С. Гадзяцкая,1992, стр.136). Кухмарский могильник относится к локальным, т.н. "лесным дерриватам" абашева.
В орнаменте фатьяноидной керамике Сахтышских стоянок в какой-то степени проявляются черты влияния абашевской культуры, а сама примесь раковины в тесте глины весьма характерна для абашевской культуры. Полагаю влияние было. Не вызывает сомнений и сильное обратное воздействие восточного варианта (балановского) фатьяновской культуры на саму абашевскую культуру (В.В. Ставицкий, 2008,стр.62-63).
Но наибольшее сходство ( но не тождественность) рассматриваемая фатьяноидная керамика имеет с керамикой т. н. чирковских
древностей на Средней Волге( гибридных фатьяноидных для восточного балановского варианта фатьяновской культуры).Подобная фатьяноидная керамика присутствует на целом ряде поселений Тверской,Ярославской, Московской, Ивановской, Костромской
областей. Имеется она и на некоторых стоянках Средней Оки (Ибердус-I, Черная Гора). Можно говорить, что такого рода памятники, в целом, немного предшествуют поздняковским древностям. О.С. Гадзяцкая совершенно справедливо подчеркивает, что появление
такого рода памятников в Верхневолжском регионе не следует связывать с массовым продвижением собственно носителей чирковских традиций на запад. Скорее всего мы здесь имеем дело со сложением сходных культур на фатьяновской основе, в результате ее взаимодействия с постнеолитическими и энеолитическими племенами ( О. С. Гадзяцкая, 1992, стр.139). Иными словами это постфатьяновская культурно-историческая общность.
Для фатьяноидных древностей Верхнего Поволжья имеются радиоуглеродные даты ( не каллиброваны) в диапазоне 3390+-60 л.н.
- 3600+-60 л.н. (А.С. Алешинская и др.,2000, стр.355; К.В. Воронин, 2000, стр.380).
На Сахтышских стоянках и других Верхневолжских памятниках , горизонты кульурного слоя, содержащие фатьяноидную керамику непосредственно перекрываются горизонтами слоя с ранней сетчатой керамикой.
Рисунок 2. Абашевские сосуды . Фатьяноидный сосуд и фатьяноидная керамика (Верхнее Поволжье)

Отдельно следует рассмотреть вопрос о взаимооношениях культуры сетчатой керамики с носителями поздняковской культуры.
Рисунок 3. Керамика поздняковской культуры.

Поздняковская культура сыграла большую роль в древнейшей истории лесной зоны Европейской части России.
Вероятно, именно в ее среде и под ее влиянием завершился окончательный переход к производящим формам хозяйства в регионе, наверное даже к окончательным формам подсечного земледелия.
Происхождение поздняковской культуры связывается с сегментацией срубных племен и продвижением их на северные территории
при этом допускается участие в сложении культуры и каких-то местных элементов ( О.Н. Бадер и др., 1987, стр.131- 135). Е.Д.Каверзнева ( Е.Д. Каверзнева,1994) предполагает сложение поздняковской культуры путем смешения срубной основы с
шагарской культурой бронзового века. В данном случае, аргументы,которыми оперирует автор,не позволяют делать столь далеко
идущие выводы, правильнее говорить о включении отдельных представителей шагарской культуры в поздняковские коллективы.
В.В. Ставицкий для ранней поздняковской культуры усматривает существование в ней досрубного субстрата, который он связывает
с катакомбными древностями Верхнего Дона ( В.В. Ставицкий, 2004, стр.10-11).
Критический разбор всех этих предположений не входит в мои задачи в данном сообщени. Здесь принципиально следующее: все исследователи сходятся во мнении о ведущей роли в развитии поздняковской культуры срубных индоевропейских племен, и если
в сложении этой культуры принимали участие и другие культуры, то речь идет о степных и лесостепных южных культурах,
в т.ч., вероятно, индоевропейского круга (катакомбная культура).
Иными словами, на момент своего появления в Волго-Окском междуречье племена поздняковской культуры никак не могли быть
финно-угорскими.
Основной ареал памятников поздняковской культуры на юге включает в себя бассейн Средней и Нижней Оки, на севере доходит до северных границ Костромской и южных границ Вологодской областей, на востоке они достигают правогоберега Средней Волги,
на западе основная граница проходит где-то по западным районам Московской и северо- восточным районам Калужской области.
Исследователями давно было отмечено появление сетчатых отпечатков на керамике собственно поздняковской культуры.
Например, К.А. Смирнов отметил, что т. н. сетчатые отпечатки на поверхности сосудов можно разделить на две группы: сетка,
наложенная путем отпечатков тканей или нитей и сетка выполненная оттисками гребенчатого штампа. По его мнению, сетка первой
группы преобладает в регионе Средней Оки, а на памятниках Верхней Волги господствует сетка второй группы.
К.А. Смирнов сделал выводы, что сетка, нанесенная на поверхность сосудов путем наложения ткани или нитей впервые появляется
на памятниках поздняковской культуры, в то время как появление сетчатых отпечатков, нанесенных при помощи гребенчатого
штампа следует связывать с местными постнеолитическими племенами. По мнению К.А. Смирнова, первоначальные регионы появления сетчатых отпечатков различны и независимы друг от друга и представляют самостоятельные явления (К.А. Смирнов, 1983,
стр.309).
Сегодня с этими выводами согласиться нельзя.
Выше приводились примеры, что древнейшие сетчатые отпечатки на поверхностях сосудов, выполненные наложением ткани, появляются в Восточной Прибалтике — это первое. Второе: в самой поздняковской культуре, а также во всех степных и лесостепных
археологических культурах, которые явились, либо могли явиться компонентами для сложения поздняковской культуры, это явление
не имеет генетических корней.
На керамике поздняковской культуры встречаются обе группы данного орнамента: как выполненные оттисками гребенчатого штампа,так и отпечатками тканей. По наблюдениям, увеличение сетчатых опечатков на керамике поздняковской культуры совпадает со временем начала ее максимального распространения в северном направлении (О.Н. Бадер и др., 1987, стр.135).
Скорее , есть все основания говорить о влиянии культуры сетчатой керамики на поздняковскую культуру, поскольку никаким другим
культурам данный тип орнамента не свойственнен. В процессе развития самой культуры сетчатой керамики также наблюдается
увеличение отпечатков,нанесеных при помощи наложения ткани. Таким образом можно говорить о каких-то локальных и
стадиальных различиях, степени влияния на различных временных отрезках и т. п. При этом определяющей линией развития поздняковской культуры в Волго-Окском регионе является ее взаимоотношения с культурой сетчатой керамики.
Других линий развития культуры в пределах региона мы не знаем.
Примером контакта носителей поздняковской культуры с носителями культуры сетчатой керамики может служить погребальный
комплекс Дикариха в Ярославской обл., поздняковская составляющая которого которого отнесена исследователями к среднему
этапу развития поздняковской культуры ( О.Н. Бадер и др., 1987, стр.135).
Здесь также обнаружены и глиняные сосуды относящиеся к культуре сетчатой керамики ( А.Л. Никитин, 1973, стр.161, рис.3).Есть подобные сосуды в поздняковском могильнике Фефелов Бор под Рязанью и др. памятниках.
В керамике обеих культур имеются и иные схожие элементы орнамента, особенно интересны выпуклины — т. н. "жемчужины".
Что касается подобных орнаментальных мотивов на керамике поздняковской культуры, то их истоки В.В. Ставицкий предполагает в катакомбных древностях, либо даже в дерриватах среднеднепровской поселенческой керамики ( В.В. Ставицкий,2004, стр.10-11).
Разбор всех этих предположений не входит в мои задачи. Очевидно одно: орнамент в виде «жемчужин» появляется в поздняковской культуре рано и не под влиянием культуры сетчатой керамики.
А вот как появился такой орнамент в культуре сетчатой керамики? В этой связи стоит вспомнить, что «жемчужины» известны на
керамике позднешнуровых/постшнуровых культур Восточной Прибалтии (Д.А. Крайнов и др., 1987, стр.178, рис.22).
Имеется такой орнамент и на фатьяноидной керамике, о чем я упоминал выше. Наконец, такой орнамент присутствует и на керамике ранних поселений сетчатой культуры на Северо-Западе Русской равнины и в Эстонии ( Кулламяги), куда носители степных и
лесостепных традиций не проникали. Скорее всего данный орнамент - продолжение постшнуровых орнаментальных традиций.
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что орнамент в виде «жемчужин» в поздняковской культуре и культуре сетчатой керамики имеет самостоятельное происхождение и, вероятно, не связан с взаимным влиянием культур друг на друга.
Своего прямого продолжения в Волго-Окском регионе поздняковская культура не имеет.Поздняковские племена были частично ассимилированы, а частично вытеснены за пределы региона носителями культуры сетчатой керамики.В разных областях этот процесс протекал в разное время и по разному. Во всяком случае, даже на Средней Оке, поздняковская культура прекращает свое существование приблизительно в XIII в. до. н.э., по радиоуглеродным датам (не каллиброваны) более поздние материалы здесь
не известны (В.В.Ставицкий и др., 1997).
Древности с сетчатой /текстильной керамикой обнаружены и в Среднем Поволжье, а также западных районах Волго-Камья . Первоначально этот процесс связывался с приказанской культурой, в частности на ее атабаевском этапе развития. А.Х. Халиков
объяснял это влиянием на приказанскую культуру родственных поздняковских племен ( А.Х. Халиков, 1980, стр.39).
В настоящее время исследователи отказались от концепции А.Х. Халикова о единой приказанской культуре. Так называемый
атабаевский этап выделяется в самостоятельную культуру. Доказано сосуществование в регионе ранних атабаевских и текстильных древностей, круглодонная керамика которых рассматривается в качестве катализатора при сложении маклашевской посуды (С.В. Кузьминых и др., 1999, стр.39-43;С.В Марков, 1995, стр. 177-178; Б.С. Соловьев, 1995, стр.79-80). Появление здесь сетчатой
керамики, по-видимому, следует связывать с западными регионами.
В этой связи необходимо сказать несколько слов о чирковской (фатьяноидной культуре) региона, имеющей определенное сходство
с фатьяноидными древностями Волго-Окского бассейна. Последние исследования позволяют несколько по-иному взглянуть и на сам процесс формирования фатьяноидных древностей на Средней Волге и, отчасти в в Волго-Окском регионе.
Складывается впечатление, что помимо традиционной схемы их сложения на основе взаимодействия фатьяновской культуры и ее
вариантов с местным населением, в данном процессе принимало участие и Примокшанское ( иванобургское) население лесо-степного
происхождения (В.В. Ставцицкий, 2006, стр.38). Влияние лесо-степных элементов в большей степени проявляется на Средней Волге и гораздо в меньшей степени в Волго-Окском междуречье.
Линия же развития чирковской (фатьяноидной) культуры на Средней Волге и Волго-Камье другая, отличающаяся от Волго-Окского
региона. Прежде всего , исследователями отмечается активное взаимодействие части чирковского населения с носителями т. н. «валиковой керамики» (А.Х.Халиков, 1987, стр.138-139). Происхождение носителей «валиковой керамики» связывают с сейминско-турбинским импульсом (Б.С. Соловьев, 2009, стр.93). В еще большей стенени проявляется влияние т.н. вольско-лбищенских древностей ( В.В. Савицкий, 2006, стр.41). Последнее - отдельный вопрос и его рассмотрение надолго отвлечет от темы.
Об антропологическом типе носителей культуры сетчатой керамики нам практически ничего не известно, по крайней мере на ее
ранней стадии. Краниологические материалы, которые с уверенностью можно было бы отнести к носителям данной культуры пока не обнаружены.
Череп из Старшего Волосовского могильника характеризуется присутствием лапаноидных черт (Г.Ф. Дебец, 1948, стр.87). Однако
сам могильник отражает позднююю синкретизацию культуры сетчатой керамики, поздняковской и восточной культуры приказанского типа.
Представляется, что антропологический тип носителей культуры сетчатой керамики должен соответствовать антропологическому типу
данных регионов эпохи бронзы в целом, т. е. быть смешанным, где присутствуют как европеоиды,так и особи с большим или меньшим присутствием лапаноидных черт.
И в заключении, данные, которыми мы располагаем на сегодняшний момент, позволяют сделать следующие выводы. Наиболее раннее проявление сетчатых отпечатков на керамике наблюдается в Восточной Прибалтике.
Первоначально культура сетчатой керамики возникает на Северо-Западных территориях Восточной Европы, на Верхней Волге, в
Восточной Прибалтике и Южной Финляндии,занятых постшнуровой культурно-исторической общностью. И только там, где данная
общность имеет прямую и неприрывную линию развития.
В тех регионах, где отсутствуют постшнуровые древности ( северные районы Карелии и Финляндии), или же где линия их развития
была прервана (бассейн Средней и Нижней Оки - мощным притоком поздняковских племен), либо где постшнуровые древности
претерпевают сильное инокультурное влияние (Средняя Волга, Волго-Камье) там культура сетчатой керамики не имеет генетических корней.В этих областях она появляется позднее в результате миграционных процессов.
В сложении варианта культуры сетчатой керамики на Северо-Западе России и на Верхней Волге существенное участие приняло древнее население Восточной Прибалтики.
Сравнительный анализ пластов древней культуры и топонимики позволяет заключить, что культура сетчатой керамики вероятнее
всего соотносится с древним, иначе «волжским» или «волго-окским» слоем гидронимов Карелии и более южных областей лесной
зоны. Вообще ареалы этого пласта топонимики и культуры сетчатой керамики практически совпадают ( М.Г. Косменко, 2006, стр.204).
Вероятно именно население этой культуры послужило основным субстратом для окончательного формирования этносов западных финнов уже в железном веке.
В.В. Напольских считает, что общие истоки этнической истории западных финно-угров (финно-волжских) народов следует
связывать в том числе и с данной культурой ( В.В. Напольских, 1997, стр.191). И с этим нельзя не согласиться.
Метод исторической ретроспективы дает основание полагать, что население постшнуровой общности, явившейся генетическим предшественником культуры сетчатой керамики было уже финно-угроязычным. Косвенным подтверждением этого могут служить и
данные археологии ( характерные изображени уточек на сосудах).
В археологической литературе неоднократно высказывалась мысль, что финно-угроязычность древних культур лесной зоны Европейской России следует проверять путем исторической ретроспективы их генетической связи с культурой сетчатой керамики,
что я и постараюсь сделать в следующих сообщениях.
Литература:
А.С. Алешинская, Е.А. Спиридонова. Периодизация эпохи бронзы лесной зоны Европейской России./ Тверской Археологический сборник, вып.1, т.1, Тверь 2001.
О.Н. Бадер, Т.Б. Попова. Поздняковская культура./Археология СССР. Бронзовый век лесной полосы СССР. М.1987
Г.М. Буров.Поселения абашевской традиции на крайнем Северо-Востоке Европы. /АЭМК вып.19.Йошкар-
Ола 1991
К.В. Воронин. К вопросу о происхождении и развитии сетчатой керамики./ Тверской Археологический сборник,
вып. 3, Тверь 1998.
О.С. Гадзяцкая.Фатьяновский компонент в культуре поздней бронзы (Волго-Клязьминское междуречье) / СА №1
М.1992
Г.Ф. Дебец. Палеоантропология СССР. М.Л. 1948
Е.Д. Каверзнева. Керамика Озерной Мещеры эпохи энеолита-ранней бронзы./Древности Оки. Труды ГИМ, вып.
85. М.1994.
М.Г. Косменко.Происхождение культуры и хронология памятников периода бронзы в Карелии. /Хронология
и периодизация археологических памятников Карелии. Петрозаводск 1991.
М.Г. Косменко. Многослойные поселения Южной Карелии. Петрозоводск 1992.
М.Г. Косменко. Проблемы изучения этнической истории бронзового века-раннего Средневековья Карелии./Проблемы этнокультурной истории населения Карелии ( мезолит-средневековье). Петрозаводск 2006.
Д.А. Крайнов. Древнейшая история Волго-Окского междуречья. М.1972
Д.А. Крайнов, И.Е. Лозе. Культура шнуровой керамики и ладьевидных топоров в Восточной Прибалтике./ Археология СССР. Бронзовый век лесной полосы СССР. М.1987.
Д.А. Крайнов. К вопросу о происхождении культуры ямочно-гребенчатой керамики. / Вопросы археологии Верхнего Поволжья. Н.Новгород 1991.
Д.А. Крайнов,Г.И.Зайцева, Е.Л. Костылева, А.В. Уткин. Абсолютная хронология Сахтышских стоянок./ АПВМК
вып.5. Иваново 1991.
С.В. Кузьминых, В.Н. Марков, Б.С. Соловьев. Некотрые дискуссионные проблемы археологии позднего бронзового и раннего железного века Среднего Поволжья./Проблемы взаимодействия населения лесной и лесостепной зон
восточноевропеского региона в эпоху бронзы и раннем железном веке. Тез. доклада. Тула 1999.
С.В. Кузьминых. О некоторых дискуссионных проблемах бронзового века Среднего Поволжья./Вопросы древней истории Волго-Камья. Казань 2001.
И.Е. Лозе. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. Рига, 1979.
В.Н. Марков.Археологические исследования в Приказанском Поволжье./АМЭК, вып.24. Йошкар-Ола 1995
В.В. Напольских. Введение в историческую уралистику. Ижевск 1997.
А.Л. Никитин. Могильник Дикариха на Плещеевом озере ( раскопки 1961 и 1964 гг.)/ СА№2 .М.1973
С.В. Ошибкина. Энеолит и бронзовый век Севера Европейской части СССР. / Археология СССР. Бронзовый
век лесной полосы СССР. М.1987.
К.А. Смирнов. О двух районах появления сетчатой керамики. Тез. доклада на V Международном конгрессе финно-угроведов./ СА №1. М.1983.
Б.С. Соловьев. О появлении «текстильной керамики» в Среднем Поволжье. /АЭМК, вып.24. Йошкар-Ола 1995.
Б.С. Соловьев. Сейминско-турбинская проблема./ Научный Татарстан, вып.2, Казань 2009
В.В. Ставицкий, В.П. Челяпов. Керамика с ямчато-жемчужной орнаментацией на Верхней Суре и Мокше./Археологические памятники Среднего Поочья. Сб.научных трудов. Рязань 1997.
В.В. Ставицкий.Памятники катакомбной культуры Сурско-Мокшанского междуречья/ Археология Восточноевропейской лесостепи. Пенза 2004
В.В. Ставицкий. Неолит, энеолит и ранний бронзовый век Сурско-Окского междуречья и Верхнего Прихоперья: динамика взаимодействия культур севера и юга в лесной зоне. Автореферат докторской диссертации. Ижевск 2006.
В.В. Ставицкий.О некоторых дискуссионных проблемах изучения лесной полосы Среднего Поволжья в бронзовом веке./ Археология Восточноевропейской лесостепи, вып.2, т.2, Пенза 2008.
А.Х. Халиков. Чирковская культура./Археология СССР. Бронзовый век лесной полосы СССР. М.1987.
М.М. Юшкова. Эпоха бронзы и ранний железный век на Северо-Западе России. Автореферат каедидатской диссертации. СПб 2011.
- "Спасибо" сказали: Tora_sama
#11

 Опубликовано 05 Март 2012 - 00:32
Опубликовано 05 Март 2012 - 00:32

ВОЛОСОВСКАЯ КУЛЬТУРА.
Волосовская культура и этнокультурная ситуация в позднем неолите - раннем бронзовом веке на территории западных финно-угорских народов ( середина III- начало II т.л. до н.э.)
Часть I. Племена волосовской культуры ( краткий обзор).
Если судить по некалиброванным датам по С14, то к середине III т.л. до н.э., территория от границ Восточной Прибалтики на западе, до Средней Волги и Камы на востоке и от Пензенской области на юге до Вологодской области на севере оказывается занята племенами волосовской культуры. Вообще северную границу распространения волосовской культуры установить крайне проблематично: диффузное распространение волосовских памятников наблюдается и на севере Вологодской области, имеются они даже на берегу Белого моря в Архангельской области (стоянка Кузнечиха на окраине г.Архангельска), а в юго-восточных и центральных областях Финляндии, а также в Карелии существуют синхронные памятники с пористой керамикой, весьма близкие как волосовским, так и восточноприбалтийским.
Территория компактного обитания племен волосовской культуры на протяжении ее развития не была постоянной, а в самой культуре прослеживаются и локальные варианты. Д.А. Крайнов предварительно насчитывал не менее пяти таких вариантов: верхневолжский, окский, средневолжский, западный и северный ( Д.А. Крайнов, 1987, стр.12,17). В настоящий момент представляется, что таких локальных вариантов могло быть даже немного больше.
Как и для всех неолитических культур, одним из главных показателей для волосовской культуры является керамика.
Рисунок 1. Керамика волосовской культуры ( по Д.А. Крайнову)
Рисунок 2. Керамика волосовской культуры с примесью раковины


Рисунок 3. Миниатюрные сосуды волосовской культуры. Сосуд волосовской культуры.



Рисунок 4. Поздняя волосовская керамика с органической примесью

Волосовская керамика характеризуется примесью толченой раковины в тесте глины, либо органической примесью, а также смешанной примесью на основе этих двух исходных компонентов.Ранее считалось, что примесь толченой раковины в тесте глины более характерна для всех памятников ранней стадии волосовской культуры. Но в настоящий момент это представляется справедливым только для окского и верхневолжского вариантов культуры. А, например, для средневолжского варианта волосовской культуры, примесь органики в тесте глины наблюдается не только на ранних этапах самой культуры, но и еще раньше - в т.н. протоволосовских комплексах ( В. В. Никитин, 2008, стр. 152-166).
Сложнее обстоит дело с северным и северо-западным вариантами собственно волосовской культуры, ввиду их недостаточной изученности. Пока складывается предварительное впечатление, что ситуация здесь напоминает ситуацию с синхронными "волосоидными" культурами Восточной Прибалтики, где уже на ранних этапах развития культуры, в тесте глины присутствует и примесь раковины и примесь раковины в сочетании с органической примесью и органическая примесь ( Н.Н. Гурина, 1996, стр.152). Причем, следует заметить, что примесь органики в тесте глины, для Прибалтики имеет очень древние традиции.
Но в целом, процесс развития волосовской керамики идет по увеличению именно органической примеси в тесте глины. Следует еще отметить, что на севере и северо-западе тесто глины некоторых волосовских сосудов содержит еще и примесь асбеста ( Д.А. Крайнов, 1987, стр.27).
Волосовские сосуды имеют полуяйцевидную и котловидную формы,с округлым дном, есть сосуды с прямыми стенками, сужающимися ко дну. Изредко встречаются уплощенные днища. Обнаружены миниатюрные сосуды и миски. В процессе развития волосовской керамики обнаруживается тенденция к увеличению толщины стенок сосудов и утолщению их венчиков, появляется штриховка на внешней поверхности сосудов. В очень позднее время появляются Г-образные и Т-образные венчики, а также сосуды горшковидного типа с плоским дном.
В орнаментации волосовских сосудов выделяется несколько элементов: орнамент, нанесенный оттисками гребенчатого штампа, всевозможные ямочные и ямчатые вдавления, орнамент, нанесенный при помощи оттисков т.н. "рамчатого штампа", веревочный орнамент, линейный или нарезной орнамент, кружковый орнамент, нанесенный при помощи оттисков полой кости.
Гребенчатый штамп бывает крупным, средним, мелким, частым, редким и т.д. Сами оттиски этого штампа - короткие, длинные, узкие и широкие. Отпечатки гребенчатого штампа образуют различные узоры: горизонтальную елочку, "шагающую гребенку", вертикальные зигзаги, решетку, а также сложные композиции.
Другой элемент орнамента - всевозможные ямочные и ямчатые вдавления: крупные бесформенные вмятины, крупные и мелкие ямки в т.ч. и конической формы, вдавления треугольные, овальные, каплевидные, ямчатые парные. Часто этот орнамент образует сложные композиции.
Узоры, выполненные рамчатым штампом представляют вертикальный и горизонтальный зигзаг, косые или прямые линии, решетку и т.п.
Веревочный орнамент представляет собой короткие отпечатки шнура, намотанного на палочку. Эти оттиски образуют самые различные узоры.
Нарезной орнамент представляет из себя короткие косые насечки, длинные и короткие линии, образующие ромбы, треугольники, зигзаги и т.п.
Часто присутствует кружковый орнамент, нанесенный полой костью.
Нередко наблюдается сочетание двух и более типов орнамента на одном сосуде. Орнамент на волосовских сосудах располагается по всему тулову, но он не сплошной.
Кремневый инвентарь волосовской культуры отличается высокой техникой обработки.Но при этом, типично волосовских форм изделий не существует- все эти формы изделий из камня известны и в предшествующий период в културах ямочно-гребенчатой керамики.Здесь имеются полные основания говорить о приемственности каменного инвентаря волосовской культуры от предшествующей культуры ямочно-гребенчатой керамики. Данный вопрос неоднократно поднимался в археологической литературе, в последнее время на этот факт указывали в частности В.В. Никитин и А.В.Энговатова ( В.В. Никитин, 2008, стр.158-159; А.В.Энговатова, 1997, стр.121-127).
Отдельно следует остановиться на волосовских украшениях из кости, камня, янтаря и волосовской костяной скульптуре.
Наиболее часто встречающимися украшениями волосовцев являются подвески из клыков и зубов животных( лося, кабана, медведя, куницы, лисицы, собаки и пр.). Эти подвески украшали ожерелья, одежду, пояса,обувь и пр. ( Д.А. Крайнов, 1987, стр.22).
Характерны каменные пластинчатые подвески различного размера и формы.
Из других каменных украшений встречаются кольца и полулунницы из сланца. Они идентичны восточноприбалтийским каменным кольцам (Д.А. Крайнов, 1987, стр.23).
Впрочем,каменные (сланцевые) кольца представлены и в более ранней культуре ямочно-гребенчатой керамики ( В.В. Сидоров, 1990, стр.28).
Большое распространение в волосовской культуре получают т.н. фигурные кремни: различные антропоморфные и зооморфные фигурки, выполненные из кремневых отщепов при помощи отжимной ретуши, реже кремневые фигурки птиц и рыб.
Нужно отметить, что в Волго-окском регионе ни в предшествующее волосовцам время, ни в последующее за ними не отмечается такого обилия янтарных украшений. Их формы довольно разнообразны: округлые пуговицы с V-образным отверстием, кольца, циллиндрические пронизки, пластинчатые привески различной формы и т.д. Все волосовские янтарные украшения абсолютно идентичны янтарным украшениям, встреченным в Восточной Прибалтике, особенно в Лубанской низменности ( Д.А. Крайнов, 1987, стр.23). Любопытно отметить, что большинство этих янтарных украшений найдены в волосовских погребениях и сравнительно мало на самих стоянках, в то время как в Восточной Прибалтике изделия из янтаря, встреченные на синхронных по времени поселениях, во много раз превышают находки янтаря на всех изученных волосовских поселениях. Этот факт совершенно справедливо отмечал В.В. Никитин ( В.В. Никитин, 2008, стр.158).
Рисунок 5. Волосовские янтарные украшения.

Большой интерес представляет волосовская костяная скульптура.
Крайне редко встречаются антропоморфные изображения, самым уникальным из которых является т.н. маска шамана со стоянки Сахтыш-IIА Ивановской области.
Рисунок 6. Маска шамана. Волосовская культура. Стоянка Сахтыш-II А.

Интересная мысль о данной находке высказана А.В. Уткиным и Е.Л. Костылевой. По их мнению, маска представляет собой не персонифицированное изображение отдельной личности, а обобщенный образ, возможно предка, характеризующая, вероятно и общий тип волосовского населения. В пользу этого говорит сравнение маски с пластическими и графическими реконструкциями по черепам волосовцев ( А.В. Уткин и др., 1996, стр.9-27).
Рисунок 7. Графическая реконструкция по черепу из погребения волосовской культуры на стоянке Сахтыш -II А

Достаточно редки костяные скульптуры животных: изображения лося, медведя, выдры, куницы. Очень интересно скульптурное изображение головы лосихи со стоянки Модлона Вологодской области, на которой имеются солярные изображения ( С.В. Ошибкина, 1976).
Схожие изображения лося, относящиеся к этому же времени найдены на поселениях Восточной Прибалтики. Аналогии фигуркам выдры имеется на стоянке Валма в Эстонии ( Д.А. крайнов, 1987, стр.21). Известны две костяные скульптурки рыб со стоянки Владычино Береговая в Рязанской области и со стоянки Сахтыш -I в Ивановской области.
Скульптурные изображения рыб из кости часто находят на синхронных по времени восточноприбалтийских поселениях ( Д.А. Крайнов, 1987, стр.22).
Наиболее многочисленна костяная скульптура птиц: изображение гусей, уток, гагар, чаек, куликов, лебедей, глухарей, орлов и пр.
Особенно тщательно и реалистично выполнены скульптуры гусей и уток. Пл мнению Д.А. Крайнова, выполнение их в одном стиле указывает на установившиеся канонические традиции ( Д.А. Крайнов, 1987, стр.22).
Рисунок 8. Волосовские фигурные кремни и костяная скульптура ( по Д.А. Крайнову)

К настоящему времени изучено большое количество как отдельных волосовских погребений, так и целых могильников, все они, как правило, располагаются в пределах самих поселений.
Погребения одиночные, парные и коллективные. Ориентировка погребенных неустойчива. Довольно часто в могилах присутствует красная краска. В некоторых случаях отмечено расчленение трупов.
Основное положение покойников - вытянутое на спине, реже на животе, встречаются погребения в скорченном виде. Появление последних Д.А. Крайнов связывал с контактами волосовцев и носителей фатьяновской культуры (Д.А. Крайнов, 1987, стр.23). Эту точку зрения разделяют А.В. Уткин и Е.Л. Костылева, по мнению которых скорченная поза погребенных в волосовской культуре появляется на территориях контакта с фатьяновской культурой, а на тех территориях, куда носители фатьяновской культуры не проникали ( Карелия и т.п.), там в культурах, родственных волосовской, сохраняется обряд погребения в вытянутой позе ( А.В. Уткин и др., 2003, стр. 327-337).
Согласиться с такими предположениями трудно. И вот почему: скорченные погребения в Волго-Окском междуречье появляются задолго до прихода сюда фатьяновцев - в более ранней льяловской культуре - культуре ямочно-гребенчатой керамики (В.В. Сидоров, 1990, стр.28-32).
В этой же связи нужно упоминуть, хотя и недостаточно полно опубликованный, могильник на поселении Черная Гора в Рязанской обл., где часть погребений относится к рязанскому варианту льяловской ямочно-гребенчатой культуры и они совершены в скорченной позе. Таким образом, скорченная положение погребенного имеет в регионе достаточно древние традиции. Отсутствие скорченных погребений в волосоидных культурах севера пока объяснить затруднительно, во всяком случае на данной территории скорченный обряд погребения не известен также и в среде носителей более ранней культуры ямочно-гребенчатой керамики. Возможно это связано с локальными особенностями в самих культурах.
Сходство волосовских погребений с погребениями в синхронных культурах Восточной Прибалтики отмечалось рядом исследователей ( Д.А. Крайнов, 1987, стр.24; Е.Л. Костылева и др., 1997, стр.41-54).
Антропологический тип носителей волосовской культуры неоднороден. Здесь присутствуют как европеоидные, так и лапаноидные компоненты, однако европеоидный компонент проявляется в облике волосовцев значительно сильнее, чем лапаноидный ( Т.И. Алексеева, 1997, стр.27). Все это ,вероятно, справедливо по отношению к западным группам волосовской культуры. Что же касается восточных групп, здесь, полагаю, еще рано делать подобные выводы.
На всех волосовских поселениях Верхнего Поволжья, Оки и Среднего Поволжья господствующей формой были прямоугольные жилища полуземляночного и наземного типов с узкими переходами и выходами, площадью от 20 до 180 кв. м. ( Д.А. Крайнов, 1987, стр.16).
Не вызывает сомнения существования у поздних волосовских племен собственной металлургии. На стоянках Сахтыш -I и Сахтыш-II найдены медные изделия, тигли для выплавки металла и медные "выплески" ( Д.А. Крайнов, 1987, стр.27). Небольшое количество медных вещей найдено на окских стоянках. Но основная масса таких находок происходит со Средней Волги с территории восточного варианта волосовской культуры, здесь обнаружены также тигли с каплями меди на стенках и слитки меди (С.В. Большов, 2008, стр.237-243). Вообще изделия из металла в лесных культурах Среднего Поволжья появляются доволно рано. В.В. Ставицкий видит в этом влияние южных энеолитических культур ( В.В. Ставицкий, 2008а, стр. 49-56). Вцелом металлообработка у волосовских племен носит примитивный характер, отсутствует техника литья, нет разнообразия в изделиях и своих оригинальных типов орудий из металла ( Д.А. Крайнов, 1987, стр.20). Источником сырья являлись медистые песчаники Среднего Поволжья и Прикамья.
Споры о том является ли волосовская культура неолитической, либо энеолитической имеют чисто теоретическое значение в рамках дискуссии о понятии "энеолит лесной зоны". Уклад хозяйства волосовских племен - охота, рыболовство и собирательство. Производящего хозяйства последние скорее всего не знали. Иными словами, это чисто "лесной неолитический" уклад хозяйства.Как отмечалось выше, металлургия волосовцев носит примитивный характер, техникой литья они не владели, нет собственных типов металлических изделий. На своих более поздних этапах развития, волосовская культура сосуществует с фатьяновской культурой, которую уже относят к бронзовому веку. Представляется более правильным говорить о волосовской культуре, что начальные ее стадии относятся к неолиту, а поздние стадии к эре раннего металла.
На сегодняшний день в дальнейшей судьбе волосовской культуры представляется возможным проследить три основные линии.
На Средней Волге, на территории восточного варианта волосовской культуры, по мнению В.В. Ставицкого, фатьяновские (балановские) племена ассимилируют носителей волосовской культуры, в результате чего возникает фатьяноидная чирковская культура. На это процесс накладываются контакты с носителями "валиковой керамики" и древностями вольско-лбищенского типа, затем все это поглощается абашевской культурой ( В.В. ставицкий, 2008б, стр. 50).
Подобная картина, с некоторыми оговорками, в частности о возможном участии в формировании чирковской культуры и лесостепных элементов, а также полном поглощении чирковской культуры абашевцами, представляется близкой к истине. Во всяком случае, сам вышеизложенный принцип появления чирковских древностей на Средней Волге, в настоящий момент разделяется почти всеми исследователями.
В северных районах распространения волосовских и близких волосовским памятников, куда не проникали носители культур боевых топоров, соответственно и не наблюдается возникновения культур фатьяноидного типа. Дальнейшее развитие культур волосовского круга на данных территориях (в Карелии, в частности) прерывается в позднем бронзовом веке продвижением сюда носителей культуры сетчатой керамики ( М.Г. Косменко, 2006, стр.196,228). Аналогичный процесс происходил и на других северных территориях ( С.В. Ошибкина, 1987, стр. 147-154).
Наконец, в ряде областей Северо-Западной части России, на Верхней Волге, в Восточной Прибалтики, Южной Финляндии, племена волосовской и близких культур, как и на Средней Волге,ассимилируются носителями культуры боевых топоров. В результате этого процесса здесь также возникают фатьяноидные и постшнуровые древности, прямая линия развития которых приводит к появлению культуры сетчатой керамики.
Более подробно данный вопрос я рассматривал в предыдущем сообщении ( К вопросу о происхождении культуры сетчатой керамики). Поэтому сейчас я лишь подчеркиваю главную мысль: прямое развитие фатьяноидных древностей приводит к появлению прафинно-угорской культуры сетчатой керамики, что дает основание считать и самих носителей фатьяноидных древностей прафинно-угроязычными. В сложении древностей данного круга принимали участие два основных компонента: пришлый индоевропейский и местный волосовский-волосоидный.Следовательно прафинно-угроязычность могла быть воспринята носителями данных древностей только от местного волосовского-волосоидного компонента. Иными словами, племена культур волосовского типа разговаривали на прафинно-угорском языке, а точнее будет правильнее выразиться, на каких-то прафинно-угорских диалектах.
Вероятно на этом можно закончить краткий обзор собственно волосовской культуры.
Часть II. Этнокультурная ситуация в неолите-раннем бронзовом веке на территории западных финно-угорских народов ( середина III- начало II т.л. до н.э.) в свете проблематики волосовской культуры.
К середине III т.л. до н.э. обширные территории лесной зоны Европейской части России были заняты группами родственных племен, объединяемых исследователями в волосовскую культуру.
Учитывая многочисленные локальные проявления данной культуры, Д.А. Крайнов даже ставил вопрос о возможности выделения волосовской культурно-исторической общности (Д.А. Крайнов, 1987, стр.12).
Но и это еще не все.
Культуры близкие к волосовской и, вероятно, связанные с ней общим происхождением, имеют распространение в Восточной Прибалтике, в Финляндии, в Карелии, на русском Севере.
В Прикамье и далее к востоку локализуется ряд культур: гаринская, борская и др., характеризуемые наличием органической примеси в керамике. В рамках широкой общности культур с пористой ( с примесью органики) керамики, высказывались мнения о волосовско-турбинской, иначе волосовско-гаринской общности культур,охватывающей пространства от Фенноскандии и Восточной Прибалтики до Приуралья. Но здесь следует понимать, что т.н. волосовско-гаринская общность это понятие достаточно условное.Все археологические культуры, включаемые в данную общность, имеют свою специфику, свои особенности происхождения и очень разную степень "родства".
Итак.
На западе ( восточная Латвия,Эстония) волосовские племена граничили с волосоидными племенами восточноприбалтийской культуры пористой керамики. Примесь раковины или органики в керамическом тесте в Восточной Прибалтике имеет очень древние традиции - со времени нарвской культуры.
Сейчас речь идет о т.н. "постнарвской" культуре, которую относят уже к культурам волосовского круга. Вопрос о происхождении данной культуры в Восточной Прибалтике, я постараюсь рассмотреть в следующем сообщении, в контексте возникновения волосоидных культур.
Следует отметить, что керамика указанной культуры сочетает в себе признаки как нарвской культуры, так и культуры гребенчато-ямочной (ямочно-гребенчатой) керамики.
Вероятно одним из наиболее ранних памятников этого типа является поселение Пиестиня на северо-востоке Лубанской равнины в Латвии ( Н.Н. Гурина, 1996, стр.152).
Восточноприбалтийская пористая керамика в тесте глины имеет примесь раковины, органики, либо сочетание этих двух компонентов.На основании данных признаков, а также формы сосудов, орнаментальных мотивов, она может быть сопоставлена с керамикой волосовской культуры, особенно ее северо-западных вариантов, а также с волосоидной керамикой Финляндии ( Н.Н. Гурина, 1996, стр.152).
Выше отмечались параллели в погребальном обряде волосовских и восточноприбалтийских племен, костяной скульптуре и янтарных украшениях. По обилию янтарных украшений на волосовских памятниках, складывается впечатление, что именно в этот период установились наиболее тесные связи населения восточных территорий и Восточной Прибалтики.
Радиоуглеродные даты по культуре пористой керамики Восточной Прибалтики практически синхронны с датами волосовской культуры. Так для стоянок Лубанской низменности это будет приблизительный диапазон 4870+-225 л.н. - 4350+-200 л.н. ( не калиброваны) ( Д.А. Крайнов, 1987, стр.14).
Также как и в волосовской культуре, в развитии керамики восточноприбалтийской культуры наблюдается увеличение органической примеси в тесте глины.
Именно здесь раньше всего появляются отпечатки ткани и сетчатые отпечатки на поверхности сосудов ( И.А. Лозе, 1979).
Наконец, также как и на территории распространенич волосовской культуры, в результате контакта носителей культуры пористой керамики и культуры боевых топоров, возникают гибридные постшнуровые древности, прямая линия развития которых приводит к появлению культуры сетчатой керамики.
Конечно есть и различия между волосовской и восточноприбалтийской культурами, но определяющего сходства гораздо больше.
Таким образом "постнарвская" культура пористой керамики весьма близка к волосовской по своему происхождению, целому ряду признаков , наконец динамике развития. Однако данные культуры не тождественны, поэтому восточноприбалтийскую культуру пористой керамики относят к группе родственных культур волосоидного круга.
Ввиду того, что и здесь прослеживается чеикая генетическая связь с культурой сетчатой керамики , носителей рассматриваемой культуры можно считать прафинно-уграми.
В Карелии и некоторых областях Финляндии в позднем неолите - энеолите существуют две основные культуры: культура с ромбоямочной керамикой и другая культура , характеризуемая примесями органики и асбеста в керамическом тесте. Причем, с течением времени, последняя повсеместно сменяет первую ( И.Ф. Витенкова, 2006, стр.148).
Для первой культуры ( ромбоямочной керамики) характерны крупные круглодонные непрофилированные сосуды, реже встречаются миниатюрные формы. Известны еденичные находки плоскодонных сосудов.
Орнамент состоит из ромбических, либо остроовальных ямок, располагающихся в шахматном порядке, иногда образующие сложные геометрические узоры. Применяются и оттиски гребенчатого штампа, как правило в виде горизонтальных полос.
Основное занятие населения охота, рыболовство и собирательство, но носителям данной культуры была также известна и примитивная металлургия.
За пределами Карелии и Финляндии, памятники с ромбоямочной керамикой имеют распространение к югу и юго-востоку, но особенно на Верхней Оке, где их появление связывается с регионами Среднего и Верхнего течения р. Десны, которые и явились местом их сложения ( А.С. Смирнов, 1986, стр.5-21).
Для Карелии, Финляндии и Севера вообще, данная культура является пришлой, ее истоки следует искать в бассейне р.Десны.Эту точку зрения, в частности, разделяет И.Ф. Витенкова ( И.Ф. Витенкова, 2006, стр.154). Серьезных оснований связывать появление ромбоямочной керамики на Севере с классической культурой ямочно-гребенчатой керамики льяловского типа нет. Во всяком случае и в самом Волго-Окском междуречье данная культура не имеет корней и может быть увязана только с миграционными процессами в развитом неолите из бассейна р.Десны через верховья р.Оки. Пока затруднительно сказать, что явилось причиной данной миграции.
На Севере носители культуры ромбоямочной керамики на определенных этапах сосуществовали с племенами культуры ямочно-гребенчатой керамики на ее поздней стадии.
Культура с керамикой с примесями органики и асбеста относится к волосоидным культурам ( И.Ф. Витенкова, 2006, стр.154). Ее распространение значительно шире, охватывает по-видимому большую часть Фенноскандии и прилегающие регионы.
На ранних памятниках эта керамика близка предшествующей поздней ямочно-гребенчатой керамики, на более поздних в большей мере сопоставима с керамикой волосовской культуры, хотя имеются и свои локальные особенности.
В этот же период резко увеличивается поступление прибалтийского янтаря и янтарных украшений ( И.Ф. Витенкова, 2006, стр. 148).
Точно такая же картина наблюдается и на территории распространения собственно волосовской культуры, о чем говорилось выше.
Погребальный обряд сходен с волосовским.
Прослеживается сходство с волосовской культурой и в устройстве жилищ и пр.
Металлургия северных волосоидных племен находилась на том же уровне, что и у носителей культуры ромбоямочной керамики.
В последствии племена культуры ромбоямочной керамики на территории Карелии иФинляндии были полностью ассимилированы носителями местных волосоидных культур, что подтверждается, в частности, наследованием последними некоторых орнаментальных традиций первых ( И.Ф. Витенкова, 2006, стр.156).
Дальнейшая судьба племен волосовского круга различна. На территрии Южной Финляндии и некоторых других областей, в результате смешения с носителями культур боевых топоров, возникают новые гибридные постшнуровые культурные образования, явившиеся генетической основой для возникновения здесь культуры сетчатой керамики.
На территориях, куда носители культур боевых топоров не проникали, продолжалось развитие местных культур волосоидного типа. Это развитие было прервано распространением в бронзовом веке культуры сетчатой керамики: полностью исчезают местные культурные традиции, погребения с янтарем и т.п.
Есть основания связывать древний "волжский" или "волго-окский" слой гидронимов региона именно с распространением культуры сетчатой керамики ( М.Г. Косменко, 2006, стр. 2004).
Ввиду того, что племена волосоидного круга региона близки волосовской культуре и восточноприбалтийской культуре пористой керамики, их также можно считать прафинно-угорскими, особенно, если учесть, что какая-то часть данных племен на территории Южной Финляндии имеет генетическую связь с местной культурой сетчатой керамики.
Сложнее обстоит дело с носителями культуры ромбоямочной керамики. Ввиду отсутствия прямой и непосредственной генетической связи с культурой сетчатой керамики, допускать или отрицать их прафинно-угроязычность не имеет смысла.
В отличии от Волго-Окского региона, Восточной Прибалтики, Карелии и т.п., на территории Русского Севера ( Вологодская, Архангельская области) волосовские памятники не занимают компактную территорию, а распространены диффузно, среди местных поздненеолитических культур ямочно-гребенчатого типа.Причем такое диффузное распространение сохраняется здесь на всем хронологическом отрезке существования волосовских памятников.
Наиболее ярким и полно изученным волосовским поселением здесь является стоянка Модлона в Чарозерском р-не Вологодской области. Иногда северный вариант волосовской культуры именуют еще и "памятники типа Модлоны".
Уже на раннем этапе бытования поселения Модлона - 4850+-120 л.н. ( дата не калибрована)волосовская керамика имеет примесь толченой раковины и асбеста, на более поздних этапах - 4360+-130 л.н. - 3960+-150 л.н. ( даты не калиброваны) сохраняется примесь двух указанных компонентов к тесту глины, но добавляется еще и органическая примесь ( С.В. Ошибкина, 1996, стр. 228).
К этому же кругу памятников относится стоянка Кузнечиха на окраине г. Архангельска, могильник Каргулино с большим количеством янтарных украшений и др. ( С.В. Ошибкина, 1996, стр.228-230).
Можно утвердительно говорить о влиянии волосовской культуры на местные позненеолитисеские культуры ямочно-гребенчатого круга(каргопольская, беломорская), что находит отражение прежде всего в керамическом материале данных культур (С.В. Ошибкина,1996, стр.228). Однако активных ассимиляционных процессов в этих регионах не наблюдается.
А.Я. Брюсовым, на основании изучения поселения Модлона ( А.Я. Брюсов, 1951) было сделано интересное предположение о взаимоотношениях жителей поселка с местными племенами каргопольской культуры. Он полагал, что эти отношения были враждебными. В обоснование своих доводов, А.Я. Брюсов приводил тот факт, что само поселение Модлона является свайным, т.е. построенным на сваях на воде, что, по его мнению, было сделано в целях безопасности. Другим доводом А.Я.Брюсова являлась находка женского черепа, насаженного на деревянный кол на территории поселения. Как считал исследователь, это голова убитой представительницы местного племени, своеобразный военный трофей.
Так ли это было на самом деле сказать трудно. Нельзя с уверенностью говорить о принадлежности данного черепа как жительнице поселения, так и представительнице местного племени. Во всяком случае самданный факт заслуживает внимания. Как заслуживают и дополнительного изучения факты расчленения трупов при захоронении в среде волосовской культуры.
Рисунок 9. Реконструкция М.М. Герасимова по черепу со стоянки Модлона.

Представляется, что в рассматриваемом регионе не происходило непосредственное сложение волосовской культуры, волосовские племена расселились здесь уже в более-менее сформировавшемся виде. Но как показывают абсолютные даты стоянки Модлоны, происходит это довольно рано.
Дальнейшая судьба волосовских племен в указанном регионе, сегодня представляется не вполне ясной.
В эпоху бронзы здесь отмечается появление отдельных памятников, керамика которых сходна с керамикой фатьяноидных чирковских древностей и, возможно, абашевской (С.В. Ошибкина, 1987, стр. 148). Их появление в регионе следует связывать не со сложением данных древностей на этих территориях, а с отдельными продвижениями их носителей. С этими же процессами связаны и находки изделий из бронзы сейминского типа.
Наконец, в районах, прилегающих к Восточному Прионежью, наблюдается очень ранее продвижение культуры сетчатой керамики на ее архаичной стадии, о чем свидетельствует керамика, а также каменные сверленные боевые топоры ( С.В. Ошибкина, 1987, стр. 148). Это не удивительно, поскольку области, расположенные к юго-западу явились одним из мест возникновения данной культуры.
Последующее развитие местных культур ( позднекаргопольская и др.) происходит в условиях постоянной инфильтрации носителей культуры сетчатой керамики и при сильном влиянии ее на аборигенов.
Теперь нужно вернуться на основную территорию распространения волосовской культуры - бассейны Верхней Волги, Средней и Нижней Оки, Среднюю Волгу.
О продвижении сюда носителей фатьяновской культуры и возникновению в результате смешения с волосовскими племенами фатьяноидных и чирковских древностей, я неоднократно упоминал как в данном сообщении, так и в предыдущем.
В волосовское время в областях к югу и юго-востоку от современной Москвы - в Мещерской низменности, на Средней Оке и в прилегающих районах распространяются носители культуры "лапчатой керамики". Другое ее название - древности "дубровического типа".
Рисунок 10. Лапчатая керамика дубровического типа
В керамике древностей дубровического типа преобладающей формой являются крупные котловидные сосуды с сужающимся горлом и слегка отогнутым, часто утолщенным венчиком. Встречаются и миниатюрные сосуды - чашевидные и горшковидные с отогнутым венчиком. Днища сосудов как правило яйцевидные или приостренные, но встречаются и уплощенные. Основная примесь к тесту глины песок и дресва.
Характерно сплошное нанесение орнамента на тулово сосуда. Реже встречаются сосуды с участками свободными от орнамента. Ведущим элементом орнамента являются т.н. "гусеничные" и "лапчатые" отпечатки, вероятно полученные при помощи какого-то стержня с намотанной на него веревочкой. Именно из-за этих отпечатков такая керамика и получила название "лапчатая".
Орнамент наносился в шахматном порядке, встречается т.н. "строчный" орнамент, а также различные, часто сложные композиции.
Точных датировок по С14 для данных древностей пока нет, поскольку все имеющиеся даты : 3980+-70л.н.,3790+-40 л.н.,3750+-40 л.н.,3610+-300 л.н. ( не калиброваны) происходят из смешанных памятников, где керамика дубровического типа залегает совместно с волосовской и керамикой шагарской культуры ( Л.Д. Сулержицкий и др., 1993, стр. 46-49).
Однако, при исследовании хорошо стратифицированной стоянки Большой Лес -II, установлено, что материалы дубровического типа залегают над волосовскими горизонтами культурного слоя, но ниже горизонтов культурного слоя, содержащего артефакты шагарской культуры ( Н.А. Хотинский и др., 1979, стр.69).
На основании всего вышеизложенного, начальное массовое появление культуры с лапчатой керамикой в Волго-Окском бассейне, приблизительно можно датировать временем никак не позднее последней четверти III т.л. до н.э., возможно и раньше и синхронизировать ( время появления) с поздней волосовской культурой.
Среди исследователей нет особых разногласий о генезисе данной культуры.
Точки зрения удачно обобщены В.В. Ставицким, который связывает ее происхождение с продвижением на Оку верхнеднепровских (восточно-полесских)и деснинских племен.Эта миграция шла широкой полосой по южной части лесной зоны и северной лесостепи через Десну на верхнюю и Среднюю Оку и Верхний Дон и отмечена значительным количеством памятников с лапчатой керамикой ( В.В. Ставицкий, 2006, стр.33). В этих же процессах В.В. Ставицкий видит и основу сложения лесостепной имеркской культуры ( В.В. Ставицкий, 2006, стр.34).
Можно предполагать с большей долей верояности и причины, вызвавшие указанные миграции: на территориях Верхнего Днепра и Десны на тот момент прочно обосновываются носители культуры боевых топоров.
Интересно проследить взаимоотношения волосовского населения с пришлым верхнеднепровским и деснинским: носители волосовской культуры в ряде областей Волго-Окского региона исчезают из этих мест навсегда. В археологическом плане это отмечается тем, что горизонты культурного слоя, содержащие артефакты волосовской культуры перекрываются горизонтами культурного слоя с лапчатой керамикой, дальнейшее проявление каких-либо волосовских традиций в этих областях не отмечается.
Вероятно наиболее северным памятником, где с появлением этих пришельцев прекращается волосовский этап существования, является стоянка Языково в Кашинском р-не Тверской обл.
К сожалению, в литературе пока еще очень мало внимания уделено осмыслению фактов массовых волосовских захоронений на Средней Оке, в частности на Шагарских стоянках Мещерской низменности. Складывается впечатление, что в ряде случаев мы имеем дело с "санитарными" захоронениями убитых местных жителей. Так, к примеру, в одной небольшой яме буквально утрамбованы 22 человеческих скелета : мужчины, женщины, дети. Эти люди были явно убиты, о чем свидетельствуют кремневые наконечники стрел, застрявшие в шейных позвонках и иных участках тела.Есть и другие коллективные и массовые захоронения.Вероятнее всего это останки уничтоженных жителей поселений.Полагаю, что указанные события можно связать с появлением в этих местах враждебных пришельцев, скорее всего ими и были носители древностей дубровического типа.
Можно констатировать, что волосовские племена были полностью уничтожены и вытеснены из ряда областей Волго-Окского междуречья ( прежде всего из бассейна Средней Оки) не позднее конца III т.л. до н.э.,но скорее еще раньше.
Возможно какая-то часть волосовцев была ассимилирована, о чем может свидетельствовать появление некоторых волосовских традиций (примесь органики) в отдельных сосудах дубровического типа.
Ничего нельзя сказать о характере контактов культуры лапчатой керамики с поздней фатьяновской культурой, а также носителями фатьяноидных древностей. Во всяком случае никакого смешения первых со вторыми и последними не наблюдается.
В Примокшанье вышеуказанные племена днепровского происхождения явились основой для сложения имеркской энеолитической культуры ( В.В. Ставицкий, 2006, стр.33-34).
Даже в качестве предположения не представляется возможной праязыковая идентификация носителей древностей дубровического типа, поскольку полностью отсутствует генетическая связь с культурой сетчатой керамики.
Ориентировочно , немного позднее ряд территорий Мещерской низменности, бассейна Средней и частично Нижней Оки оказываются занятыми шагарской культурой.
Рисунок 11. Керамика шагарского типа.

Для данной культуры имеется ряд дат по С14 ( не калиброваны), к примеру: 3860+-80 л.н.,3730+-60 л.н.( В.П. Челяпов, 2006, стр.9)
Для шагарской культуры характерны сосуды с маленьким плоским дном, сильно выпуклыми стенками, прямым или отогнутым наружу венчиком.
В орнаментации присутствуют ногтевые защипы, "вафельные" отпечатки, оттиски гребенчатого штампа, образующие треугольники, ромбы и пр. композиции, оттиски веревочки, прочерченные линии.
Не вызывает возражений точка зрения Е.Д. Каверзневой о происхождении данной культуры : по ее мнению, основу для появления памятников данного типа следует связывать с энеолитическим населением , пришедшим в бассейн Оки с Дона, через территрию Примокшанья ( Е.Д. Каверзнева, 1992, стр. 152).
Дальнейшая судьба шагарской культуры тесным образом связана с поздняковскими племенами бронзового века, вероятно первые были поглощены поздняковцами и включены в состав своих коллективов.
В период своего наибольшего распространения на юг и юго-восток, волосовские племена достигают Примокшанского региона, Посурья и Волго-Донской лесостепи.
Примером могут служить неплохо изученные поселения: Имерка -V,датировнная по С14 4600+=160 л.н. ( дата не калибрована) ( А.И. Королев идр., 2010, стр.258) и Имерка -VIII,где открыты три строительных яруса волосовских жилищ и получена серия радиоуглеродных дат ( не калиброваны), по которым более ранний волосовский комплекс относится к середине IIIт.л. до н.э., а поздний к последней четверти этого же тысячелетия ( В.В. Ставицкий, 2006, стр.27).
Динамика развития культур данного периода времени в Волго-Донской лесостепи, по мнению В.В. Ставицкого, связана с соотношением волосовских и среднестоговских древностей. В какие-то районы среднестоговские племена проникают раньше волосовских. На поселении Имерка -VIII среднестоговская керамика развитого типа залегает совместно с ранней волосовской, а позднестоговские материалы перекрывают горизонты культурного слоя с более поздними волосовскими материалами. Вероятно и в лесостепном Посурье, позднестоговские древности также сменяют волосовские, поскольку в эпоху бронзы здесь именно среднестоговские традиции получают дальнейшее развитие. Финальный период Примокшанского энеолита связан уже с имеркскими древностями ( В.В. Ставицкий, 2006, стр. 27).
Нужно упомянуть и еще об одном этнокультурном процессе в Примокшанье. На рубеже III-II т.л. до н.э. катакомбнмбные племена вытесняют со Среднего Дона часть населения иванобургской культуры, которое перемещается на север и здесь на его основе происходит формирование примокшанской культуры, синхронной по времени шагарской культуре Мещерской низменности ( В.В. Ставицкий, 2006, стр. 34-35).
На востоке, на территории Камско-Вятского региона, в хронологическом диапазоне 5300-3800 л.н. ( по некалиброванным датам)известна новоильинская культура ( Е.Л. Лычагина и др.,2009, стр.35).
К сожалению культура изучена пока слабо.
Для посуды характерны полуяйцевидные сосуды с прямым широкооткрытым горлом. Днища сосудов округлые, конические, в редких случаях плоские. Венчики сосудов приостренные, слегка отогнутые наружу, у части сосудов по краю венчика нанесены пальцевые защипы, отчего они выглядят волнистыми.Примесь к тесту глины песок и шамот, на поздних этапах появляется примесь органики.
В орнаменте преобладает средний и короткий гребенчатый штамп прямоугольный, изогнутый, либо овальный.Встречается ямочный орнамент в виде круглых, овальных, неправильной формы ямок и т.д., кружковый орнамент, выполненный полой костью.
Узоры-наклонные, горизонтальные, вертикальные линии,зигзаги, "флажковые" узоры. Есть композиции в виде треугольников, решеток, ромбов и более сложные.
Современные исследователи как правило разделяют точку зрения на возникновение новоильинской культуры, высказанную еще О.Н. Бадером: формирование новоильинской культуры происходило на основе синтеза неолитических памятников камской культуры и волго-окских памятников с ямочно-гребенчатой керамикой ( балахнинского типа). При этом предполагается, что определенную роль здесь также сыграли носители накольчатой традиции орнаментации керамики ( Е.Л. Лычагина и др., 2009, стр. 35).
Все-таки представляется, что процесс сложения новоильинской культуры был еще более сложным.В будующем еще предстоит выяснить место раннего этапа новоильинской культуры по отношению к протоволосовским комплексам типа Красный Мост на Средней Волге,галичской культуре Костромского Поволжья,валдайским древностям и поздней гребенчато-ямочной керамике в широком смысле понимания данного термина.
Пока же предварительно вышеуказанную точку зрения на происхождение новоильинской культуры можно принимать в качестве рабочей гипотезы.
Возникнув в период неолита, культура продолжает, вероятно, существовать и в эру раннего металла, о чем как-бы свидетельствуют редкие находки металлических изделий и радиоуглеродные даты.
По мнению Л.А. Наговицына, в Прикамье и в Вятском крае, на основе новоильинской культуры складываются гаринско-борская и юртиковская культуры (Л.А. Наговицын, 1987, стр.31).
Основным признаком гаринской культуры является глиняная посуда с примесью органики, реже талька.Стенки сосудов в основном прямые,венчики утолщенные, днища округло-конические или плоские.
Орнамент располагается поясками и состоит как правило из оттисков гребенчатого штампа, ямок,ямчатых вдавлений, реже встречается линейный орнамент.
Иного мнения о сложении гаринской культуры придерживается В.В. Ставицкий.Согласно этой точке зрения, процессы сложения гаринской культуры происходили в лесостепных территориях Прикамья и Поволжья при взаимодействии камской культуры с южными классическими энеолитическими культурами,при доминировании последних.Именно с этими культурами следует связывать появление металлургии и скотоводства у гаринцев.Позднее в уже более-менее сформировавшемся виде, носители гаринской культуры проникают на Среднюю и Верхнюю Каму , где и вступают в контакт с населением новоильинской культуры (В.В. ставицкий, 2008а, стр.49-56).
Керамика борского типа аналогична гаринской по составу глиняного теста ( примесь органики). Сосуды как правило имеют широкое открытое горло,округло-конические днища и слегка округлые, отогнутые наружу венчики.
Орнамент борской керамики во многом близок гаринскому, однако есть и отличия. Прежде всего на борской посуде отсутствует узор "шагающая гребенка", но присутствуют т.н. "флажковые элементы орнамента.Последние имеют древние традиции в гребенчато-ямочной культуре западных территорий и Восточной Прибалтики, протоволосовских и протоволосоидных неолитических комплексах.Появление такого типа орнамента возможно связывать с более ранним участием новоильинской культуры в формировании памятников борского типа.Это выглядит тем более правдоподобно, поскольку на сегодняшний день существует мнение о хронологическом приоритете сложения борских памятников над гаринскими (И.В. Соловей,1992,стр.64-65).
Абсолютная датировка по гаринско-борским памятникам разработана пока недостаточно.Не вызывает сомнения дата, полученная с поселения гаринско-борского типа Непряха -IV: 4420+-50 л.н. ( не калибрована) ( Л.А. Наговицын, 1987, стр.28).
Юртиковская культура выделяется в бассейне Средней и Нижней Вятки.
В керамике присутствует органическая примесь.Сосуды прямостенные с округлым или округло-коническим днищем,венчики сосудов утолщенные.
Орнамент располагается горизонтальными полосами, какие-то части сосудов оставались вообще без узоров.Основной элемент орнамента гребенчатый, встречаются также ямки, ногтевидные вдавления, отпечатки гладкого штампа.
Как предполагает Л.А. Наговицын, юртиковская культура формируется на основе вятского варианта новоильинской культуры, без активных внешних воздействий со стороны других культур ( Л.А. Наговицын, 1987, стр.33).
Радиоуглеродные датировки юртиковской культуры укладываются в диапазон 3975+-80 л.н. - 3460+-40 л.н. ( не калиброваны) ( Л.А. Наговицын, 1987, стр.29).
Представляется, что сходные черты гаринско-борской и юртиковской культур объясняются наличием у них (в любои случае) общей подосновы.
Рисунок 12. ( 1-6 керамика новоильинской культуры, 7-11 керамика гаринско-борской культуры, 12-13 керамика юртиковской культуры)

Собственно это и есть основные культуры Волго-Камья, синхронные, либо частично синхронные волосовскойили волосоидным культурам западных территорий. Средневолжские волосовские племена поддерживали связи и с западными регионами волосовской общности и с восточными регионами, занятыми в разный период времени вышеуказанными культурами. В рамках широкого понимания общноти культур с пористой керамикой , ряд исследователей говорили о волосовско-гаринской, иначе волосовско-турбинской общности культур с пористой керамикой от Восточной Прибалтики и Фенноскандии до Камского региона и от Архангельской и Вологодской областей до Средней Волги.
О контактах волосовской культуры с носителями культуры боевых топоров говорилось выше.
Дальнейшие этнокультурные процессы эпохи бронзы в Волго-Камье происходили уже без непосредственного участия волосовской культуры, поскольку к тому времени самой культуры уже не существовало.
Итак, в заключении необходимо отметить следующее.
Ближе к середине III т.л. до н.э. ( по некалиброванным датам)обширная территория лесной зоны Европейской части России оказывается занята населением волосовской культуры. К этому же периоду времени в ряде областей Восточной Прибалтики, Фенноскандии. Карелии известны археологические культуры весьма близкие волосовской, т.н. волосоидные культуры.На востоке - в Вятском регионе и в Волго-Камье существуют культуры гаринско-борского типа. Их относительная близость волосовской и волосоидным культурам возможно объясняется , с одной стороны наличием древней подосновы ( культурно-историческая общность ямочно-гребенчатой керамики - об этом речь поидет в следующем сообщении), с другой стороны тесными контактами с самой волосовской культурой.В связи с этим можно соглашаться с некой условной общностью культур с пористой керамикой, иначе волосовско-гаринской общностью. Однако волосовская и западные волосоидные культуры имеют самостоятельное происхождение , отсутствует и хронологический приоритет у культур гаринско-борского типа по отношению к культурам волосовского круга - на все это справедливо указывал М.Г. Косменко ( М.Г. Косменко, 2006, стр. 201-202).
В периоды своего наибольшего распространения, волосовские племена достигают Белого моря на севере , Волго-Донской лесостепи на юге, на востоке заходят в Волго-Камье.
Впоследствии территория волосовской культуры резко сокращается: южные лесостепные районы оказываются занятыми энеолитическими южными культурами, из бассейна Средней Оки, а также из ряда областей Волго-Окского междуречья волосовцы полностью вытесняются носителями культуры лапчатой керамики "дубровического типа".
Продвижение носителей индоевропейских культур боевых топоров на территории Восточной Прибалтики, Южной Финляндии, Верхней и Средней Волги приводит к контакту с местными культурами волосовского круга.В результате этого контакта, на указанных территориях, культуры волосовского круга исчезают (возможно остаются отдельные разрозненные незначительные элементы). Им на смену приходят новые культурные гибридные образования пришлого индоевропейского и местного населения- постшнуровые культуры Восточной Прибалтики и Финляндии, фатьяноидная культура Северо-Запада России, фатьяноидная и чирковская культуры на Верхней и Средней Волге.
Судя по некалиброванным датировкам этот процесс происходил никак не позднее конца III т.л. до н.э., возможно в Восточной Прибалтике и на сопредельных территориях этот процесс начался несколько раньше ( хотя вероятнее всего дело в калибровке прибалтийских дат).
Дальнейшая прямая и непосредственная линия развития постшнуровых древностей на ряде территорий ( часть Восточной Прибалтики, Южная Финляндия, Северо-Запад России, Верховья Волги) ведет к возникновению прафинно-угорской культуры сетчатой керамики.
На востоке, на Средней Волге постшнуровые древности претерпевают существенное инокультурное влияние, поэтому здесь не происходит формирования культуры сетчатой керамики.
Критерием признания прафинно-угорского характера более ранних культур может служить выявление их генетической связи с культурой сетчатой керамики.
На этом основании можно сделать предположение, что население волосовской и близких ей волосоидных культур было прафинно-угорским.
В тех регионах, куда не проникали носители культуры боевых топоров,продолжалось дальнейшее развитие культур волосовского круга,вплоть до их полного поглощения распространившейся здесь позднее культурой сетчатой керамики.
Таким образом, можно утверждать, что существовала одна прогрессивная линия развития культур волосовского круга: культуры волосовского круга и культуры боевых топоров - постшнуровые древности - культура сетчатой керамики. Все остальные линии развития культур волосовского круга являются, если так можно выразиться, тупиковыми.
Свое следующее сообщение я хотел бы посвятить проблеме возникновения волосовской культуры и культур волосовского типа.
Литература:
Т.И. Алексеева. Неолитическое население лесной полосы Восточной Европы./Неолит лесной полосы Восточной Европы (Антропология Сахтышских стоянок) М.1997
С.В. Большов. Культурные связи Средневолжского, Верхневолжского и Волго-Окского регионов ./Известия Самарского Научного Центра РАН, вып.1, т.10, Самара 2008
А.Я. Брюсов.
Свайное поселение Модлона и другие стоянки в Чарозерском районе Вологодской области./МИА №20, Москва 1951
И.Ф. Витенкова.Об этнической принадлежности населения Карелии в период позднего неолита-энеолита/ Проблемы этнокультурной истории населения Карелии ( мезолит-средневековье). Петрозаводск 2006
Н.Н. Гурина. Стоянки постнарвского типа./Археология. Неолит Северной Евразии. М.1996
М.Г. Косменко. Проблемы изучения этнической истории бронзового века-раннего Средневековья
Карелии/Проблемы этнокультурной истории населения Карелии ( мезолит-средневековье) Петрозаводск 2006
Е.Д. Каверзнева.Шагарский могильник конца III- начала II тысячелетия до н.э. в Центральной
Мещере/ СА №3, Москва 1992
А.И. Королев, А.А. Шалапинин. Радиоуглеродное датирование ранних материалов волосовской
культуры Среднего Поволжья./Известия Самарского Научного Центра РАН, вып.2, т.2,
Самара 2010
Е.Л.Костылева, А.В. Уткин. Волосовские погребения на стоянке Ивановское VII в Центральной
России./ Историко-археологические изыскания, вып.2, Самара 1997
Д.А. Крайнов. Волосовская культура/ Археология СССР.Эпоха бронзы лесной полосы СССР.
М.1987
И.А. Лозе.Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. Рига 1979.
Е.Л. Лычагина,А.А. Выборнов.К вопросу о происхождении и хронологии новоильинской энеолитической культуры./Научный Татарстан.,вып.2, Казань 2009
Л.А.Наговицин.Новоильинская, гаринско-борская и юртиковская культуры./Археология СССР. Эпоха бронзы
лесной полосы СССР. М.1987
В.В. Никитин. Истоки волосовских древностей на Оке и Волге ( по материалам поселений
Красный Мост-II и III)/ Археология Восточноевропейской лесостепи, вып.2, т.1. Пенза 2008
С.В. Ошибкина.О работе Вятской и Северной экспедиций./АО 1975г. М.1976
С.В. Ошибкина. Каргопольская культура и памятники типа Модлоны/Археология. Неолит Северной Евразии. М.1996
С.В. Ошибкина. Энеолит и бронзовый век Севера европейской части СССР./ Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР, М.1987
В.В.Сидоров. Погребения льяловской культуры в Подмосковье./АПВКМ вып.4.Иваново 1990
А. С. Смирнов. Белевская культура (проблема неолита Верхней Оки)/СА №4, М.1986).
И.В. Соловей. Некоторые итоги изучения энеолитических жилищ бассейна Камы и Средней Вятки./Проблемы этногенеза финно-угорских народов Приуралья. Ижевск 1992).
В.В. Ставицкий.Неолит, энеолит и ранний бронзовый век Сурско-Окского междуречья и Верхнего Прихоперья. Динамика взаимодействия культур севера и юга в десной зоне/ Автореферат докторской диссертаци.Ижевск 2006
В.В. Ставицкий. К вопросу о происхождении гаринско-борской культуры./ Археология Восточноевропейской лесостепи, вып.2, т.2, Пенза 2008а
В.В. Ставицкий . О некоторых дискуссионных проблемах изучения лесной полосы Среднего Поволжья в бронзовом веке./ Археология Восточноевропейской лесостепи, вып.2, т.2. Пенза 2008б
Л.Д. Сулержицкий, Б.А. Фоломеев. Радиоуглеродные даты археологических памятников Средней Оки./ Древние памятники Окского бассейна. Рязань 1993
А.В. Уткин, Е.Л. Костылева. Антропоморфные изображения волосовской культуры/Тверской Археологический сборник, вып.2, Тверь 1996.
А.В. Уткин, Е.Л. Костылева. Волосовские погребения на стоянке Рыбино-Стрелка-I на р.
Лух/ Археология: история и перспективы. Ярославль 2003.
Н.А.Хотинский, Б.А. Фоломеев, М.А. Гуман. Археолого-палеографические исследования на Средней Оке, стр. 69/СА №3, Москва 1979
В.П. Челяпов. Археология Клепиковского района./ Материалы и исследования по рязанскому краеведению. Рязань 2006
А.В. Энговатова. Древние охотники и рыболовы Подмосковья. М.1997
- "Спасибо" сказали: Tora_sama
#12

 Опубликовано 05 Май 2012 - 13:26
Опубликовано 05 Май 2012 - 13:26

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВОЛОСОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ и АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ВОЛОСОВСКОГО КРУГА.
В археологии вопрос о происхождении волосовской культуры долгое время был дискуссионным.В 50-70 гг. 20 века, ряд исследователей, исходя из степени изученности проблемы,
связывали возникновение волосовской культуры в Волго-Окском регионе и на прилегающих территориях с камско-уральским неолитом.
В частности: В.М. Раушенбах предполагала истоки волосовской культуры в горбуновской культуре Зауралья (В.М. Раушенбах,1969), П.Н. Третьякову виделся многократный процесс
продвижения камско-уральских племен в Волго-Окское междуречье, явившейся причиной появления здесь волосовской культуры ( П.Н. Третьяков,1966, стр.55), с Камско-Уральским
регионом связывал волосовскую культуру О.Н. Бадер ( О.Н. Бадер,1970),гипотезу восточного происхождения волосовской культуры поддержал и А.Я.Брюсов (А.Я.Брюсов, 1968),
широкую экспансию протоволосовских племен из Волго-Камья на запад, северо-запад и север рисовал А.Х. Халиков ( А.Х. Халиков,1969).
Как уже отмечалось выше, степень изученности проблемы на тот момент допускала подобные выводы.Однако даже и в это время, гипотеза восточного происхождения волосовской культуры разделялась далеко не всеми исследователями.И.К. Цветкова доказывала, что волосовская культура на Оке генетически связана с предшествующей культурой ямочно-
гребенчатой керамики ( И.К. Цветкова,1970). Мнения о генетической связи волосовской культуры с культурой ямочно-гребенчатой керамики уже тогда придерживался Д.А. Крайнов
( Д.А. Крайнов, 1973). Наконец А.Л. Никитин видел истоки волосовской культуры на Северо-Западе, в Восточной Прибалтике, однако детально никак не аргументировал свою гипотезу
(А.Л. Никитин, 1974).
В настоящее время, в связи с открытием протоволосовских комплексов на обширных территориях к западу и северо-западу от Камско-Уральского региона, гипотеза восточного, камско-
уральского происхождения волосовской культуры и культур волосовского круга, в археологии большинством исследователей отвергнута, как не нашедшая подтверждения в ходе
дальнейшего изучения вопроса. Забегая вперед, следует отметить, что все основные точки зрения сходятся на местном, автохтонном происхождении данных культур, а основная дискуссия ведется о деталях этого процесса.
Далее представляется целесообразным кратко рассмотреть и прокомментировать мнения археологов по современному состоянию вопроса.
Д.А. Крайнов отмечал, что раскопки многослойных поселений, особенно торфяниковых ( Ивановское -III, VII,VIII,Языково-I,Сахтыш-I,VIII,Ронское-I и др.) показали закономерность
в смене культурных комплексов данного региона:в верхних горизонтах культурного слоя,содержащего ямочно-гребенчатую керамику всюду появляется т.н. редкоямочная керамика с
с фигурным ямочным орнаментом и гребенчатым узором. Над этими культурными остатками располагаются ранневолосовские комплексы с круглодонной керамикой с раковинной примесью
в тесте глины.В частности на торфяниковой стоянке Ивановское -VII , в одном горизонте культурного слоя обнаружена керамика следующих типов: с ямочным и ямчатым орнаментом и с
примесью дресвы и раковины в тесте глины и керамика с гребенчатым орнаментом и примесью раковины, либо дресвы в тесте глины. Керамику таких типов Д.А. Крайнов называет «протоволосовской».
Над "протоволосовскими" горизонтами культурного слоя находятся горизонты культурного слоя, содержащие уже типично волосовскую керамику ( Д.А. Крайнов, 1987,стр.25-26).
Д.А. Крайнов указывал, что такая же закономерность прослеживается и в Прибалтике, где слои с нарвской керамикой сменяются слоями с гребенчато-ямочной керамикой, выше которых залегают близкие волосовским культурные комплексы пористой керамики типа "Пиестиня" ( Д.А. Крайнов,1987, стр.26).
По мнению Д.А. Крайнова некоторые элементы материальной культуры волосовских племен имеют истоки в Прибалтике ( раковинная примесь в тесте глины,штриховка внешней
поверхности сосудов и т. п.) ( Д. А. Крайнов,1987, стр.27).
Согласно точке зрения автора, культура ямочно-гребенчатой керамики явилась одним из компонентов при сложении волосовской культуры, что подтверждается не только стратиграфическими наблюдениями,но и определенным сходством поздней ямочно-гребенчатой керамики с ранней волосовской, идентичностью кремневой индустрии, одинаковым соотношением костей промысловых особей на поселениях, приемов охоты и рыбной ловли,преемственностью в искусстве ( в частности в изображении водоплавающих птиц на ямочно-гребенчатой и волосовской керамике, костяной скульптуре и т. п.), расположением волосовских поселений Верхней Волги и Оки непосредственно на местах предшествующих поселений
с ямочно-гребенчатой керамикой и т.д. ( Д.А. Крайнов,1987, стр.26).
Придерживаясь мнения о местном сложении волосовской культуры, Д.А. Крайнов рассматривал протоволосовские комплексы как гибридные:происходит гибридизация носителей традиций культуры ямочно-гребенчатой керамики и носителей традиций верхневолжской культуры ( Д.А. Крайнов, 1981, стр.5-21; Д.А. Крайнов, 1987, стр.26). Однако автор и в своих более ранних и более поздних работах, подходит с большой долей осторожности к вопросу об участии верхневолжской культуры в генезисе волосовских племен. В частности им отмечается, что
непосредственный переход от верхневолжской культуры к волосовской сомнителен, прежде всего по причине огромного хронологического разрыва между ними (Д.А.Крайнов,1981,стр.11;
Д.А. Крайнов, 1987, стр.26). К сожалению, далее эту свою мысль Д.А. Крайнов не развивает.
Возникновение восточного или средневолжского варианта волосовской культуры, виделось Д.А. Крайнову на основе смешения двух культур: культуры с ямочно-гребенчатой керамикой и волго-камской при доминировании волго-камской культуры.
При этом, автором сделаны интересные наблюдения о том, что восточный вариант волосовской культуры возникает только на тех территориях, где отмечаются контакты ранней волго-камской культуры ( близкой верхневолжской) и культуры ямочно-гребенчатой керамики.А на территориях, где таких контактов не происходило, возникают другие культуры, отличные от волосовской типа турбинской (гаринской) и др. ( Д.А. Крайнов, 1981, стр.15; Д.А. Крайнов, 1987, стр.27).
Здесь нужно отметить, что исследователь совершенно правильно охарактеризовал протоволосовские комплексы как гибридные. Волосовская культура не могла явиться прямым и
непосредственным продолжением развития только культуры ямочно-гребенчатой керамики.
Культурно-историческая общность ямочно-гребенчатой керамики занимала обширные территории, среди которых можно выделить такие, где данная культура не претерпела инокультурные воздействия, т. е. ко времени возникновения волосовской культуры сохранялась прямая и непосредственная линия развития ямочно-гребенчатых традиций. Примером может служить каргопольская культура Русского Севера, в среде которой не наблюдается возникновения каких-либо протоволосовских элементов.Волосовские же племена ( памятники типа Модлоны) появляются в этих местах, хотя и достаточно рано, но в уже более-менее сформировавшемся виде, о чем я упоминал в предыдущем сообщении.
На сегодняшний день не вызывает сомнений участие носителей культуры ямочно-гребенчатой керамики в формировании протоволосовских комплексов. Причем, скорее всего, участие это было доминантным.
На вопрос об участии в данном процессе носителей верхневолжской культуры, исходя из всего запаса современных знаний , следует ответить отрицательно.
На момент публикаций указанных работ Д.А. Крайнова роль верхневолжской культуры вообще и ее отношение к культуре ямочно-гребенчатой керамики в частности являлась
остродискуссионной. Кстати и сам Д.А. Крайнов, на тот момент, скорее чисто интуитивно,не был уверен в правильности своих выводов, поэтому и отмечал сомнительность непосредственного перехода от верхневолжской культуры к волосовской ввиду огромного хронологического разрыва между ними.
Но все это вовсе не означает ошибочности гипотезы о гибридизации. Гибридизация традиций носителей ямочно-гребенчатой керамики безусловно была, но не с носителями верхневолжской ранненеолитической культуры, которой к тому времени уже не существовало.
Сегодня есть основания говорить, что другим компонентом, помимо носителей культуры ямочно-гребенчатой керамики, в сложении волосовской культуры,являлись местные неолитические
культуры гребенчатой-ямчатой традиции типа валдайской и т. п., синхронные культуре ямочно-гребенчатой керамики.
Более подробно этот вопрос я рассмотрю в этом же сообщении, но несколько позже.
Теперь относительно происхождения восточного или средневолжского локального варианта волосовской культуры.
Прежде всего здесь нужно учитывать, что это довольно своеобразный вариант волосовской культуры.
Долгое время велась дискуссия следует ли причислять эти памятники к волосовской культуре или же правомерно выделение самостоятельной культуры, близкой волосовской.
Некоторое время среди исследователей бытовало мнение, что приоритет в сложении памятников данного типа принадлежит восточным, волго-камским элементам, при участии культуры ямочно-гребенчатой керамики. Данную точку зрения разделял и один из ведущих специалистов по средневолжскому варианту волосовской культуры В.В. Никитин ( В.В. Никитин, 1991, стр. 48-58). Однако, в результате дальнейших исследований, В.В. Никитин отказался от своих прежних убеждений и пришел к выводу, что и в сложении средневолжских волосовских памятников доминирующая роль принадлежала именно западным, волго-окским древностям ямочно-гребенчатой керамики ( В.В. Никитин, 1996, стр.147; В.В. Никитин,2008, стр. 152-166).
Выводы Д.А. Крайнова о сложении волосовской культуры на основе двух культур: верхневолжской и древней ямочно-гребенчатой керамики, разделяла и известный специалист по волосовской культуре И.К. Цветкова, которая полагала, что этот процесс следует датировать не позднее конца IV-начала III т.л. до н.э. ( И.К. Цветкова и др.,1982, стр. 93).
Несколько иначе возникновение волосовской культуры представляется А.В. Уткину и Е.Л. Костылевой.
По их мнению этот процесс следует связывать с миграцией восточноприбалтийского населения на восток, в Волго-Окский регион.
В результате смешения местного населения культуры ямочно-гребенчатой керамики и пришлого населения возникает волосовская культура. В доказательство ими приводятся следующие доводы:
Первое.На ряде памятников Верхнего Поволжья и Волго-Клязьминского междуречья, в горизонтах культурного слоя с поздней льяловской и протоволосовской керамикой встречены немногочисленные обломки сосудов восточно-прибалтийского типа. Данные сосуды имели котолобразную форму со слегка прикрытым горлом и примесь толченой раковины в тесте глины. Авторы совершенно справедливо отмечают, что носители традиций культуры ямочно-гребенчатой керамики никогда не использовали в качестве примеси к тесту глины толченую
раковину. Другая часть сосудов украшена редкоямочным орнаментом ,неотличимым от собственно позднельяловского типа, но это уже керамика не позднельяловская, поскольку
имеет в тесте глины примесь толченой раковины. А.В. Уткин и Е.Л. Костылева приходят к выводу, что налицо становление новой керамической традиции, занесенной извне( А.В. Уткин, Е.Л. Костылева, 2006, стр.124-126).
Второе. В волосовской и родственных ей культурах широко распространяются скульптурные изображения из кости. Все эти образы, по мнению авторов, ни в льяловской ни в верхневолжской культурах неизвестны, но они известны в неолите Балтии, где и зародились в кости, дереве и янтаре ( А.В. Уткин, Е.Л.Костылева, 2006, стр.124-126).
Третье.Согласно точке зрения авторов, неоспоримым свидетельством формирования волосовской культуры при участии восточно-прибалтийского компонента, являются янтарные украшения. А.В. Уткин и Е.Л. Костылева полагают, что это не был импорт янтаря и готовых изделий, янтарь был принесен на костюмах восточноприбалтийских пришельцев и погребен вместе с ними ( А.В. Уткин, Е.Л. Костылева, 2006, стр. 124-126).
Четвертое.На закате льяловской культуры, возобновляется практика ингумации трупа в землю.А.В. Уткин и Е.Л. Костылева считают, что эта практика возобновляется не как саморазвитие культуры, а под влиянием первых мигрантов из Восточной Прибалтики. Примером могут служить погребения на стоянках Луково Озеро-III и Мыс Бревенный, где встречены еденичные янтарные украшения раннего типа (А.В. Уткин, Е.Л. Костылева, 2006, стр. 124-126).
Пятое. Привлекая данные антропологии, авторы указывают, что среди ранних представителей льяловской културы доминировали низкорослые представители, характеризующиеся монголоидными чертами в строении черепа. А черепа ранних волосовцев имеют другой облик. Они в массе своей европеоидные и сходны с черепами ряда поздненеолитических захоронений в Прибалтике, которые судя по радиоуглеродным датировкам несколько древнее Сахтышских.Таким образом, по мнению исследователей, волосовский антропологический тип сформировался раньше самой волосовской культуры и на другой территории ( А.В. Уткин, Е.Л. Костылева, 2006, стр.124-126).
Вышеизложенная гипотеза А.В. Уткина и Е.Л. Костылевой была подвергнута критике В.В. Никитиным.
В.В.Никитин, отмечает, что чистых прибалтийских комплексов на территории распространения волосовской культуры нет, а присутствие посуды восточноприбалтийского типа еще не повод для утверждения их генетической связи. Костяная скульптура явление достаточно широкое и имеющее распространение еще со времен мезолита. ( В.В. Никитин, 2008, стр.156-157).Лично мне последний конраргумент В.В. Никитина о костяной скульпутре представляются справедливым. Что же касается наличия или отсутствия генетической связи между волосовской культурой и восточноприбалтийскими неолитическими культурами, то, с одной стороны, А.В. Уткин и Е.Л. Костылева не столь категоричны и имели ввиду лишь участие восточноприбалтийского компонента в формировании волосовской культуры ( А.В. Уткин, Е.Л. Костылева,2006, стр.124-126). С другой стороны, возможно, указанными авторами это участие и несколько преувеличено. Вероятно более корректо говорить о влиянии восточно-прибалтийских неолитических культур на формирование волосовской культуры. Этой же точки зрения придерживался и Д.А. Крайнов ( Д.А. Крайнов, 1987, стр.27).Не совсем понятна котраргументация В.В. Никитина относительно янтарных украшений.В частности В.В. Никитин пишет, что удивляет обилие янтаря в волосовских погребениях и его отсутствие в волосовских жилищах, а для территории Восточной Прибалтики янтарь характерен и для поселенческих памятников, находки янтаря только с одного из восточноприбалтийских поселений в разы превышает находки янтаря на всех волосовских поселениях. Такое расхождение в распределении янтаря в поселенческих и погребальных комплексах волжского бассейна скорее свидетельствует об разнородности их носителей, чем родственности.Более вероятным представляется ситуация,где погребенные — жертвы обитателей волосовских поселений (В.В. Никитин, 2008, стр.157-158). Как я уже отмечал выше, мысль В.В. Никитина в данном контексте не ясна. Принадлежность волосовских погребений на волосовских поселениях обитателям данных поселений никем и никогда не подвергалась сомнению по очень простой причине — отсутствию самих подобных оснований. Совершенно ясна и причина присутствия большего количества изделий из янтаря на прибалтийских памятниках по сравнению с памятниками волжского бассейна. Это связано с близостью и удаленностью обитателей данных памятников от источников сырья — Балтийского моря. Оспаривать только на основании этого родственность волосовской культуры с некоторыми неолитическими культурами Восточной Прибалтики ( в частности т. н. постнарвских культур) более чем сомнительно.Схожесть волосовской культуры с восточноприбалтийскими культурами данного круга неоднократно отмечалась различными исследователями. Это первое. Второе : в вопросе об отсутствии родственности этих групп населения В.В. Никитин противоречит самому себе, поскольку далее он полностью поддерживает гипотезу сложения постнарвских неолитических культур Восточной Прибалтики при участии носителей культуры ямочно-гребенчатой керамики ( В. В. Никитин, 2008, стр.160). Во всяком случае неоспоримо одно: именно в период существования волосовской культуры на памятниках волжского бассейна встречается такое обилие янтарных украшений, чего в более ранний или в более поздний периоды не наблюдается. Но при этом и говорить, что данные предметы были принесены в регион на костюмах их владельцев никаких оснований нет. Волосовская культура существует доостаточно длительное время, а янтарные украшения характерны для всех этапов ее развития.
По поводу обряда игумации, нельзя не согласиться с В.В. Никитиным, который отмечает, что этот обряд обычен для льяловского ( культуры ямочно-гребенчатой керамики — прим. мое) населения Волго-Окского регина задолго до появления волосовской культуры ( В.В. Никитин, 2008, стр.158). Примером может служить могильник раннего этапа льяловской культуры на стоянке Сахтыш-II А. Проведенные радиоуглеродные датировки по костям погребенных показали функционирование могильника в интервале 6139+-120-5820+-200 л.н. (даты не калиброваны — прим. мое) (Е.А. Костылева, А.В. Уткин, 2008, стр.10)
Относительно данных антропологии в статье В.В. Никитина имеется либо опечатка, либо происходит какая-то путаница. Так В.В. Никитин пишет: « Да, антропология подтверждает монголоидность погребенных с янтарем, но не факт что погребенные волосовцы.Это пришлое население оригинальной прибалтийской культуры, сформированное на другой территории и раньше, чем сформировалась волосовская общность, что не отрицают и сторонники прибалтийских истоков волосовской культуры» ( В.В. Никитин, 2008, стр.158).Ну прежде всего, в публикации А.В. Уткина и Е.Л. Костылевой речь идет как раз об обратном: о монголоидных чертах носителей культуры ямочно-гребенчатой керамики и усилению европеоидности на черепах волосовской культуры. Что касается погребений волосовской культуры, точнее принадлежности погребений к волосовской культуре,то этот вопрос не требует дополнительного обснования: все это доказано стратиграфическими наблюдениями, радиоуглеродными датировками по костям погребенных, редко, но встречающимися волосовскими сосудами в могилах и т. п. - на протяжении более чем 70 лет изучения волосовской культуры.Никакого присутствия пришлой прибалтийской культуры в Волго-Окском регионе не отмечается, а А.В. Уткин и Е.Л. Костылева говорят только об отдельных фрагментах сосудов восточноприбалтийского типа, что соответствует действительности.
Т.И. Алексеевой сделан вывод о том, что антропологические материалы подтверждают сложность генезиса волосовской культуры.Ее носители в своем облике выявляют черты родства с населением, проживающим как к западу, так и к востоку от основного ареала распространения этой культуры. Западный компонент проявляется в облике волосовцев значительно сильнее, чем восточный. Но в свете данных антропологии убедительным представляется автохтонный вариант генезиса волосовцев (Т.И. Алексеева, 1997, стр.27).
Не вполне ясно, что в работе А.В. Уткина и Е.Л.Костылевой вызвало столь негативную реакцию В.В. Никитина.
Участие культуры ямочно-гребенчатой керамики в формировании волосовской культуры, авторы не отрицают.Гипотетическая миграция восточноприбалтийских племен остается лишь на уровне декларирования, а вся совокупность приведенных доводов, скорее свидетельствует о связях с Восточной Прибалтикой и
об определенном влиянии.Представляется, что ни того, ни другого отрицать нельзя. Во всяком случае В.В. Никитин не дает никакого объяснения появлению новой керамической традиции Волго-Окского региона: примеси толченой раковины в тесте глины.
Своя модель формирования волосовской культуры предложена В.В. Сидоровым и А.В. Энговатовой: волосовская культура возникает в результате смешения носителей культуры ямочно-гребенчатой керамики с носителями северо-западной валдайской культуры гребенчатой керамики (В.В. Сидоров, А.В. Энговатова, 1996, стр. 164-182; В.В. Сидоров, 2007, стр.167-176).
Рассматривая материалы протоволосовских комплексов Волго-Окского региона, авторы отмечают присутствие керамики с гребенчатым, своеобразным ямчатым и т. п. орнаментом и видят наиболее вероятный ее источник в верховьях Волги и на Валдае. Происходит гибридизация с культурой ямочно-гребенчатой керамики.
Такая трактовка происхождения волосовской культуры на сегодняшний день кажется наиболее вероятной, однако сам процесс, по-видимому, был несколько шире. В глобальном понимании вопроса возникновения волосовской культуры и культур волосовского типа более корректно говорить о целом пласте гребенчатых и гребенчато-ямочных древностей, протянувшихся от Северо-Запада России ( валдайская, мстинская культуры, культура гребенчато-ямочной керамики Северо-Запада) до Средней Волги (древности типа Красный Мост) и т.п.Далее я вернусь к этой теме.
В вышеизложенном контексте, точке зрения В.В. Сидорова и А.В. Энговатовой близка и позиция В.В. Никитина, хотя рассматриваемая работа непосредственно касается происхождения лишь средневолжского варианта волосовской культуры. Автором сделан вывод, что процесс сложения средневолжского варианта волосовской культурно-исторической общности начался в позднем неолите на базе двух культурных традиции: восточной ( волго-камской) и западной (волго-окской), т. е. культуры ямочно-гребенчатой керамики.Приоритет в этом процессе принадлежит носителям древностей западной (волго-окской) традиции. Связующим звеном в Среднем Поволжье между культурами волго-камского и волго-окского круга и собственно средневолжским вариантом волосовской культуры явились местные гибридные протоволосовские древности типа Красный Мост ( В.В. Никитин, 2008, стр.161).
Итак, рассматривая вышеизложенные точки зрения на возникновение волосовской культуры, прежде всего следует отметить доминирующую роль в этом процессе племен культуры ямочно-гребенчатой керамики, что представляется бесспорным.
В ходе дальнейших исследований и накоплении новых данных, вывод об участии в формировании волосовских древностей племен ранненеолитической верхневолжской культуры не нашел своего подтверждения.
Ошибочность данного предположения вызвана тем, что еще в 80-е гг. 20 века был крайне дискуссионен вопрос о генезисе самой культуры ямочно-гребенчатой керамики, самостоятельное происхождение последней и возможность сосуществования культуры ямочно-гребенчатой керамики и верхневолжской культуры в Волго-Окском регионе многим специалистам казалось правдоподобным. Окончательная точка в данном споре была поставлена только в 90-е гг. работами В.В. Сидорова, А.В.Энговатовой, М.Г. Жилина и др.
В частности, на основании изучения хорошо стратифицированных торфяниковых стоянок и получения серии радиоуглеродных дат, А.В.Энговатовой и др. доказан процесс перехода позднего этапа верхневолжской культуры в архаичную льяловскую (раннюю культуру ямочно-гребенчатой керамики) (А.В. Энговатова и др.,1998). Таким образом , сегодня ни о каком смешении носителей верхневолжской культуры с носителями культурой ямочно-
гребенчатой керамики речи идти не может. Впрочем и сам Д.А. Крайнов не был полностью уверен в своих предположениях, когда справедливо указывал на огромный хронологический разрыв между верхневолжской культурой и протоволосовскими древностями (например: Д. А. Крайнов, 1987, стр.26).
Вместе с тем совершенно очевидно, что возникновение протоволосовских древностей и собственно волосовской культуры явились результатом гибридизации, а не самостоятельного развития культуры ямочно-гребенчатой керамики. В качестве примера можно указать на ряд территорий русского Севера, где происходит непосредственное развитие ямочно-гребенчатой каргопольской культуры, а волосовская культура появляется в этих местах в уже сложившемся виде ( памятники типа Модлоны)- это первое. Второе: на стратифицированных поселениях Волго-Окского междуречья, где выделяются т. н. протоволосовские горизонты культурного слоя, они характеризуются совместным залеганием керамики нескольких типов. Описывая протоволосовские горизонты верхневолжских стоянок, Д.А. Крайнов выделяет несколько таких типов: позднюю ямочно-гребенчатую керамику с примесью дресвы в тесте глины, гребенчатую и гребенчато-ямчатую керамику с примесью дресвы, тонкостенную керамику с ямочным или ямчатым орнаментом с примесью толченой раковины в тесте глины и тонкостенную гребенчатую и гребенчато-ямчатую кераамику с примесью толченой раковины ( Д.А. Крайнов, 1981, стр.13-14).
Вышеуказанная гребенчатая и гребенчато-ямчатая керамика с примесью дресвы или песка в тесте глины находит свои аналогии на поселениях северо-западной неолитической валдайской культуры и еще более северо-западной мстинской группы памятников.
Валдайская неолитическая культура была выделена Н.Н. Гуриной на Валдайской возвышенности и прилегающих районах (Н.Н. Гурина, 1958, стр.31-45). К сожалению,до настоящего момента остается относительно слабо изученной. Тем не менее, имеющихся в нашем распоряжении данных вполне достаточно для выявления соответствующих аналогий гребенчатой и гребенчато-ямчатой керамике протоволосовских комплексов Волго-Окского междуречья с керамикой валдайской культуры.
Для валдайской культуры характерна керамика, орнаментированная неглубокими ямками, часто не имеющими правильной формы, мелкими и узкими оттисками гребенчатого штампа, оттиски своеобразного штампа, образующие сдвоенные ямки с перемычкой посередине, полосы из орнамента, идущие по сосудам в вертикальном, либо диагональном направлениях, отсутствие в композиции орнамента на сосуде зональности и тенденция к расположению узора по диагонали (Н.Н. Гурина, 1958, стр.41-42).
Керамике валдайской культуры в свою очередь очень близка часть керамики т. н. мстинской группы памятников,
локализованных М.П. Зиминой несколько севернее и северо-западнее валдайской культуры в бассейне р. Мсты (М.П. Зимина,1996, стр.193). Здесь наблюдается применение ямчатых узоров, парноямочного штампа с перемычкой посередине, мелкие и узкие оттиски гребенчатого штампа, диагональные или вертикальные полосы из узора и т. п. ( М.П. Зимина, 1968, стр.146, рис.9, стр.150, рис.11). Отмечены волнообразные венчики сосудов с защипами, вдавления треугольной формы ( М.П. Зимина, 1968, стр.148).
В.П. Третьяков, публикуя материалы раскопок поселения Бологое-II, сопоставленное им с группами мстинских стоянок, отмечает присутствие керамики с примесью дресвы или песка и с оттисками рамчатого штампа ( В.П. Третьяков, 1977, стр.221).
Вообще, несмотря на слабую изученность валдайской культуры и мстинской группы памятников, складывается предварительное впечатление, что валдайсие и мстинские древности в предволосовское время представляют собой локальные части единого целого.
Я столь подробно остановился на характеристике керамики валдайской и мстинской культуры по той причине, что она находит полные аналогии ( как компонент) в протоволосовских комплексах Волго-Окского междуречья, что подтверждает выводы В.В. Сидорова и А.В. Энговатовой о сложении волосовской культуры в результате смешения носителей культуры
подтверждает выводы В.В. Сидорова и А.В. Энговатовой о сложении волосовской культуры в результате смешения
ямочно-гребенчатой керамики с носителями северо-западной гребенчатой керамики ( В.В. Сидоров, А.В. Энговатова, 1996, стр. 164-182; В.В. Сидоров, 2007, стр. 167-176).Возражение вызывает лишь наименование данной северо-западной керамики «гребенчатой», по всем своим показателям она, скорее, гребенчато-ямчатая.
Однако в вопросе о северо-западных древностях ,протоволосовских комплексах Волго-Окского региона и Средней Волги есть одна очень существенная на мой взгляд деталь, которой еще никто из исследователей не уделил должного внимания. А именно: наблюдается определенное сходство ряда элементов керамики по условной линии валдайская и мстинская культуры Северо-Запада, гребенчато-ямчатые компоненты (с примесью дресвы в тесте глины) протоволосовских комлексов Верхнего Поволжья, т. н. галичская культура Костромского
Поволжья ,которая здесь синхронна культуре ямочно-гребенчатой керамике и предшествует волосовской культуре, позднебалахнинская, наконец,протоволосовские комплексы Средней Волги типа Красный Мост и новоильинская культура Камско-Вятского региона ( в последней гораздо слабее).
Это сходство наблюдается в некоторых элементах орнамента, части орнаментальных мотивов и волнистых венчиках сосудов.
Так еще М.П. Зимина отмечала на неолитических стоянках бассейна р. Мсты присутствие керамики с примесью дресвы в тесте глины, с различными ямочными вдавлениями, нанесенными коническим штампом, зубчатым, рамчатым или углом штампа, парноямчатыми вдавлениями, короткими или длинными оттискисками зубчатого или гладкого штампа, оттисками веревочки, намотанной на палочку и пр..Аналогии керамике такого типа она видела на поздненеолитических стоянках Волго-Окского междуречья, в т.ч. на поселениях Языково, Николо-Перевоз и др. ,но при этом некоторые типы орнамента также напоминают и орнамент на посуде более восточных балахнинских стоянок ( стоянки Больше-Козинская, Панфиловская, Гавриловская) ( М.П. Зимина, 1968, стр.148,153).
От себя следует заметить, что сравнение подобной керамики с поселений Николо-Перевоз-III на р. Дубне Московской обл. и Варос на оз. Неро в Ростовском р-не Ярославской обл. с керамикой галичской культуры Костромского Поволжья, выделенной И.В. Гавриловой ( стоянка Водыш) показывает их полную идентичность. Особенно обращают на себя внимание волнистые венчики сосудов.
Для части средневолжских протоволосовских комплексов типа Красный Мост характерна орнаментация из неглубоких ямочных ( ямчатых) вдавлений круглой, овальной, прямоугольной формы, используется в орнаменте шнур, намотанный на стержень, горизонтальные, вертикальные, диагональные линии ямчатых вдавлений, отпечатков гребенчатого штампа, шнура, намотанного на палочку и т.п. Все это, по мнению В.В. Никитина, обычные для балахнинского (варианта культуры поздней ямочно-гребенчатой керамики — прим. мое) населения
приемы украшения посуды ( В.В. Никитин, 2008, стр.153). Тем не менее, подобные элементы орнамента вполне сопоставимы как с орнаментом на части керамики протоволосовских комплексов Волго-Окского междуречья, так и неолитических северо-западных памятников.
На территории Вятско-Камского междуречья известна новоильинская культура. Керамика ( по крайней мере видимо на ранних этапах развития культуры) в части элементов орнамента и волнистых венчиков сосудов также весьма схожа с материалами познебалахнинского времени, с керамикой из Средневолжских и Волго-Окских протоволосовских комплексов, керамикой галичской культуры Костромского Поволжья и керамикой неолитических северо-западных древностей. По мнению исследователей, формирование новоильинской культуры происходило на основе синтеза неолитических памятников камской культуры (левшинского типа) и волго-окских памятников с ямочно-гребенчатой керамикой (балахнинского типа), определенную роль в этом процессе также сыграли носители накольчатой традиции орнаментации керамики (Е.Л. Лычагина и др.,2009, стр.35).
Как уже отмечалось выше, все эти факты пока не нашли должного внимания в соответствующей литературе.
Так,если современные исследователи говорят о сложении протоволосовских комплексов Волго-Окского междуречья, то указывают на влияние северо-западных культур, если рассматривают средневолжсий этап протоволосова или новоильинскую культуру, то отмечают участие в их формировании западного волго-окского ( балахнинского) компонента.Но это справедливо только отчасти. При этом как-то необоснованно забыты и выводы М.П.Зиминой о
сходстве некоторых типов керамики северо-западной мстинской группы памятников с некоторыми типами балахнинской керамики (или наоборот), исследования И.В. Гавриловой по галичской культуре Костромского Поволжья. Сама балахнинская культура почти не изучена и сейчас, абсолютных датировок нет. Западные аналогии в керамических традициях средневолжских протоволосовских комплексах и новоильинской культуре не рассматриваются дальше и шире малоизученной собственно балахнинской культуры. Хочу повториться: по моему убеждению имеется определенное сходство керамических традиций по условной линии Северо-Западные валдайские и мстинские древности- Волго-Окские протоволосовские комплексы-галичская культура Костромского Поволжья- балахнинская культура — протоволосовские комплексы Средней Волги типа Красный Мост-II — новоильинская культура Камско-Вятского междуречья. Более того, не исключено,что в эту линию следует включить и часть керамических традиций гребенчато-ямочной культуры Северо-Запада и Восточной Прибалтики. Представляется,что в этой связи еще только предстоит выяснить место всех этих древностей хотя бы по отношению друг к другу и дать оценку масштабам и причинам самого процесса.
Долгое время считалось, что примесь толченой раковины в тесте глины более характерна для всех памятников ранней стадии волосовской культуры, а органическая примесь для более поздних. Но в настоящий момент первое представляется в большей степени справедливым только для верхневолжского и окского вариантов волосовской культуры.
Для памятников средневолжского варианта волосовской культуры органическая примесь в тесте глины наблюдается не только на раннем этапе культуры, но и в более ранних протоволосовских комплексах ( В.В. Никитин, 2008, стр.152-166).
Складывается впечатление, что для северного и северо-западного варианта волосовской культуры уже на ранних стадиях в тесте глины присутствует и примесь толченой раковины и примесь толченой раковины в сочетании с органической примесью и примесь органики. Более того, здесь тесто глины некоторых волосовских сосудов содержит примесь асбеста ( Д.А. Крайнов, 1987, стр.27).
В связи с этим возникает закономерный вопрос о происхождении примеси толченой раковины в тесте глины протоволосовских и волосовских сосудов.
В свое время Д.А. Крайнов объяснял это участием в генезисе волосовской культуры носителей верхневолжской культуры, в керамике которой иногда присутствует и толченая раковина и органическая примесь (птичий помет) ( Д.А. Крайнов, 1981, стр.10). Сейчас с этим согласиться нельзя. Верхневолжская ранненеолитическая культура прекращает свое существование ( трансформируется в другие культуры) задолго до интересующих нас событий.
Наконец и сама примесь толченой раковины в керамике верхневолжской культуры имеет несколько иной характер,отличный от характера раковинной примеси в глиняном тесте протоволосовских и волосовских сосудов.Примесь толченой раковины не характерна для керамики ямочно-гребенчатой культуры, она отсутствует в керамике средневолжских протоволосовских комплексов.Примесь толченой раковины и органики к тесту глины, например,наблюдается в памятниках мстинской группы, в частности на стоянке Репище,но уже период северо-западного варианта волосовской культуры, о чем свидетельствует и дата по С14 ( не калибрована) со стоянки Репище 4670+-120 л.н.( М.П. Зимина, 1996, стр.198).
Следовательно валдайская культура и мстинская группа памятников не могли дать начало новым керамическим традициям Волго-Окского междуречья, хотя и принимали участие в генезисе волосовской культуры.
Впоследствии Д.А. Крайнов склонялся к восточноприбалтийскому происхождению данной традиции ( Д.А. Крайнов, 1987, стр.27).
На сегодняшний день следует признать, что наиболее правдоподобное и внятное объяснение появлению раковинной примеси в неолитической керамике Волго-Окского междуречья предложено А.В. Уткиным и Е.Л. Костылевой, которые справедливо указывали на присутствие в протоволосовских горизонах ряда Волго-Окских стоянок некоторого количества восточноприбалтийской керамики с примесью толченой раковины в тесте глины ( А.В. Уткин, Е.Л. Костылева, 2006, стр.124-126).
Однако это вовсе не означает, что основные истоки волосовской культуры следует искать на территории Восточной Прибалтики.Резюмируя все вышеизложенное, можно предположить следующее:
В целом сложение волосовской культуры явилось результатом сложных интеграционных процессов, которые на различных территориях имели свои локальные особенности, но при этом везде решающая в данном процессе принадлежала культуре ямочно-гребенчатой керамики.Эти процессы охватили Северо-Запад России, Верхнее и Среднее Поволжье, Среднюю и Нижнюю Оку. Более того в прилегающих к Северо-Западу России регионах Карелии, Финляндии, Восточной Прибалтики формируется ряд сходных культур т. н. культур волосовского круга.
Средневолжский вариант волосовской культуры возникает вероятно в результате смешения носителей северо-западных (гребенчато-ямчатых ) волго-окских (ямочно-гребенчатых) и волго-камских (гребенчатых) культурных традиций. Связующим звеном всех трех указанных типов традиций могут служить протоволосовские комплексы Среднего Поволжья типа Красный Мост-II и III.
Ранние волосовские материалы Среднего Поволжья имеют радиоуглеродные датировки (не калиброваны) :4825+-80 л.н. (поселение Майданское),4720+-80 л.н. (поселение Удельный
Шумец -VI) (А.И. Королев и др.,2010, стр.257).
Волосовская культура Волго-Окского междуречья формируется на основе гибридизации поздних вариантов культуры ямочно-гребенчатой керамики волго-окского типа и северо-западных древностей: валдайской культуры. На этот процесс накладываются контакты с носителями восточноприбалтийской нарвской культуры. Именно в этих контактах и следует искать зарождение новой керамической традици — примеси толченой раковины в тесте глины. К сожалению, среди исследователей нет единых четких критериев разделения протоволосовской и собственно ранней волосовской керамики.Часто протоволосовской именуется и керамика без примесей толченой раковины северо-западного типа и ямочная и ямочно-гребенчатая керамика с примесью толченой раковины и керамика с гребенчатым орнаментом с примесью раковины, но тонкостенная и т.п. На тех поселениях, где стратиграфически выделяются соответствующие горизонты культурного слоя, они, как правило, содержат все типы данной керамики в смешанном виде.Это вполне естественно при процессе гибидизации.
В этой связи следует признать правильной точку зрения В.В. Сидорова и А.В. Энговатовой ( В.В. Сидоров и др.1996), которые не видели оснований для выделения т. н. протоволосовской культуры, а именовали данный процесс протоволосовским этапом. Мне представляется, что критерием выделения ранневолосовской керамики на Верхней Волге и Средней Оке будет являться наличие примеси толченой раковины в тесте глины независимо от типа орнамента. Исключения будут представлять лишь фрагменты восточноприбалтийских нарвских сосудов, которые имеют свои отличия.
Рисунок 1,2. Ранний волосовский сосуд и волосовская керамика с примесью раковины в тесте глины и ямочным орнаментом. Верхнее Поволжье.

Абсолютные датировки протоволосовского этапа отсутствуют. Имеющаяся дата с торфяниковой стоянки Маслово Болото-IV с керамикой северо-западного типа (2840+-120 л.до н.э, т. е. приблизительно 4860+-120 л.н.) ( В. В. Сидоров, 1986, стр.135) представляется несколько омоложенной из-за торфяного пожара, что случается на торфяниковых памятниках. В пользу омоложенности говорит ее сопоставление с абсолютными датировками ранневолосовских памятников региона.
Для ранневолосовских памятников Волго-Окского междуречья можно привести следующие некалиброванные даты по С14: для наиболее раннего слоя волосовской культуры на торфяниковом поселении Воймежное-I в Шатурском р-не Московской обл. - 4860+-50 л.н. ( А.В.Энговатова, 1997, стр.62,122-124), для поселения
Ивановское -III в Ярославской обл. начало волосовской культуры датируется 4800+-250 л.н. (Д.А. Крайнов, 1987,стр.13).
Данных по северо-западному варианту волосовской культуры пока недостаточно. Предварительно можно предполагать, что он возникает в результате взаимодействия носителей культуры ямочно-гребенчатой керамики волго-окского типа с валдайскими и мстинскими древностями и, вероятно, культуры гребенчато-ямочной культуры Северо-Запада. При этом здесь ощущается сильное влияние восточно-прибалтийских культур ( М.П. Зимина, 1996, стр. 197-198). С поселения Репище происходит некалиброванная дата по С14 4670+-120 л.н. ( М.П. Зимина, 1996, стр.198).
Примимо этого, культуры, сходные с волосовской ( культуры волосовского круга) возникают также в Карелии, Финляндии и Северо-Восточной Прибалтике.
Культуру волосовского круга Карелии и Финляндии иногда называют культурой асбестовой керамики. Однако, по мнению И.Ф. Витенковой это не совсем верно, поскольку часто керамика имеет и органическую примесь ( И.Ф. Витенкова, 2006, стр.148). Посуда с круглым, уплощенным или плоским дном, изготовлена из глины с примесью асбеста, органики или их смеси.На ранних памятниках данная керамика близка предшествующей гребенчато-ямочной керамике. Между этими культурами существует несомненная генетическая связь (И.Ф. Витенкова, 2006, стр.148,155).
Рисунок 3. Волосоидная керамика с примесью асбеста. Карелия.
Наконец, в Восточной Прибалтике ( Эстония, Лубанская равнина) также известны археологические культуры волосовского круга — т. н. постнарвские культуры или памятники типа Пиестиня (более ранние)и культура пористой керамики, как продолжение развитие линии Пиестиня.
Керамика имеет признаки двух культур: нарвской и культуры гребенчато-ямочной керамики. В частности: примесь толченой раковины и органики к тесту глины, в чем исследователи усматривают продолжение традиций нарвской культуры (Н.Н. Гурина,1996а,стр.152).Но особенно гибридный характер керамики проявляется в орнаментации. Наряду с орнаментом, свойственным для нарвской культуры- поверхностный орнамент, выполненный гребенчатым штампом, ямчатыми и точечными вдавлениями,образующие диагональные или горизонтальные пояса, встречаются узоры,повторяющие рисунки на гребенчато-ямочной керамике, вплоть до «флажков» ( Н.Н. Гурина, 1996а, стр.152).
Таким образом возникновение культур волосовского круга Восточной Прибалтики является результатом гибридизации нарвской культуры и прибалтийской культуры гребенчато-ямочной керамики. Прибалтийская гребенчато-ямочная керамика имеет несомненную генетическую связь с гребенчато-ямочной керамикой Северо-Запада России и Юго-Восточной Финляндии. Н.Н. Гурина справедливо указывает на более широкую связь указанной гребенчато-ямочной керамикой Прибалтики и Северо-Запада и с ямочно-гребенчатой культурой волго-окского типа, с одной стороны и с валдайской культурой, с другой ( Н.Н. Гурина, 1996, стр.151).
Рисунок 4, 5. Сосуд культуры гребенчато-ямочной керамики .Восточная Прибалтика. Сосуд культуры гребенчато-ямочной керамики .Карелия.

Вообще складывается впечатление, что данная гребенчато-ямочная керамика в широком смысле достаточно близка всему пласту гребенчато-ямчатых древностей, протянувшимся полосой от Северо-Запада и далее на восток, о которых я упоминал выше.
Памятники культуры волосовского круга Восточной Прибалтики ( типа Пиестиня, пористой керамики) по радиоуглеродным датировкам ( не калиброваны) примерно синхронны памятникам волосовской культуры восточных территорий. Так для стоянок Лубанской равнины это будет диапазон 4780+-225 -4350+-200 л.н. ( Д.А. Крайнов, 1987, стр.14).
Итак, повсеместно время начала самой волосовской культуры и культур волосовского круга можно предварительно датировать не позднее первой четверти III т.л. до н.э. ( по некалиброванным абсолютным датам). Калибровка радиоуглеродных дат ведет к их удревнению. Таким образом сами процессы сложения волосовской и близких ей культур, можно смело относить к концу IV т.л. до н.э. Это были мощные интеграционные процессы, охватившие территорию от Восточной Прибалтики и Южной Финляндии на северо-западе до Средней Волги на востоке и до бассейна Средней и Нижней Оки на юге, положившие начало сложению волосовской культурно-исторической общности.
В происхождении волосовской культуры, несмотря на влияние гребенчато-ямчатых северо-западных древностей, ведущая роль принадлежала культуре ямочно-гребенчатой керамике волго-окского типа, в этом вопросе мнения всех исследователей совпадают.
На сегодняшний день, данные, которыми мы располагаем не позволяют объяснить почему на некоторых территориях Русского Севера ( например территория каргопольской культуры) не происходит трансформация культуры ямочно-гребенчатой керамики в культуру волосовского типа. Волосовская культура, по-видимому, распространяется здесь диффузно, среди местных племен поздней ямочно-гребенчатой каргопольской культуры и в уже сложившемся виде ( памятники типа Модлоны), хотя и достаточно рано.Пока остается без ответа вопрос: в чем причина отсутствия продуктивного контакта носителей каргопольской культуры с носителями северо-западных древностей.
Сами указанные гребенчато-ямчатые древности, а также культура гребенчато-ямочной керамики Северо-Запада , с одной стороны автохтонны, а с другой, в процессе своего развития испытывали сильное влияние классической культуры ямочно-гребенчатой керамики ( волго-окского типа).Именно все эти пласты древностей,а также культуру ямочно-гребенчатой керамики волго-окского типа и имеют в виду исследователи, когда говорят о западном компоненте в восточных волго-камских культурах типа новоильинской.
И, наконец, возникает вопрос о попытке языковой атрибутации носителей древностей всех этих типов, используя данные исторической ретроспективы. О прафинно-угорском характере самой волосовской культуры и культур волосовского круга говорилось в предыдущем сообщении.
При этом представляется, что т. н. протоволосовский этап это тот рубеж, дальше которого указанная историческая ретроспектива теряет мало-мальски научный смысл, иными словами невозможна.
И вот почему:
Вполне доказана генетическая связь постшнуровых и фатьяноидных древноностей Восточной Прибалтики, Северо-Запада и Южной Финляндии с прафинской культурой сетчатой керамики (М.М. Юшкова,2011).
В плане языковой атрибутации носителей культуры боевых топоров и шнуровой керамики вопросов не возникает также — они индоевропейцы.Следовательно прафинский характер постшнуровых и фатьяноидных древностей происходит от второго компонента, участвовавшего в их сложении — носителей культур волосовского типа (волосовская, культура пористой керамики Восточной Прибалтики).
Если рассматривать саму волосовскую культуру, то в сложении ее западных вариантов принимало участие население культуры ямочно-гребенчатой керамики и носители северо-западных древностей, а в сложении средневолжского варианта еще и носители волго-камских культур. Вывести прафинно-угроязычность волосовской культуры и культур волосовского круга из Волго-Камья не получается. Еще можно было бы допустить инфильтрацию каких-либо восточных прафинских элементов в среду самой волосовской культуры.Но это совершенно не представляется возможным для территории Восточной Прибалтики, в частности Лубанской низменности и т.д.( во всяком случае с момента возникновения волосоидной культуры пористой керамики) и где, однако, позднее происходит автохтонное формирование культуры сетчатой керамики. На это обстоятельство справедливо указывал В.В. Никитин, отмечая, что неолитические культуры волго-камского круга сюда никогда не проникали ( В.В. Никитин, 2008, стр.160).
Конечно, если рассматривать уникальные торфяниковые стоянки Лубанской низменности, то здесь на протяжении длительного времени наблюдается генетическая преемственность культур ( мезолит-эпоха бронзы), что свидетельствует об отсутствии полной смены коренного населения ( Н.Н. Гурина, 1996а, стр.155). За весь этот период пришлыми здесь были только две культуры : культура гребенчато-ямочной керамики и культура шнуровой керамики. Волосоидная культура пористой керамики возникает здесь на основе гибридизации нарвской культуры и культуры гребенчато-ямочной керамики.
Из этого следует вывод, что либо все этнокультурные компоненты, участвовавшие в формировании этой культуры волосовского круга были прафинскими, либо прафинским был один из таких компонентов.
Все это представляется справедливым и для территории Волго-Окского междуречья.
Здесь гипотетически прафинской может оказаться и нарвская культура и культура гребенчато-ямочной керамики Северо-Запада и северо-западные культуры типа валдайской, наконец волго-окская культура ямочно-гребенчатой керамики, т. е. все компоненты сложения волосовских древностей.
Вот почему в этой связи и с этого момента лично мне историческая ретроспектива не представляется возможной: будет слишком много произвольностей и допущений.
Однако, отдельные вопросы еще будут заторнуты в моих последующих сообщениях.
Констатировать можно лишь одно: процессы, связанные с возникновением прафинской волосовской культуры Волго-Окского междуречья и культур волосовского круга Северо-Запада напрямую никак не связаны с Камско-Уральским регионом.
Свои следующие сообщения я хотел бы посвятить проблемам культуры ямочно-гребенчатой керамики.
Литература:
Т.И. Алексеева. Неолитическое население лесной полосы Восточной Европы (Сравнительный антропологический
аспект)./Неолит лесной полосы Восточной Европы (Антропология Сахтышских стоянок). М.1997
О.Н. Бадер. Бассейн Оки в эпоху бронзы. М.1970.
А.Я. Брюсов.Проблемы происхождения культур каменного века в северной части СССР./САИ №4. М.1968
И.Ф. Витенкова.Об этнической принадлежности населения Карелии в период позднего неолита-энеолита./Проблемы этнокультурной истории населения Карелии ( мезолит-средневековье). Петрозаводск 2006
Н.Н. Гурина. Валдайская неолитическая культура./ СА № 3. М.1958
Н.Н. Гурина.Культура гребенчато-ямочной керамики./Археология.Неолит Северной Евразии. М.1996
Н.Н. Гурина.Стоянки постнарвского типа./ Археология. Неолит Северной Евразии. М.1996а
М.П. Зимина. Стоянки позднего неолита и бронзы в Новгородской и Калининской областях./ СА № 2.М.1968
М.П. Зимина. Мстинская культура./Археология. Неолит Северной Евразии. М.1996
А.И. Королев, А.А. Шалапинин. Радиоуглеродное датирование ранних материалов волосовской культуры Среднего Поволжья./Известия Самарского Научного Центра РАН,вып.2, т.12. Самара 2010
Е.Л. Костылева, А.В. Уткин. Погребальные комплексы эпохи первобытности на Сахтышском торфянике./ Вестник ИвГУ. Серия: «Гуманитарные науки», вып.1. Иваново 2008
Д.А. Крайнов.Стоянка и могильник Сахтыш-VIII./Кавказ и Восточная Европа в древности. М.1973
Д.А. Крайнов. К вопросу о происхождении волосовской культуры./ СА № 2. М.1981
Д.А. Крайнов. Волосовская культура./ Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М.1987
А.Л. Никитин. Существовала ли волосовская культура ? / СА № 2. М.1974
Е.Л. Лычагина, А.А. Выборнов. К вопросу о происхождении и хронологии новоильинской энеолитической культуры./Научный Татарстан, вып.2. Казань 2009
В.В. Никитин. Медно-каменный век Марийского края. Йошкар-Ола 1991
В.В. Никитин. Каменный век Марийского края./ Труды Марийской АЭ, т.IV. Йошкар-Ола 1996
В.В. Никитин. Истоки волосовских древностей на Оке и Волге ( по материалам поселений Красный Мост-II и III)/
Археология Восточноевропейской лесостепи, вып.2, т.1. Пенза 2008
В.В. Сидоров.Маслово Болото 7-поселение льяловской культуры./ СА №4. М.1986
В.В. Сидоров. Волосовская культура — происхождение, судьба./ Влияние природной среды на развитие древних сообществ. Материалы научной конференции. Йошкар-Ола 2007
В.В. Сидоров, А.В. Энговатова. Протоволосовский этап или культура? /Тверской Археологический сборник, вып.2.
Тверь 1996
В.М. Раушенбах. Стоянка Николо-Перевоз-II на р. Дубне./Экспедици ГИМ. М.1969
В.П. Третьяков.Поселение Бологое-II в Калининской области./ СА № 2. М.1977
П.Н. Третьяков. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге.М.Л. 1966
А.В. Уткин. Е.Л. Костылева. Рождение и гибель волосовской культуры./Тезисы международной конференции
посвященной столетию со дня рождения В.П.Левенка. Липецк 2006
И.К. Цветкова.Племена рязанской культуры./ Труды ГИМ №44. М.1970
И.К. Цветкова, А.Е. Кравцов. Керамика неолитической стоянки Владычинская-Береговая -I. /СА №2, М.1982
А.Х. Халиков.Древняя история Среднего Поволжья. М.1969
А.В.Энговатова.Древнейшие охотники и рыболовы Подмосковья. М.1997
А.В. Энговатова, М.Г. Жилин, Е.А. Спиридонова. Хронология верхневолжской ранненеолитической культуры
( по материалам многослойных памятников Волго-Окского междуречья)./ РА №2, М.1998
М.М. Юшкова.Эпоха бронзы и ранний железный век на Северо-Западе России./Автореферат кандидатской диссертации. СПб 2011
- "Спасибо" сказали: Tora_sama
#13

 Опубликовано 07 Июль 2012 - 13:03
Опубликовано 07 Июль 2012 - 13:03

Культурно-историческая общность ямочно -гребенчатой керамики.
Очертить точные границы культурно-исторической общности ямочно-гребенчатой керамики довольно непросто по причине неисследованности многих регионов.Помимо основной территории — Волго-Окского региона с сопредельными территориями, паятники данного типа распространены в Карелии до границ с современной Финляндией и дальше на
север; на территории Русского Севера- вплоть до побережья Белого моря,на северо-востоке и востоке эти границы, вероятно, следует искать где-то в Северном Предуралье, а далее на юг -
вблизи Волго-Камья и в Среднем Поволжье .Еще сложнее обстоит дело на юго-западе и на юге. Ямочно-гребенчатую керамику находят в верховьях р.Десны, возможно, и далее; на Левобережной Украине также выделяется культура ямочно-гребенчатой керамики ,стоянки с ямочно-гребенчатой керамикой зафиксированы и на территории южной и юго-западной лесостепи.
Ямочно-гребенчатая керамика получила свое название из-за весьма характерного и специфического орнамента, присущего только данной общности.Это сплошные ряды круглых, конических в разрезе ямок, расположенных в шахматном порядке, разделенные между собой зонами с оттисками гребенчатого штампа. Подобную керамику еще называют ямочно-гребенчатой керамикой волго-окского или льяловского типа..
Характерно, что все культуры, водящие в эту культурно-историческую общность начинают приобретать существенные различия между собой только на поздних этапах, до этого отличия не особо принципиальны, поэтому в литературе, когда речь идет о ранних стадиях этих культур, часто употребляются термины «культуры с ямочно-гребенчатой керамикой волго-окского типа», «культуры льяловского типа», «культуры льяловского круга», «культуры с керамикой льяловского типа» и т. п. Причем везде отмечается и общая тенденция их развития и практически все они проходят через стадию с «классической ямочно-гребенчатой керамикой».
Не на всех территориях, где встречены памятники с ямочно-гребенчататой керамикой, последние являются автохтонными, т. е. генетически связанными с предшествующими ранненеолитическими культурами ( которые, в свою очередь,также представляют культурно-историческую общность — этот вопрос более подробно будет рассмотрен в следующем сообщении о происхождении культурно-исторической общности ямочно-гребенчатой керамики).
Теперь следует охарактеризовать все эти составляющие одной большой кульурно-исторической общности ямочно-гребенчатой керамики по территориальному признаку.
Волго-Окское междуречье и сопредельные регионы.
Культура ямочно-гребенчатой керамики носит здесь название льяловской культуры, на более поздних периодах ,помимо этого, выделяются памятники рязанского и балахнинского типов, некоторые авторы называют их культурами.
В развитии льяловской культуры прослеживают ранний, средний ( развитый) и поздний
этапы.Современная периодизация льяловской культуры построена на материалах хорошо стратифицированных торфяниковых стоянок, таких как Языково, Воймежное-I и пр. и определяется в основном по характеру орнаментации керамики. Некоторые исследователи, помимо раннего, выделяют еще и архаичный этап льяловской культуры (например В.В. Ставицкий,2006, стр.11-15 и др.). Но в последнем случае следует отметить и определенные сложности: в основном архаичный этап выделяется типологически, по керамике. Но возникает впечатление, что проследить его стратиграфически ( т. е. отделить архаичные горизонты культурного слоя от горизонтов культурного слоя ранненго этапа) удается далеко не всегда.
Для раннего этапа характерна своеобразная толстостенная керамика с широкими зонами гребенчатого штампа, в сочетании с ямочным орнаментом, при этом последний нередко бывает разреженным. Помимо гребенчатых оттисков довольно часто встречаются оттиски торца какого-то инструмента, возможно косточки, образующие пояса. Днища сосудов округлые, либо слегка приостренные, венчики чаще утончающиеся или прямые. Примесями в тесте глины служат дресва и песок



(Рис1. Керамика раннего этапа льяловской культуры. Рис 2 Реконструкция сосуда раннего этапа льяловской культуры. Замостье-2. Московская область).
Динамика орнаментации льяловской керамики во времени идет в направлении увеличения ямочных зон на сосудах от раннего периода к более поздним, на заключительном этапе кое- где появляется т. н. редкоямочная керамика.



(Рис.3,4 Керамика среднего этапа льяловской кульуры и керамика позднего этапа льяловской культуры. Рис.5 Редкоямочная керамика финального этапа льяловской культуры).
Для льяловской культуры, впрочем как и для всей культурно-исторической общности ямочно-гребенчатой керамики не свойственна техника изготовления орудий на пластинах, все орудия выполнены из отщепов, путем двусторонней ретуши: кремневые наконечники стрел и дротиков, скребки, скобели, ножи, проколки и сверла и т. п. Рубящие орудия представлены как шлифованными, так и нешлифованными формами: тесла, долота и т.д.
Очень интересны шлифованные каменные мотыги со сверленным отверстием посередине.О специфике данных орудий неоднократно говорилось рядом исследователей (Е.Л. Костылева и др., 2000, стр.19-23; А.В. Уткин, 1997, стр.74-78; В.В. Сидоров,1975, стр.115-116 и др.).
В последней интерпретации данного вида орудий,часть их рассматривается как клевцы ( В.В. Сидоров, 2011, стр.192).
Особого внимания заслуживают антропоморфные фигурки из обожженной глины, как например, обломок антропоморфной скульптурки ,происходящей с поселения Торговище-I в Ярославской области и, возможно, связанной с льяловским горизонтом культурного слоя (Д.А. Крайнов и др.,1992, стр.39-40). Подобные фигурки происходят и с других льяловских памятников.

(Рис.6,7. Кремневые наконечники стрел и дротиков. Орудия из кости. Каменные шлифованные сверленные клевцы и мотыга. Льяловская культура.

Рис.8. Антропоморфная фигурка (Торговище-I). Сланцевое кольцо и подвеска. Фрагмент сосуда с изображением уточек. Каменные штампы для орнаментации керамики. Орнаментированные костяные предметы. Льяловская культура)
На поселениях известны углубленные в землю жилища , легкие наземные сооружения, а также наземные жилища неясной конструкции, вероятно, что-то ввиде большого легкого навеса.Примером последнего может служить сооружение на стоянке Луково Озеро-I в Московской области. Его площадь составляла приблизительно 140 кв.м., в пределах сооружения находились пять очагов с песчаными и берестяными прослойками в нижней части, еще один подобный очаг находился за пределами жилища ( В.В. Сидоров и др., 1980, стр.126-143).Складывается впечатление, что на всех поселениях льяловской культуры, как правило, было только по одному жилищу ( независимо от формы его конструкции), в котором и обитали все его жители.На этот очень любопытный момент справедливо указал В.В. Сидоров (В.В. Сидоров, 2011, стр.192).
На ряде памятников открыты льяловские погребения. Все известные на сегодняшний день погребения в основном одиночные( известны два случая парных захоронений), совершенные чаще в вытянутой, либо, реже, в скорченной на боку позе.
Сильно скорченное на левом боку захоронение, с ориентировкой головой на восток, исследовано на стоянке Маслово Болото-II в Московской области. Захоронение сопровождалось лишь одним отщепом кремня, который касался кистей рук покойника. Пол погребенного не установлен ( В.В.Сидоров,1990, стр.28). Две могильные ямы обнаружены на льяловском поселении Луково Озеро-III в Московской области. Костяки не сохранились.По форме могильных ям можно допускать их вытянутое положение. В одной из могил обнаружена крупная овальная янтарная подвеска и шлифованное плоское кольцо из сланца. Оба погребения отнесены к концу среднего этапа льяловской культуры (В.В. Сидоров, 1990, стр.28). Приблизительно к этому же времени относится и, вероятно, скорченное разрушенное женское погребение на стоянке Варос в Ярославской области ( В.В. Сидоров, 1990, стр.29).
Три льяловских погребения встречены на стоянке Языково в Тверской области. Два из них (21 и 28) относятся к самому началу льяловской культуры, а погребение 22 к концу среднего, либо,началу позднего этапа культуры. Погребение 21 оказалось двухъярусным: в узкую глубокую яму, головой на запад, был положен ребенок около 3-х лет, а поверх него, провалившись в эту же могилу находился скелет подростка около 12 лет, ориентированного головой на восток. Оба погребения совершены в вытянутой на спине позе и не содержали инвентаря. Могила 28 также оказалась детской. Скелет ребенка около 4-х лет лежал вытянуто, в слое охры,головой на восток. На шее погребенного ожерелье из 16 клыков барсука и лисицы,на голове у виска две группы пронизок из птичьих костей, во рту — галька из песчаника. Погребение 22 принадлежало мужчине около 30 лет, было совершено в скорченной позе, головой ориентированное на юг. Единственная вещь, достоверно связанная с погребением, это кремневый скребок, который лежал на бедре (В.В. Сидоров, 1990, стр.29). Две могилы льяловской культуры раскопаны на поселении Ловцы-I в Ярославской области.В одной из них находился костяк взрослого человека, в скорченной на правом боку позе, головой на юго-восток. Погребального инвентаря в могиле не было. Костяк второго погребения сохранился плохо, в западной части могильной ямы, в области черепных костей прослежено охристое пятно. Инвентарь также отсутствовал ( В.В. Сидоров, 1990, стр.30).
На стоянке Сахтыш-II в Ивановской области исследованы четыре льяловских погребения, все они совершены в вытянутой на спине позе, головой на северо-восток и юго-запад. В трех погребениях отмечена посыпка охрой. Инвентарь обнаружен только в одном детском захоронении : в районе пояса находились 6 подвесок из зубов хищника (Д.А. Крайнов и др.,1990, стр.32-36).Наконец, самый большой могильник из 15 погребений полностью изучен на соседнем с Сахтыш-II поселении Сахтыш-II А. Здесь же обнаружены и парные захоронения: в одном случае двух детей, возраст одного около 1 года, второго 3-4 года и женское погребение с младенцем. Положение определено у 14 погребенных. В индивидуальных захоронениях восемь костяков лежали вытянуто на спине, два костяка вытянуто на животе, в одном случае покойник был положен скорченно на левый бок. В парном детском погребении, костяки лежали вытянуто на спине и на левом боку, а в парном женском погребении с младенцем, женский костяк лежал навзнич, а младенец, предположительно, ничком между ног женщины. Большинство погребенных ориентированы головами в юго-восточном направлении, четыре в противоположную сторону — на северо-запад,в двух случаях скелеты лежали черепами на восток. Некоторые покойники, вероятно, были связаны. В одном женском погребении под черепом зафиксировано небольшое пятно красной охры. Инвентарь присутствовал в четырех захоронениях: в мужской могиле найдено костяное острие, в женском захоронении — два костяных кинжала, в другом женском захоронении найдены костяные орудия: проколка, нож и ретушер, третье также женское захоронение сопровождалось глиняной эмбрионовидной фигуркой.Структурно могильник является линейно-рядовым. Все погребения относятся к раннему этапу льяловской культуры и, согласно некалиброванным абсолютным датам захоронены в диапазоне 6130+-120- 5820+-200 л.н. (Е.Л. Костылева и др.,2008, стр.9-10).
( Рис. 9.Льяловские погребения на стоянке Сахтыш-II ( по Д.А. Крайнову и др.))
В самой льяловской культуре, начиная с ее развитого этапа выделяется несколько локальных вариантов и более мелких групп.Основные различия в особенности керамических форм и излюбленных орнаментальных мотивов, хотя все эти варианты и группы очень близки между собою.
Ярким примером, одной из таких локальных групп может служить территория Верхнего Поволжья где-то в пределах Ярославской и Ивановской областей.Льяловская керамика данной группы характеризуется толстостенностью, крупными коническими ямками,все эти особенности слишком заметны и здесь не требуется статистического анализа орнамента на керамике и применения других специализированных методов исследования.



( Рис.10- 12.Керамика локальной группы льяловской культуры в Ярославском Поволжье)
Сложнее обстоит дело с интерпретацией рязанской и балахнинской культуры.
В Рязанском Поочье выделяется группа памятников, характеризуемая своеобразной керамикой: в ее орнаментации преобладают наклонные и овальные ямки, для венчиков сосудов характерны «воротничковые» формы, помимо оттисков гребенчатого штампа,часто встречаются веревочные оттиски, а, иногда, оттиски рамчатого штампа. Все это дало повод для некоторых исследователей говорить о выделении здесь самостоятельной рязанской культуры.
Например, в свое время,И.К. Цветковой было предложено деление рязанской культуры на три хронологических этапа: ранний, средний и поздний (И.К. Цветкова, 1970).Однако уже и тогда возникали сомнения в обоснованности выделения раннего этапа в данной группе памятников, поскольку керамика, как и другие артефакты раннего этапа рязанской культуры ничем не отличаются от керамики и инвентаря льяловских стоянок с других территорий, с чем соглашалась и сама И.К. Цветкова. К такому же выводу приходит и А.В. Энговатова, анализируя керамику раннего этапа т. н. рязанской культуры ( А.В.Энговатова,1990, стр.20). Материалы, отнесенные И.К. Цветковой к позднему этапу рязанской культуры, в настоящее время вообще не связываются с кругом культур ямочно-гребенчатой керамики. Эти материалы свидетельствуют о сложных этнокультурных процессах в бассейне Средней Оки, связанных с .древностями «дубровического типа», лесостепными культурами и т. п. и их появление относится к тому временени, когда никакой культуры ямочно-гребенчатой керамики в Волго-Окском регионе уже давно не существовало. Таким образом, о локальных особенностях можно говорить только по отношению к среднему этапу рязанской культуры по И.К. Цветковой.Однако вряд ли имеются достаточные основания для выделения самостоятельной рязанской культуры.
В.В. Ставицкий совершенно справедливо указывает, что в Рязанском Поочье имеются памятники архаичного, раннего и развитого этапов льяловской культуры, а в в позднельяловское время здесь происходит сложение рязанского варианта культуры ямочно-гребенчатой керамики (среднего этапа рязанской культуры по И.К. Цветковой — прим. мое).Керамика раннего и среднего этапа Рязанского Поочья мало отличима от льяловской керамики Волго-Окского междуречья, культурное единство с которой не вызывает сомнений.Рязанские памятники, расположенные на южной окраине льяловского варианта испытывали воздействие лесостепных культур,что, видимо, и привело к появлению «воротничков» на венчиках. Самые ранние «воротнички» появляются на раннельяловской керамике в Прихоперье. Их распространение в Рязанском Поочье, видимо, связано с возвратным движением носителей культуры ямочно-гребенчатой керамики из Прихоперья, которые отступали под давлением южных раннеэнеолитических культур ( В.В. Ставицкий, 2006, стр. 13-14).
Таким образом, представляется более справедливым говорить не о «рязанской культуре», а о рязанском варианте культуры ямочно-гребенчатой керамики, либо,что будет точнее, о рязанском варианте культур льяловского круга.
(Рис.13. А- Керамика рязанского варианта культуры льяловского круга В- Ранняя керамика Рязанского Поочья ( п. А.В. Энговатовой))
Наиболее известным ( хотя, к сожалению, далеко не полностью введенным в научный оборот) памятником рязанского варианта льяловской культуры является поселение и могильник Черная Гора в Клепиковском районе Рязанской области. Здесь онаружено 18 могил, которые можно соотнести с указанной культурой. Положение погребенных различное: вытянутое на спине, вытянутое на животе, скорченное на боку. Ориентировка неустойчива.Одно из погребений было двойным: захоронение женщины с новорожденным. В некоторых случаях можно допускать, что погребенные были туго связаны. Погребальный инвентарь присутствовал лишь в одной женской могиле, в районе тазовых костей. Вероятно, это был поясной набор: 27 просверленных зубов животных, 6 подвесок из челюстей мелких грызунов, три сланцевые и три костяные подвески (Н.Н. Гурина, 1996, стр.184).
(Рис.14 Инвентарь стоянки Черная Гора. Рязанская область.

Рис.15.Графическая реконструкция по черепу мужчины со стоянки Черная Гора).
В нижнем течении р.Оки, на Средней Волге и на сопредельных территориях по мнению ряда исследователей локализуется балахнинская культура. Серьезное изучение культуры началось недавно. Однако, по мнению авторов, в основе и этого локального образования культура ямочно-гребенчатой керамики льяловского круга (Л.Я. Крижевская ,1996, стр.186-187).Раннебалахнинская керамика мало чем отличается от раннельяловской керамики с других территорий (С.А. Кондратьев, 2008, стр.140). Впоследствии прослеживается влияние южных лесостепных культур, что нашло свое отражение все в теж же «воротничковых» венчиках сосудов. Можно допускать здесь и достаточно раннее смешение носителей традиций культуры ямочно-гребенчатой керамики и носителей северо-западной валдайской культуры.Ряд аналогий в керамических комплексах Валдайского региона с более восточными территориями, вплоть до Среднего Поволжья отмечен еще М.П. Зиминой (М.П. Зимина, 1968, стр.136-158). На это обращал внимание и В.П. Третьяков ( В.П. Третьяков,1977, стр.215-222). По мнению А.Х. Халикова ,керамика развитого этапа балахнинской культуры близка гребенчато-ямочной культуре Карелии, Приладожья и Прибалтики (А.Х. Халиков, 1969, стр. 109-113). На сегодняшний день это сходство объясняется смешением в балахнинском локальном варианте льяловских и северо-западных валдайских культурных элементов ( В.В. Сидоров, 2011, стр. 192). Вероятно этот уже смешанный компонент и явился основой для возникновения Средневолжского варианта волосовской культуры ( В.В. Никитин, 2008, стр.152-167). Складывается впечатление и об участии именно этого уже смешанного компонента в сложении новоильинской энеолитической культуры ( Е.Л. Лычагина и др., 2009, стр. 33-36).

(Рис.16. Балахнинская керамика)
Теперь следует сказать несколько слов об абсолютных датировках культур льяловкого круга в Волго-Окском регионе и на прилегающих территориях.
Наиболее представительные абсолютные датировки имеются для архаичного и раннего этапов льяловской культуры и культур льяловского круга.
Несколько таких радиоуглеродных дат ( не калиброваны) происходит с торфяниковой стоянки Воймежное-I ( Московская Мещера): 6100+-50л.н.; 6000+-40 л.н.; 5990+-50 л.н. (А.В. Энговатова и др.,1998).
Погребения раннего этапа льяловской культуры на поселении Сахтыш-II А (Ивановская область) совершены в интервале 6130+-120 л.н. - 5820+-200 л.н.(Е.Л. Костылева и др.,2008, стр.9-10).
На стоянке Озерки-5 ( Конаковский район Тверской области) ранний льяловский слой имеет дату 5930+-200 л.н., а на стоянке Ивановское -7 ( Ярославская область) -5920+-60 л.н.
(А.В.Энговатова и др.,1998)
Раннельяловский комплекс в Языково ( Кашинский район Тверской области) датируется 6280+-120 л.н. - 5980+-120 л.н.(В.В.Сидоров,1980,стр.143).
Большая серия радиоуглеродных дат для архаичного и раннего этапов льяловской культуры получена в Среднем Поволжье. Для Среднего и Марийского Поволжья они укладываются в диапазон 6085+-90 л.н. - 5720+-80 л.н. (А.А. Выборнов и др.,2009, стр. 283-284).
Относительно среднего этапа льяловской культуры, можно указать на абсолютные даты с
поселений Сахтыш -I и Cахтыш-II ( Ивановская область) — 5430+-60 л.н.; 5330+-60 л.н.
5200+-40 л.н.(Д.А. Крайнов и др., 1991, стр.32-35).
Средний этап льяловской культуры в Языково ( Кашинский район Тверской области) датирован 5540+- 120 л.н. (В.В. Сидоров, 1980, стр.143).
Наконец, поздний и финальный период льяловской культуры представлен датами со стоянки
Сахтыш-I ( Ивановская область), они колеблятся в диапазоне 5050+-70 л.н. - 4900+-70 л.н.
(Д.А. Крайнов и др.,1991, стр.32).
Таким образом существование льяловской культуры и культур льяловского круга Волго-Окского региона и сопредельных территорий укладывается ( по некалиброванным датам) в промежуток с самого конца VI — начала V т.л. до н.э. до конца IV т.л. до н.э.,финал хорошо согласуется с абсолютными ( некалиброванными) датами протоволосовских и ранневолосовских комплексов.
Но культуры, входящие в культурно-историческую общность ямочно-гребенчатой керамики не органичиваются только Волго-Окским регионом с сопредельными территориями,они распространены в Карелии, на Русском Севере. Выделяется культура ямочно-гребенчатой керамики на Левобережной Украине. Проблеме происхождения всех этих культур, как и общности культуры ямочно-гребенчатой керамики в целом, будет посвящено следующее сообщение, сейчас хотелось бы рассмотреть все это в общих чертах.
Карельская культура ямочно-гребенчатой керамики.
Ее приблизительная территория очерчивается следующим образом: на Севере это низовья р. Выг, на Юге -Северная часть Ленинградской области, на Западе и Юго-Западе — границы современной Карелии и Финляндии, на Востоке захватывает бассейн озера Белого и западную часть Архангельской области. Отдельные памятники карельской культуры зафиксированы в районе Лавозера в Мурманской области (Н.В.Лобанова,2006,стр.123).
Культуру относят к кругу культур льяловской керамической традиции.
Согласно радиоуглеродным и спорово-пыльцевым данным хронологический диапазон карельской культуры определяется с конца V т.л. до н.э. до начала III т.л. до н.э. (Н.В. Лобанова, 2006, стр.124).Однако представляется, что эти датировки требуют своего уточнения, учитывая то обстоятельство, что культура своим происхождением связана с кругом культур льяловского круга, при этом на карельских памятниках имеется керамика, типологически сопоставимая с раннельяловской..

( Рис. 17. Глиняный сосуд карельской культуры. Стоянка Вожмариха.

Рис.18. Керамика карельской неолитической культуры.

Рис.19.Керамика с неолитических стоянок Карелии, идентичная раннельяловской)
Пока же выделены два этапа развития карельской культуры ямочно-гребенчатой керамики , основой для которых послужили изменения в материальной культуре и прежде всего в керамике. В основном, с кругом культур льяловского типа можно связать только два этапа: ранний и средний, а поздний этап карельской культуры это отражение сложных ассимиляционных процессов между носителями традиций ямочно-гребенчатой керамики, ромбоямочной керамики, вероятно, валдайской и гребенчато-ямочной керамики. В это же время здесь зарождаются и волосоидные памятники с асбестовой керамикой.
На раннем этапе орнамент керамики состоит из круглых конических в разрезе ямок и горизонтальных поясков штампа ( оттиски торца косточки). В отдельных чертах кремневого инвентаря прослеживается приемственность с эпохой позднего мезолита ( Н.В.Лобанова, 2006, стр.124).
На среднем или развитом этапе в орнаментации керамики возрастает роль гребенчатых отпечатков, горизонтально-зональное построение узоров на сосудах дополняется диагональным и вертикальным. Присутствует очень сложный и своеобразный орнамент т. н. многорядный зигзаг из ямок и оттисков штампа, прежде всего гребенчатого ( Н.В. Лобанова, 2006, стр.124).
Помимо всего этого, в карельской культуре выделяется не меньше 5 локальных групп ( С.В. Ошибкина, 1996, стр.220).
Каменный инвентарь карельской культуры основан на импользовании местных пород камня, поэтому значительная его часть состоит из сланцевых орудий.Рубящие орудия представлены теслами, топорами, долотами. Изредко встречаются т. н. кирки. Орудия охоты состоят из наконечников стрел и дротиков. Скребки обычно кремневые или кварцевые. Среди ножей есть серповидные и угловые из кремня и сланца.Часты находки специфических сланцевых стержней от составных рыболовных крючков, а также изделий с отверстиями, которые считают грузилами для сетей.
Среди украшений подвески, кольца и кружки из сланца. На стоянке Соломенное -VII найдена антропоморфная фигурка из обожженной глины ( С.В. Ошибкина, 1996, стр.215).
Жилища, как правило, полуземлянки, часто имеющие один, либо два выхода-коридора.
В Карелии с этим временем связывается несколько неолитических могильников, однако ни в одном из них не сохранился антропологический материал.
Самым большим погребальным памятником является могильник Сандермоха на северном берегу Онежского озера. Здесь обнаружено 107 захоронений, но лишь часть их связана с культурой ямочно-гребенчатой керамики. Почти все погребения окрашены охрой и судя по очертанием могильных ям, были совершены в вытянутой позе.По краям могил или внутри встречаются валуны, прослежены и остатки ритуальных кострищ.
Только один могильник Сямозерский-I связан исключительно с карельской культурой ямочно-гребенчатой керамики. Здесь вскрыто 5 окрашенных охрой могил. Костяки не сохранились. Судя по форме могил, они находились в вытянутом положении.Инвентарь отсутствовал (С.В. Ошибкина, 1996, стр.220).
Каргопольская культура ямочно-гребенчатой керамики.
С момента своего выделения М.Е. Фосс и вплоть до недавнего времени , каргопольская культура остаетавалась сравнительно мало изученной.
Согласно мнения С.В. Ошибкиной, ареал каргопольской культуры можно очертить так: на севере до истоков р.Онеги, на востоке и юго-востоке до верховьев р.Сухоны, на западе каргопольская культура граничит со сходной карельской культурой, поэтому здесь ее границы не определяются ( С.В.Ошибкина, 1996 а, стр.222).
Керамика изготовлена из грубого теста с примесью дресвы и песка. Сосуды круглодонные с прямыми стенками. Преобладает посуда средних размеров, круглодонная, полусферическая или слегка прикрытой формы.
Орнамент состоит из круглых конических в разрезе ямок, нанесенных в шахматном порядке.Зоны ямок разделяются косыми, либо прямыми оттисками гребенчатого штампа,прочерченными линиями.

( Рис.20. Керамика каргопольской культуры)
Периодизация керамики каргопольской культуры только в последнее время была детально разработана Н.Н. Недомолвлиной.
К раннему этапу относится керамика с преобладанием гребенчатой орнаментации. Сосуды средних размеров,яйцевидной формы, изготовлены из глины с примесью дресвы. Зональный рисунок состоит из полей вертикальных или косо поставленных оттисков гребенчатого штампа, с разделительными поясками из круглых конических ямок, от 1 до 3 поясков , в зоне венчика присутствует поясок зигзага (Н.Н. Недомолвлина,2007, стр.15). Такая керамика очень близка архаичной льяловской керамике Волго-Окского региона.
Средний этап характеризуется ямочно-гребенчатой керамикой классического типа: сосуды орнаментированы полностью, круглые конические ямки нанесены в шахматном порядке, разделителями служат прямые или наклонные оттиски гребенчатого штампа, встречаются овальные оттиски, выполненные гребенчатым штампом, веревочные отпечатки и пр. ( Н.Н. Недомолвлина, 2007, стр.16).
На поздних этапах каргопольской культуры, как и в случае с карельской культурой, керамика отражает сложные этнокультурные процессы, и разнокультурные традиции; в какой-то части прослеживается и волосоидное влияние.Но это уже не культура классической ямочно-гребенчатой керамики, а ее продолжение, выходящее за рамки неолита и, соответственно, за рамки данной темы.
Памятники среднего этапа каргопольской культуры на Верхней Сухоне датированы по С14 в диапазоне 5700+-700 л.н. - 5220+-350 л.н. ( Н.Н. Недомолвлина, 2007, стр. 22).
Эти даты близки абсолютным датам среднего этапа льяловской культуры.
Организация поселения лучше всего прослежена на примере стоянки Кубенино, где обнаружено округлое в плане наземное жилище, диаметром приблизительно 3,6 м. В центре жилища располагался очаг из четырех больших камней. В юго-восточной части жилища находилось еще одно скопление больших камней, возможно, также очаг. У стенки жилища, обращенной к реке зафиксирован крупный валун, вероятно, укреплявший стену дома.Между домом и берегом реки располагался еще один очаг, сложенный из валунов, а на восточной окраине стоянки открыто большое кострище.
Другим хорошо изученным поселением каргопольской культуры является Андозеро-2 на северном берегу одноименного озера. Здесь также исследовано наземное жилище подпрямоугольной формы, размерами 10,2 х 7,8 м. Строение состояло из вертикальных жердей-опор, на которые опирались наклонные жерди, покрытие, вероятно, было мягким и прижималось валунами с подветренной стороны.В жилище обнаружены два очага, один из которых состоял из крупных камней, выложенных кольцом. Снаружи жилища, рядом со входом также открыт очаг, диаиетром 1,5 м.,сложенный из камней. В углу жилища обнаружено погребение с разрушенным костяком. Погребальный инвентарь состоял из 7 плоских подвесок, сланцевого кольца, круглой в сечении сланцевой палочки для орнаментации керамики, каменного топорика, стамески и фигурного кремня (С.В. Ошибкина, 1996 а, стр.222).
Но особый интерес, конечно, представляют могильники каргопольской культуры, в которых сохранился антропологический материал, такие как Кубенино, Мыс Бревенный ,широко известный могильник Караваиха и пр., однако не все их возможно связать с ямочно-гребенчатым этапом возникновения и развития каргопольской культуры.
Так в Караваихе открыто 37 захоронений. Все они совершены в вытянутой на спине, либо на животе позе.Отмечается посыпка погребенных охрой. Интересны некоторые общие наблюдения автора раскопок А.Я. Брюсова.В частности А.Я. Брюсов отмечает, что у многих погребенных были намеренно перебиты ноги в области голени. Очень часто черепа погребенных оказывались расколоты камнями, в ряде случаев эти камни находились внутри расколотого черепа. В одном случае у погребенного череп отсутствовал вообще, а на его место был положен средней величины валун. В другом случае над могилой погребенной женщины, в возрасте примерно 20 лет , был устроен небольшой очаг, сложенный из камней.Сама покойница, вероятно, была либо связана, либо спелената перед захоронением.Склелет лежал на животе, лицом вниз, а сверху на него были навалены три больших валуна, причем самый большой из них — на голову. В области желудка и прямой кишки погребенной обнаружена плотная масса из мелких рыбьих костей и чешуи, что дало А.Я. Брюсову повод предполагать, что женщина умерла от заворота кишок или чего-то подобного ( А.Я. Брюсов, 1961, стр.150-153).
( Рис.21. Керамика со стоянки Караваиха ( по А.Я. Брюсову))
По мнению А.В. Уткина и Е.Л.Костылевой не все погребения в Караваихе можно связать с культурой ямочно-гребенчатой керамики, по выражению авторов, культуры каргопольско-льяловского типа. К этому периоду можно отнести только 14 захоронений, в т.ч. и погребение № 1, пластическая реконструкция по черепу которого была выполнена М.М. Герасимовым. Другая часть погребений относится к более поздему времени энеолита и позднекаргопольской культуры ( А.В. Уткин и др., 2001, стр. 55-66).
(Рис.22. Реконструкция М.М. Герасимова по мужскому черепу из могилы 1. Караваиха).
Беломорская культура ямочно-гребенчатой керамики.
В Нижнем течении Северной Двины и Беломорье был открыт ряд неолитических памятников с ямочно-гребенчатой керамикой, что, в свое время послужило основанием для выделения беломорской культуры.
Ямочно-гребенчатая керамика,найденная на таких стоянках как Галдарея-I,Орлецы-I,Репище,
Явроньга-I и др., близка как керамике соседних карельской и каргопольской культуры, так и волго-окской керамике льяловского типа (Н.Н. Гурина, 1996а, стр.238).
Ямочно-гребенчатый период существования беломорской культуры изучен пока недостаточно, плохо разработана его периодизация и хронология. Как и в случае с карельской и каргопольской культурой, последующие этапы развития беломорской культуры выходят за рамки неолита и общности культур ямочно-гребенчатой керамики.Поэтому в конкретном случае можно лишь оганичиться констатацией факта присутствия носителей ямочно-гребенчатых древностей и на побережье Белого моря. Представляется, что развитие собственно беломорской культуры ямочно-гребенчатой керамики происходит по схемам близким для всех кульур данной общности: льяловской, карельской, каргопольской.
Культура ямочно-гребенчатой керамики Украины, культура ямочно-гребенчатой керамики в лесостепи и на юго-западных территориях.
На территории Северной Левобережной Украины в эпоху неолита также существовала культура ямочно-гребенчатой керамики. Стоянки содержащие ямочно-ребенчатую керамику зафиксированы на левом берегу р. Днепра ( выше г. Киева), на р.Сейме, Северском Донце, в низовьях Десны, по рекам Суле, Ворксле, Ореле и т.д.
(Рис.23. Ямочно-гребенчатая керамика Левобережной Украины. Верхний слой Лисогубовского поселения ( по В.И. Неприной и др.))
Помимо этого ямочно-гребенчатая керамика имеет распространение в южной и юго-западной лесоспепи современной России, а также в бассейне Верхней Десны, возможно, и далее на запад.
В соответствующей литературе придается значение не столько изучению материальной культуры населения, оставившего все эти памятники, сколько дискутируется вопрос об их происхождении.
В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть южные и юго-западные проявления культуры ямочно-гребенчатой керамики в следующем сообщении, которое будет посвящено проблеме происхождения этой культуро-исторической общности, а также контактам носителей ямочно-гребенчатых традиций с другими культурами на стадии своего формирования и раннего развития.
Литература:
А.Я.Брюсов. Караваевская стоянка./ Сборник по археологии Вологодской области. Вологда 1961
А.А. Выборнов, С.А. Кондратьев. Новые радиоуглеродные даты по ямочно-гребенчатой керамике Среднего Поволжья./Известия Самарского НЦ РАН, т.11, № 6, Самара 2009
Н.Н. Гурина. Рязанская культура. /Археология. Неолит Северной Евразии. М.1996
Н.Н. Гурина.Неолит Беломорья и крайнего Северо-Востока./ Археология. Неолит Северной Евразии. М.1996 а
М.П. Зимина.Стоянки позднего неолита и бронзы в Новгородской и Калининской областях./ СА № 2, М.1968
С.А. Кондратьев. О своеобразии ямочно-гребенчатой керамики Верхнего Примокшанья и Среднего Посурья./Археология восточноевропейской лесостепи,вып.2, т.1, Пенза 2008
Е.Л. Костылева, А.В. Уткин. К вопросу о происхождении льяловской культуры./Юбилейный сборник, посвященный 85-летию со дня рождения профессора Ю.А. Якобсона, Иваново 2000
Е.Л. Костылева, А.В. Уткин.Погребальные комплексы эпохи первобытности на Сахтышском торфянике./ Вестник ИвГУ, вып.4, Иваново 2008
Д.А. Крайнов, А.В.Уткин.Глиняные антропоморфные фигурки Центра Русской Равнины / АПВКМ, вып.7, Иваново 1992
Д.А. Крайнов, Е.Л. Костылева, А.В. Уткин.Льяловские погребения на стоянке Сахтыш-II./АПВМК, вып.4, Иваново 1990
Д.А. Крайнов,Г.И.Зайцева,Е.Л.Костылева, А.В.Уткин.Абсолютная хронология Сахтышских стоянок./ АПВМК, вып.5, Иваново,1991
Л.Я. Крижевская. Балахнинская культура./ Археология. Неолит Северной Евразии. М.1996
Н.В. Лобанова. Проблемы этнокультурной истории эпохи неолита Карелии./Проблемы этнокультурной истории населения Карелии ( мезолит-средневековье) Петрозаводск 2006.
Е.Л. Лычагина, А.А. Выборнов. К вопросу о происхождении и хронологии новоильинской энеолитической культуры. /Археология. Научный Татарстан, вып.2, Казань 2009
Н.Н. Недомолвлина. Неолит Верхней Сухоны./ Автореферат кандидатской диссертации. СПб 2007
В.И.Неприна. А.С. Беляев. Поселение и могильник новой неолитической культуры на Северной Украине. / СА № 2, М.1974
В.В. Никитин. Истоки волосовских древностей на Оке и Волге ( по материалам поселений
Красный Мост II и III )./Археология Восточноевропейской лесостепи, вып.2, т.1. Пенза 2008
С.В. Ошибкина. Карельская культура./ Археология. Неолит Северной Евразии. М.1996
С.В. Ошибкина. Каргопольская культура и памятники типа Модлоны./ Археология. Неолит
Северной Евразии. М.1996а
В.В. Сидоров.Стоянки на озере Святом у Шатуры./ Советская Археология № 3, М.1975
В.В. Сидоров.Погребения льяловской культуры в Подмосковье. / АПВКМ, вып. 4, Иваново 1990
В.В. Сидоров. Волосовская культура./Труды III (XIX) Всероссийского Археологического съезда. Спб.,М.,В. Новгород 2011
В.В. Сидоров, А.В. Трусов. Луково Озеро I- стоянка льяловской культуры./ Советская археология № 2, М.1980
В.В. Ставицкий.Неолит,энеолит и ранний бронзовый век Сурско-Окского междуречья и Верхнего Прихоперья: динамика взаимодействия культур Севера и Юга в лесостепеой зоне./ Автореферат докторской диссертации. Ижевск 2006
В.П. Третьяков.Поселение Бологое-II в Калининской области./ СА № 2. М.1977
А.В. Уткин. Орнаментированная кирка с Ивановского болота./ Археология Севера, вып.1,
Петрозаводск 1997)
А.В. Уткин, Е.Л. Костылева. Погребения на стоянке Караваиха. / РА № 3, М.2001
А.Х. Халиков. Древняя история Среднего Поволжья./ М. 1969
И.К. Цветкова. Племена рязанской культуры. / Труды ГИМ №44, М.1970
А.В.Энговатова.Стоянка Владычинская-Боровая на р.Пре. /АПВМК, вып.3, Иваново 1990
А.В.Энговатова, М.Г. Жилин, Е.А. Спиридонова. Хронология верхневолжской ранненеолитической культуры ( по материалам многослойных памятников Волго-Окского междуречья)./ РА № 2, М.1998
#14

 Опубликовано 25 Декабрь 2012 - 11:17
Опубликовано 25 Декабрь 2012 - 11:17

Происхождение культуры ямочно-гребенчатой керамики (критический обзор гипотез).
Сразу нужно отметить, что современная изученность вопроса не позволяет дать однозначный ответ о возникновении культуры ямочно-гребенчатой керамики, во многом неясен и процесс формирования всей этой культурно-исторической в целом. Вообще проблема в современых публикациях представляется довольно запутанной.
Единственное, что ни у кого из современных исследователей не вызывает сомнений, это линия развития культуры ямочно-гребенчатой керамики Волго-Окского региона: от преобладания гребенчатых элементов орнамента к классической ямочно-гребенчатой и к доминированию ямочных элементов на керамике.
Как заметил А.В. Сурков, в публикациях повященных проблемам культур с ямочно-гребенчатой керамикой в последние годы наметилась тенденция к объединению всех этих культур в рамках одной Льяловской (А.В. Сурков, 2007). Все остальные культуры данного круга рассматриваются как ее локальные варианты и отдельные этапы развития Льяловской культуры. Это замечание А.В. Суркова вполне справедливо, пожалуй за исключением культуры ямочно-гребенчатой керамики Левобережной Украины. Поэтому в настоящем обзоре термины «культура ямочно-гребенчатой керамики» и «Льяловская культура» в общем то тождественны.
Вначале хотелось бы немного обратиться к истории изучения, поскольку в литературе, как правило справочного характера, и до настоящего времени можно столкнуться с изрядной путаницей. В этой связи просто необходимо сказать несколько слов о т. н. Сущевской стоянке.
С середины 20 века и довольно долго, среди археологов существовало мнение о том, что Льяловская культура Волго-Окского междуречья и сопредельных территорий возникает на местной мезолитической основе, а для ее раннего этапа характерна керамика с преобладанием ямочных элементов орнамента и кремневый инвентарь на пластинах, т. е. мезолитоидного облика.
Рис.1. Керамика Сущевской стоянки ( по В.М.Раушенбах)
Такое представление во многом базировалось на материалах стоянки Сущево на р. Дубне Талдомского р-на Московской области, где была обнаружена вышеуказанная керамика с доминированием ямочных элементов в орнаментации и пластинчатый кремневый инвентарь. Автор раскопок сочла ее древнейшим памятником Льяловской культуры (В.М. Раушенбах, 1964, стр.188-191).Сама Льяловская культура стала представляться в качестве наиболее ранней неолитической культуры региона, а развитие орнаментации на ее керамике от преобладания ямочных элементов орнамента к их уменьшению и увеличению доли отпечатков гребенчатого штампа.
Постепенно, в ходе дальнейших исследований, этот взгляд на Льяловскую культуру кардинальным образом изменился.
Рис.2. Керамика Верхневолжской культуры.
С выделением в 1973 г. ранненеолитической Верхневолжской культуры (Д.А. Крайнов и др.,1973) стало понятно, что она везде предшествует Льяловской культуре, а на ряде поселений, горизонты культурного слоя, содержащие материалы Верхневолжской культуры располагаются непосредственно над горизонтами культурного слоя эпохи мезолита, что никогда не наблюдаеется в отношении горизонтов культурного слоя Льяловской культуры. Таким образом, предположения о непосредственной мезолитической основе Льяловской культуры не подтвердились.
Вышеуказанная Сущевская стоянка в настоящее время рассматривается не как полноценное поселение, а как местонахождение, где произошло механическое смешение ранних и поздних артефактов.
Изучение хорошо стратифицированных торфяниковых стоянок как Языково-I, Воймежное-I и др. показало, что горизонты культурного слоя содержащие Льяловскую керамику типа Сущево залегают выше горизонтов культурного слоя не только с керамикой Верхневолжской культуры, но и выше горизонтов культурного слоя с ямочно-гребенчатой керамикой, в орнаменте которой преобладают гребенчатые элементы и которую ранее рассматривали как более позднюю. Среди последней выделяется своеобразная гребенчато-ямочная керамика, получивашая название архаичной Льяловской. Это фрагменты сосудов , как правило, достаточно толстостенных, тесто глины перенасыщено дресвой, венчики приостренные или прямые, днища приостренные, либо округлые. Для орнаментации характерны широкие зоны с отпечатками гребенчатого штампа, часто встречаются округлые ямчатые оттиски, выполненные штампом (возможно косточкой), получившие название «плюсневый штамп». Ямочные элементы орнамента нанесены разреженно и ,скорее, играют разделительную роль.Стратиграфические наблюдения свидетельствовали о более раннем возрасте керамики указанных типов, что подтвердилось и радиоуглеродными датами.
На основании всего этого дискуссия о хронологическом приоритете керамики Льяловской культуры с преобладанием ямочных элементов орнамента была закрыта.
Но тем не менее, вопрос о самом возникновении Льяловской культуры по прежнему актуален. Но пока представляется возможным лишь прокомментировать точки зрения различных исследователей на указанную проблему, что и будет сделано ниже.
Рис.3. Керамика архаичной и ранней Льяловской культуры.
В историографии имеется несколько основных гипотез о возникновении Льяловской культуры Волго-Окского региона: миграционная, автохтонная -как результат развития Верхневолжской ранненеолитической культуры и появление Льяловской культуры в результате смешения традиций пришлого и местного населения.
Наиболее ранняя миграционная версия была высказана 1976 г. В.И. Неприной.Автору представлялось, что культуры с ямочно-гребенчатой керамикой в Днепро-Донском междуречье ( в т.ч. и на территории Левобережной Украины) возникают на основе Лисогубской и Днепро-Донецкой культур. В дальнейшем новая культура сдвигает свои границы к северу и являтся генетической подосновой для памятников Льяловской культуры Волго-Окского междуречья ( В.И. Неприна, 1979, стр.136-137).
Не касаясь в данном разделе проблематики генезиса культуры ямочно-гребенчатой керамики на Украине, нужно отметить, что указанная гипотеза не нашла своего подтверждения в ходе дальнейших исследований: археологические свидетельства такой миграции отсутствуют, а линия развития керамических традиций Льяловской культуры во времени оказалась совершенно иная, чем это представлялось В.И.Неприной.
Д.А. Крайнов отмечал резкое отличие Льяловской культуры с ямочно-гребенчатой керамикой от Верхневолжской и отрицал приемственность и генетическую связь между ними.Исходную территорию носителей культуры ямочно-гребенчатой керамики, Д.А. Крайнов видел на территории Севера Европейской части России (Д.А.Крайнов, 1986, стр.7).
Что касается отличий, то в чем-то Д.А. Крайнов конечно прав, однако с его выводами о появлении в Волго-Окском регионе племен Льяловской культуры в уже сложившемся виде согласиться нельзя.
По мнению некоторых исследователей, поскольку датировки ранней ямочно-гребенчатой керамики Волго-Окского региона и ранней ямочно-гребенчатой керамики Карелии практически совпадают,что, видимо свидетельствует о самостоятельном формировании культур с ямочно-гребенчатой керамикой в центральном и северном регионах лесной зоны (Н.В. Лобанова, 2006,стр.131).
Если говорить о керамике позднего этапа Верхневолжской культуры в целом, то она действительно существенным образом отличается от архаичной Льяловской керамики по примесям в тесте глины, форме и обработке поверхности сосудов,принципам орнаментации и элементам орнамента.
Но тем не менее именно на финальных стадиях Верхневолжской культуры прослеживаются значительные изменения в керамическом инвентаре, сближающих ее с архаичной керамикой Льяловской культуры.К примеру, А.В. Энговатова, помимо близости керамических традиций, отмечает сходство костяного и кремневого инвентаря, а также то, что поздние Верхневолжские памятники и Льяловские стоянки располагаются на одних и тех же местах. Это, по мнению А.В.Энговатовой, не позволяет говорить о смене традиции и о приходе совершенно нового населения на территорию Волго-Окского междуречья ( А.В.Энговатова,1998, стр.242).
В этом контексте (миграция Льяловских племен в Волго-Окское междуречье в уже сложившемся виде) не согласны с Д.А. Крайновым такие авторы как М.Г. Жилин ( М.Г. Жилин, 1996,стр.118-126), Е.Л. Костылева, А.В. Уткин ( Е.Л. Костылева и др.2000).
Ряд исследователей придерживаются точки зрения об автохтонном происхождении Льяловской культуры. Оно явилось продолжением прямой и непосредственной линии развития предшествующей ей Верхневолжской культуры.
Еще середине 70-х гг. 20 в. Ю.Н.Урбан выделял на Языковской стоянке две группы керамики с гребенчато-ямочным ораментом. Одна из них — керамика Льяловской культуры с зональной орнаментацией и преобладанием гребенчатых элементов орнамента, вторая — керамика поздней Верхневолжской культуры, в орнаменте которой появляются ямки.
Указанную Льяловскую керамику Ю.Н.Урбан считал промежуточным звеном между классической ямочно-гребенчатой керамикой Льяловского типа и керамикой поздней Верхневолжской культуры. Таким образом, он склонялся к мнению о прямом и непосредственном происхождении Льяловской культуры от Верхневолжской (Ю.Н.Урбан, 1976, стр.70).
Это мнение Ю.Н. Урбана разделяется В.В. Сидоровым.
Согласно В.В. Сидорову, поздняя Верхневолжская керамика обладает рядом признаков (обильная примесь дресвы в тесте глины,орнаментация венчиков сосудов,пояски ямок в орнаменте), которые впоследствии становятся характерными для посуды Льяловской культуры. А самая ранняя Льяловская керамика в свою очередь обладает некоторыми чертами, свойственными поздней Верхневолжской: остродонность, толстостенность, непрофилированность горла,большая доля гребенчатых отпечатков в орнаменте, в некоторых случаях наличие примеси шамота в тесте глины и т. п. Все это,по предположению В.В. Сидорова, говорит о генетической трансформации Верхневолжской культуры в Льяловскую ( В.В. Сидоров, 1986, стр.7-8).
Эти замечания указанных исследователей полностью справедливы , но в подобных построениях, к сожалению, без ответа остается главный вопрос: что явилось причиной значительных изменений в керамических традициях Верхневолжской культуры.
Несколько своеобразна точка зрения Ю.Б. Цетлина, который в своих работах (к сожалению, исключительно на основе анализа керамики, без привлечения других данных) высказывает предположение, что носители культуры ямочно-гребенчатой керамики проникают на территорию, занятую носителями Верхневолжской культуры, в результате чего последние были частично ассимилированы, а частично вытеснены с занимаемой ими территории. В одном случае автор не называет исходную территорию гипотетической миграции, а во втором обтекаемо говорит о том, что наиболее ранние, по его мнению, поселения с ямочно-гребенчатой керамикой локализуются в Центральном районе (центре Волго-Окского междуречья-прим.мое)и в бассейне Нижней Оки. Позднее носители этой культуры покидают район Нижней Оки и равномерно заселяют остальную часть Русской равнины.В развитии культуры ямочно-гребенчатой керамики, автор усматривает целых 9 периодов и отмечает общую тенденцию в возрастании во времени доли ямочного орнамента. К первому наиболее раннему периоду относятся сосуды с гребенчатым, накольчатым ( т. н. плюсневый штамп-прим.мое) и ямочным орнаментом. А в разработанной им схеме периодизации неолита Русской Равнины ( опять же только на основании анализа керамики), Ю.Б.Цетлин выделяет этап, когда носители Верхневолжской культуры и культуры ямочно-гребенчатой керамики сосуществуют и активно взаимодействуют друг с другом. Контакты эти, по мнению автора, фиксируются в традиции становления формовочных масс и орнаментации керамики (Ю.Б. Цетлин, 1991, стр.91; Ю.Б. Цетлин, 2007).
И хотя, блестящий керамист Ю.Б. Цетлин говорит о том, что им предложена совершенно новая этнокультурная история неолита (Ю.Б. Цетлин, 2007), согласится с предложенной им версией во многом сложно.
Прежде всего смущает, что выводы об этнокультурных процессах делаются автором лишь на основе в общем-то вспомогательной дисциплины (изучения керамики) а не полномасштабного анализа археологических источников.
Центр Волго-Окского междуречья в работе Ю.Б.Цетлина от 2007 г. выступает в качестве одной из древнейших зон обитания носителей Льяловской культуры . Это в общем то вполне согласуется и с общепринятой на сегодняшний день точкой зрения. Но вот само возникновение культуры в работе остается за скобками. Автор, лишь развивает свое предположение о контактах и сосуществовании носителей Льяловской и Верхневолжской культур.
Еще в 1998 г. с критикой этого предположения Ю.Б. Цетлина выступил В.В. Сидоров, отмечая, что комплексы, содержащие Верхневолжские и Льяловские черты следует рассматривать не как гибридные, а как переходные. В.В. Сидоров совершенно справедливо отметил,что не известно ни одного случая, когда бы типичный Льяловский комплекс предшествовал Верхневолжскому ( В.В. Сидоров 1998, стр.195).
Несмотря на то, что на некоторых поселениях Волго-Окского региона архаичная Льяловская керамика залегает в одном горизонте культурного слоя совместно с керамикой поздней (финальной) Верхневолжской культуры ,важный вопрос об их сосуществовании однозначного ответа не получает ( А.В. Энговатова и др.,1998).
Совместное залегание указанных материалов в одних и тех же горизонтах может объясняться и особенностями формирования культурного слоя с учетом относительно небольшого временного разрыва между окончанием одной и началом другой культуры. В пользу этого свидетельствуют и данные радиоуглеродного анализа, согласно которым хронологический приоритет всегда оказывается за поздней Верхневолжской культурой.
Это что касается непосредственно Волго-Окского региона.
Сложно что либо сказать о древнейших памятниках Льяловской культуры в бассейне Нижней Оки. В географическом смысле это очень обширный регион и в археологическом плане он изучен крайне неравномерно. С одной стороны, ареал распространения
архаичной и ранней Льяловской культуры гораздо шире собственно центральных районов Волго-Окского и частично охватывает территорию Нижнего Поочья. Но хронологический приоритет перед Волго-Окскими памятниками сомнителен.Впрочем, Ю.Б. Цетлин прямо об этом и не говорит.
Здесь представляется целесообразным обратиться к работам других исследователей непосредственно занимающихся изучением данного обширного региона, тем более, что их последние работы, возможно, позволяют понять откуда у Ю.Б. Цетлина возникло впечатление о сосуществовании на каком то этапе Верхневолжской и Льяловской культур.
В этом плане наиболее полно изучены Примокшанье и Сурско-Мокшанское междуречье, т. е. территории входящие в этот абстрактный Нижний бассейн Оки, либо сопредельные с ним.
Здесь, на ряде поселений, помимо ранней Льяловской керамики присутствует и керамика с гребенчатым орнаментом, ранее отождествлявшаяся с Верхневолжской культурой. Согласно радиоуглеродным датам, ее существования здесь укладывается в диапазон 5830+-80 л.н. - 5370+-90 л.н.( А.А. Выборнов и др.,2010, стр.254).
В тоже время радиоуглеродные даты соответствующие Льяловской культуре Примокшанья, Марийского Поволжья, бассейна р. Вад и Среднего Посурья - 6085+-90 л.н.- 5430+-90 л.н. ( А.А. Выборнов, 2010, стр.254; В.В. Ставицкий, 2006, стр.13; С.А.Кондратьев ,2011, стр. 20).
Таким образом в Примокшанье указанная гребенчатая керамика действительно синхронна ранней Льяловской керамике и сосуществует с ней продолжительное время. Вероятны и контакты между носителями обеих керамических традиций (А.А. Выборнов и др.,2010, стр.254). Однако, в настоящее время ряд исследователей считают, что ближайшие аналогии гребенчатой керамики Примокшанья следует искать не в Верхневолжской, а в других культурах, например, в керамике позднего этапа Камской культуры ( А.А. Выборнов и др.,2010, стр.253).
Сейчас сложно ответить на вопрос насколько вся эта керамика однородна, близка ли она Камской культуре или же это проявление какие-то обособленных локальных вариантов и дериватов Верхневолжской культуры, либо близких ей культурных образований и т. п. В данном контексте важно другое: с классической Верхневолжской культурой она больше не связывается. Но как бы там ни было, специалисты по неолиту Примокшанья и Сурско-Мокшанского междуречья отмечают несоответствие процессов, происходивших в этом регионе и их хронологии, традиционным схемам, выработанным для неолита Волго-Окского междуречья, поскольку эта территория является промежуточной зоной между Волго-Окским междуречьем и Среднем Поволжьем , а специфика развития данного региона проявляется уже в раннем неолите ( А.А. Выборнов и др..2010, стр.255).
Видимо, все эти вышеприведенные факты являются в какой-то мере еще одним отрицательным ответом на предположение Ю.Б. Цетлина о сосуществовании и контактах носителей Верхневолжской и Льяловской культур.
Теперь собственно о Льяловской культуре региона.
Ряд авторов считают, что имеющиеся данные не дают оснований для решения об автохтонном происхождении Льяловской культуры в Примокшанье и Посурье, ее появление здесь, в конечном итоге, связывается с Волго-Окским междуречьем. ( А.А. Выборнов и др.,2010, стр.253-254; С.А. Кондратьев, 2011, стр.18). Помимо этого, С.А. Кондратьев, соглашается с В.В. Ставицким и полагает, что не представляется возможным синхронизировать какой-либо из комплексов с ямочно-гребенчатой керамикой Примокшанья с архаичным этапом Льяловской культуры Волго-Окского междуречья. По его мнению, фрагменты сосудов обладающих архаичными чертами, хотя и присутствуют на некоторых памятниках Примокшанья, но они не многочисленны и, как правило, происходят из комплексов которые в целом не обладают всем набором архаичных признаков, выглядят более поздними и сопоставимы с ранним этапом Льяловской культуры ( С.А. Кондратьев, 2011, стр.19-20).
Однако такая позиция представляется не вполне подкрепленной доказательной базой.
Объективно нужно признать, что критерии выделение архаичного этапа Льяловской культуры, точнее критерии разделения архаичного и раннего этапов культуры разработаны крайне слабо. И далеко не всегда мы с уверенностью можем сказать, какой из памятников относится к архаичному , а какой к раннему этапам. Дело усугубляется еще и смешанностью горизонтов культурного слоя и пр. факторами. Да и вообще сомнительна четкая грань между архаичной и ранней Льяловской керамикой.
Именно в данном регионе мы имеем такой пример ( и он в целом не единственный), когда авторы , основываясь на типологии керамики, относят наиболее древние памятники Льяловской культуры к ее раннему этапу, но при этом отмечают, что полученные радиоуглеродные даты более сопоставимы с ее архаичным этапом (А.А. Выборнов и др.,2009,стр.284).
Диапазон абсолютных дат Льяловской культуры для региона приведен выше, а вот ее наиболее ранние датировки. Более того, авторами проведена уникальная работа и указанные даты удалось связать с теми или иными типами орнамента на Льяловской керамике: Утюж-I (горизонтальные оттиски гребенчатого штампа, разделенные одним рядом конических в разрезе ямок)-6080+-90 л.н., 5940+-90 л.н.; Черненькое Озеро-III (ряды наклонных оттисков гребенчатого штампа, разделенные одним рядом конических в разрезе ямок)-6040+-90 л.н.,5840+-80 л.н. ; Вьюново Озеро-II ( ряды наклонных оттисков гребенчатого штампа
и ряды наклонных оттисков «плюсневого штампа», разделенные одним рядом конических в разрезе ямок) — 6085+-90 л.н., 5965+-90 л.н. ( А.А. Выборнов и др.2009, стр.284).
Если обратиться к данным, полученным при помощи С14 для Волго-Окского региона, то картина будет следующей: комплекс в Языково ( Кашинский р-н Тверской области) содержащий архаичную и раннюю керамику Льяловской культуры имеют несколько дат в диапазоне 6280+-120 л.н.- 5980+-120 л.н. (В.В.Сидоров,1980,стр.143), древнейшие Льяловские погребения на стоянке Сахтыш II А ( Ивановская область) совершены в интервале 6130+-120-5820+-200 л.н. (Е.Л. Костылева и др.,2008, стр.9-10), культурный слой с архаичной и ранней Льяловской керамикой поселения Воймежное-I (Московская область) имеет даты 6100+-50 л.н.,6000+-40 л.н. и 5990+-50 л.н.( А.В. Энговатова и др.,1998), со стоянки Озерки-V (Тверская область) происходит дата 5930+-200 л.н. (М.Г.Жилин,1996, стр.118-126) и т. д.
Абстрагируясь от вопроса корректности всех этих дат, обращает на себя внимание большое вероятностное отклонение в случаях с Языково, Сахтыш-II А и Озерки-V.
Автор этих строк разделяет существующее мнение о том, что абсолютные даты в количествах лет сами по себе очень мало что значат. Необходима качественная калибровка данных. Пока калиброванные значения мы имеем только в случае с Примокшаньем и Среднем Поволжьем, благодаря скрупулезной работе А.А. Выборнова и его коллег ( А.А. Выборнов и др., 2009, стр.283). Но тот же А.А. Выборнов и др. исследователи в своих публикациях калиброванные значения не используют.
Соответственно и критический анализ приходится проводить на основании «рабочего материала», т. е. в количестве лет.
Делая поправку на вероятностные отклонения величин по Волго-Окскому региону, складывается впечатление, что все эти памятники архаичного и раннего этапов Льяловской культуры Волго-Окского междуречья, и региона с бассейном Нижней Оки, Примокшаньем,
Посурьем и Средним Поволжьем практически синхронны во времени.Существенного временного градиента нет ни в одну ни в другую сторону.
Итак, если вернуться к основным выводам Ю.Б. Цетлина, то археологические доказательства сосуществования и контактов носителей Верхневолжской и Льяловской культур на сегодняшний отсутствуют. Нет пока и подтверждения более ранним Льяловским комплексам в Нижнеокском регионе и на сопредельных территориях по отношению к центральным районам Волго-Окского междуречья. Более того, согласно мнения ряда авторов, появление здесь Льяловской культуры , в конечном счете, связывается с Волго-Окским междуречьем. Тем не менее, какие-то районы этого абстрактного бассейна Нижней Оки (например на Левобережье и не только ) могли входить в зону формирования Льяловской культуры, что будет частично согласоваться как с выводами Ю.Б. Цетлина, так и с выводами С.А. Выборнова, С.А. Кондратьева и др.о распространении ее носителей по крайней мере для обширной области бассейна Нижней Оки.Но это не более, чем предположение.
Наконец, существует еще одна точка зрения, согласно которой в генезисе Льяловской культуры приняло участие как пришлое, так и местное население.
В публикации, посвященной результатам исследования многослойного поселения Озерки-V, М.Г. Жилин указывал, что в верхней части культурного слоя II доминировала гребенчатая керамика финала Верхневолжской культуры. Вместе с ней встречена и гребенчато-ямочная с поясками конических ямок, отпечатками гребенчатого и зубчатого штампа и различными ямчатыми вдавлениями, нанесенными костями животных.
По мнению М.Г. Жилина, эта керамика возникает в результате смешения керамических традиций Северо-Запада Восточной Европы и финальной Верхневолжской культуры и может считаться протольяловской. Для нее, как и для поздней Верхневолжской,характерна обильная примесь дресвы ( М.Г.Жилин,1996 стр.118-126; М.Г. Жилин и др.,2002, стр.43-45).
Рис.4. Керамика финальной Верхневолжской культуры.
Довольно подробно, хотя и в виде тезисов, обоснование такой версии изложено в работе Е.Л.Костылевой и А.В.Уткина . Авторы полагают, что имело место не массовое переселение, а постепенное проникновение отдельных групп разнокультурного северного населения и смешение его с поздневерхневолжским, в результате чего образовалась новая, собственно Льяловская культура, сочетавшая как пришлые, так и местные элементы. Приток северного населения продолжался и в раннельяловское время, так же как и обратное продвижение на Север. (Е.Л. Костылева и др. 2000).
Аргументы Е.Л. Костылевой и А.В. Уткина сводятся к следующему:
1.Сходство финального этапа Верхневолжской культуры с ранней стадией Льяловской чисто внешнее. Оно определяется , в основном, только по керамическим материалам, но при их анализе не прослеживается ни морфологической, ни технологической преемственности между ними. Здесь,по мнению авторов, очень много различий в деталях: не совпадают формы срезов венчиков сосудов, характер обработки поверхности,принципы орнаментации и
элементы орнамента (на поздней Верхневолжской доминируют оттиски длинного гребенчатого штампа и отсутствует коническая в разрезе ямка, на ранней же Льяловской наоборот, ямки имеют коническую в разрезе форму, а гребенчатые оттиски исключительно короткие) (Е.Л. Костылева и др. 2000).
Появление северного компонента находит отражение в немногочисленных, но легко узнаваемых материалах Волго-Окского междуречья. Керамика северного облика на поселениях указанного региона крайне малочислена. Она сопоставима с посудой культур типа Сперрингс и Сяряйсниеми -I. Обычно эту керамику на памятниках Волго-Окского междуречья относят к или к архаичному или к раннельяловскому типам.Однако,если считать ее возникшей на основе керамики Верхневолжской культуры, то необходимо будет объяснить ее появление на северо-западе Восточной Европы.Вряд ли это может рассматриваться как результат миграции из Волго-Окского междуречья, т. к. именно на территории Финляндии, северной Норвегии, Кольском полуострове и в Карелии расположены ее основные памятники (Е.Л. Костылева и др. 2000).
Рис.5. Керамика архаичной и ранней Льяловской культуры в т.ч. с т. н. «северными элементами» орнамента.
Забегая вперед, нужно заметить, что вышеприведенные примеры, пожалуй, являются единственным существенным доводом в пользу участия «северного компонента» в формировании Льяловской культуры. Но доводом не бесспорным и который требует своего дальнейшего изучения и объяснения.
Важно, что изменения в керамическом материале происходят на поздних-финальных стадиях именно Верхневолжской культуры: обильная примесь дресвы в тесте глины, появление коротких оттисков гребенчатого штампа, конических в разрезе ямок и т.п.
2.Далее, согласно точке зрения авторов, существенны различия в орудийных наборах,особенно в вооружении Верхневолжской и Льяловской культур. Верхневолжские мелкозубчатые гарпуны и фигурные наконечники из кости несопоставимы с Льяловскими гарпунами,имеющими редкие клювовидные зубцы, и короткими биконическими костяными наконечниками стрел. В раннельяловских слоях постоянно встречаются кремневые наконечники копий и дротиков с двусторонней обработкой, в Верхневолжских же они отсутствуют или сомнительны.У носителей Верхневолжской культуры на всем протяжении ее развития сохраняется техника изготовления ножевидных пластин и орудий на них, чего не наблюдается в Льяловской культуре (Е.Л. Костылева и др. 2000).
Ели рассматривать вышеизложенный довод объективно, то все далеко не столь однозначно.
В ряде случаев складывается несколько иное впечатление.
В.В.Сидоров писал о промежуточных слоях между Верхневолжским и классическими Льяловскими пластами отражающими переход, трансформацию одной культуры в другую.
Эта промежуточность, по мнению автора, проявляется во всем - в характере стоянок и т. д., типах и технологии каменных орудий ( В.В. Сидоров,1990, стр.109).
По мнению А.В. Энговатовой, устанавливается некая преемственность в составе типов орудий между Верхневолжскими и Льяловскими слоями ( А.В. Энговатова, 1997, стр.91).
Что касается позднего этапа Верхневолжской культуры, то пластины и изделия из них редки, хотя еще встречаются наконечники стрел и ножи из пластин. Распространяются двусторонне ретушированные наконечники стрел, наряду с обработанными краевой ретушью. Появляются единичные наконечники дротиков и ножи со спинкой, полностью обработанной широкой пологой ретушью. Среди костяных наконечников преобладают игловидные и короткие, приближающиеся к биконическим ( А.В.Энговатова и др.,1998).
Известны в Верхневолжской культуре и гарпуны с редко поставленными зубцами (Д.А.
Крайнов, 1996, стр.169).
Теперь о пластинчатой технике изготовления кремневых орудий, точнее ее отсутствии в каменной индустрии Льяловской культуры. Выше уже говорилось о существенном уменьшении доли кремневых пластинчатых орудий на поздних этапах Верхневолжской культуры.Но и это еще не все. На торфяниковой стоянке Воймежное-I, в горизонте культурного слоя с Верхневолжской керамикой, орудия из пластин отсутствовали вообще
(В.В. Сидоров, 1977, стр.70; А.В.Энговантова,1997, стр.90-91 ). И это при том, что по определению авторов, указанный культурный слой на поселении Воймежное-I относится не к позднему, а к среднему этапу развития Верхневолжской культуры ( А.В.Энговатова и др., 1998).
И тут вряд ли уместны какие-либо параллели с каменной индустрией культур типа Сперрингс, хотя Е.Л. Костылева и А.В. Уткин прямо об этом и не говорят.
Действительно в культуре Сперрингс технология изготовления орудий из ножевидных пластин почти отсутствует ( Н.В. Лобанова, 2006,стр.119).Но это связано прежде всего с сырьем для изготовления каменных орудий. Территория распространения культуры бедна кремнем. Поэтому, как отмечают исследователи, основными видами сырья служили сланец, кварц, лидит, изредко роговик. ( С.В.Ошибкина, 1996, стр.212; Н.В.Лобанова, 2006, стр.119).
Пластинчатая техника изготовления орудий при таких типах сырья просто невозможна.
Орудия из кремня изготовлялись только там, где имелись его выходы. С.В. Ошибкина отмечала, что в культуре Сперрингс наконечники копий и дротиков представлены
отдельными экземплярами, а наконечники стрел очень редки, но среди последних есть т. н. «оленеостровские типы» ( т. е. изготовленные из ножевидных пластин — прим. мое) .Среди орудий много сланцевых топоров, тесел и долот ( С.В.Ошибкина, 1996, стр.212, 214).
Таким образом маловероятно чтобы каменная индустрия культуры Сперрингс могла явиться основой для кремневой индустрии Льяловской культуры, первая развивалась на совершенно иной сырьевой базе.
О костяных изделиях культуры Сперрингс сказать ничего нельзя. По причине природно-почвенных условий они практически не сохранились.
3.Е.Л. Костылева и А.В. Уткин считают, что в пользу северных связей неолита Волго-Окского междуречья свидетельствуют и изредка встречающиеся здесь графические изображения водоплавающих птиц (уточек) на сосудах.Такие изображения характерны для северо-западных регионов, где они фиксируются уже на посуде Сяряйсниеми-I. Одновременно с ними в комплексах среднего неолита Волго-Окского междуречья появляются единичные находки глиняных фигурок — эмбрионовидных и орнитоморфных, аналогии которым известны на Севере на поселениях Сперрингс (Е.Л. Костылева и др. 2000).
Изображения водоплавающих птиц на керамике Льяловской культуры нельзя принять в качестве существенного аргумента. Действительно такого рода рисунки встречаются и на сосудах самой Льяловской культуры и на керамике культур Льяловского круга. И чем дальше от Волго-Окского междуречья на север, тем они встречаются чаще.Но такие рисунки относятся к более поздним этапам развития культуры. На архаичной и ранней Льяловской посуде ничего подобного неизвестно. Тем более, что в своей работе и сами авторы говорят о комплексах среднего неолита.
4.Как отмечают Е.Л.Костылева и А.В.Уткин, в этой же связи представляет интерес находки сланцевых мотыг и клевцов на поселениях Льяловской культуры. Согласно авторам, ни до, ни после льяловского времени подобная форма орудий на данной территории не встречается.Авторы затрудняются дать однозначный ответ на то являются ли указанные орудия собственно льяловским изобретением, либо возникают где-то на другой территории, но склонны считать их родиной Карелию.В пользу последнего, по их мнению, свидетельствует то, что в Карелии изделия близкого типа встречаются уже в позднем мезолите и продолжают бытовать в неолите (Е.Л. Костылева и др. 2000).
Вряд ли на сегодняшний день можно говорить о каком либо привнесении сверленых клевцов и мотыг на территорию Волго-Окского междуречья, либо их появления здесь в период формирования Льяловской. Обломок сверленного клевца или топора обнаружен в раннемезолитическом слое стоянки Замостье-V в Московской области ( А.Н. Сорокин, 2009, стр.86). Таким образом изделия подобного рода также представлены в Волго-Окском междуречье уже с раннего мезолита.
Рис.6. Обломок сверленого топора или клевца. Мезолит. Замостье-V
5.Очень важным фактом в пользу данной гипотезы, Е.Л.Костылева и А.В. Уткин считают появление в Волго-Окском регионе грунтовых захоронений, поскольку, согласно авторам, ничего подобного в дольяловское время здесь не было.Ни мезолитические,ни ранненеолитические погребения , несмотря на достаточно хорошую изученность многих памятников до сих пор не выявлены. Напротив, на северных и северо-западных территориях эта традиция фиксируется уже с раннего мезолита и продолжает существовать на протяжении всего неолита (Е.Л. Костылева и др. 2000).
Но следует отметить, что этому нет никаких прямых доказательств, да и косвенных тоже.
Конечно очень интересной и заслуживающей внимания является позиция авторов по погребению на стоянке Ивановское-VII , относимого к Верхневолжской культуре.Е.Л. Костылева и А.В. Уткин считают, что веские основания для отождествления указанного захоронения с Верхневолжской культурой отсутствуют , а по ряду признаков оно скорее относится к Волосовской культуре ( Е.Л. Костылева и др.,1997, стр.41-54).
Учитывая его безынвентарность и сложности в стратиграфической фиксации, вопрос о принадлежности данного погребения к Верхневолжской или Волосовской культурами можно решить только при помощи радиокарбонного анализа, а сейчас погребение следует относить к разряду сомнительных. Но тем не менее любые выводы об отсутствии обряда ингумации у носителей Верхневолжской культуры, как и противоположные, сегодня представляются преждевременными. Это первое.
Второе. Авторы говорят о хорошей изученности памятников Волго-Окского междуречья. Но это не вполне корректно, поскольку далеко не везде раскопки проведены широкими площадями.
И здесь можно ожидать много новых открытий. Так относительно недавно на Заболотском торфянике Московской области на поселении Минино-II обнаружен могильник эпохи мезолита ( А.Н. Сорокин, 2009, стр.87-92).
Таким образом эта точка зрения Е.Л. Костылевой и А.В. Уткина не находит подтверждения в ходе новых исследований по мезолиту региона.
Нет и никаких данных, позволяющих предполагать какое-либо заимствование идеи ингумации, либо самого погребального обряда носителями Льяловской культуры от северных культур типа Сперрингс.
Примечательно, что общее количество Льяловских захоронений Волго-Окского региона вообще и уж тем более раннего периода развития данной культуры ни в какое сравнение не идет с Северо-Западом и Севером Восточной Европы. К примеру, в одном только могильнике Сандермоха в Карелии обнаружено не менее ста захоронений культуры Сперрингс( С.В. Ошибкина,1996а, стр.220).
Судя по очертаниям могильных ям ( костяки погребений культуры Сперрингс не сохранились), все они совершены в вытянутой позе и почти все интенсивно окрашены красной охрой, погребальный инвентарь встречается в исключительных случаях ( С.В. Ошибкина, 1996а, стр.220).
Непосредственно в Волго-Окском регионе известно порядка 21 захоронения, относимых к ранней стадии Льяловской культуры, среди них есть как погребения с охрой, так без нее.Доминирующее положение костяков вытянутое.Но одном случае, поза погребенного скорченная на боку. Разнообразный погребальный инвентарь — явление довольно частое ( В.В. Сидоров,1190 а, стр.28-31; Е.Л.Костылева и др.2008, стр. 9-13).
Таким образом, даже поверхностное знакомство с погребальным обрядом Льяловской культуры и северных культур типа Сперрингс показывает как их общее сходство, так и различия.
6.Наконец, на приток населения в Волго-Окский регион, по мнению Е.Л.Костылевой и А.В. Уткина, указывает близкий антропологический тип северных неолитических насельников и собственно носителей Льяловской культуры.Сравнительный анализ из древнейших захоронений на Караваихе и из льяловских погребений на Сахтыше-II, II А и Ловцах-I демонстрирует их большое сходство: и те, и другие в массе своей брахикранны, имеют монголоидный облик или европеоидный с резко выраженными чертами большой монголоидной расы. А как известно наиболее древние черепа с подобными признаками зафиксированы в ряде позднемезолитических захоронений Оленеостровского могильника, что свидетельствует о проживании низкорослого населения с уплощенным лицом первоначально в северных лесах Восточной Европы, откуда его представители расселились на Верхнюю Волгу и в Прибалтику.
Указанное предположение о притоке в Волго-Окский регион с севера лапоноидного (монголоидного у авторов — прим. мое) населения в период формирования Льяловской культуры также представляются преждевременным. Антропологических данных по мезолиту Волго-Окского междуречья нет. Пока не проведен радиоуглеродный анализ, можно допускать принадлежность мужского черепа из погребения на стоянке Ивановское-VII к носителям Верхневолжской культуры, равно как и сомневаться в этом. Но даже в случае положительного ответа на вопрос, одного черепа явно недостаточно для антропологической характеристики всей ранненеолитической Верхневолжской культуры.
Более того, нам совершенно ничего не известно об антропологическом облике населения раннего неолита севера лесной зоны Восточной Европы, т. е. носителей культур типа Сперрингс и Сярайсниеми-I, по причине отсутствия костных остатков.
Пока можно констатировать лишь то, что Волго-Окский регион уже в неолите входил в зону распространения лапаноидного антропологического типа. И делать какие-то далеко идущие выводы здесь явно преждевременно.
Тем не менее, упомянутые выше изменения в керамической традиции показательны.
Архаичная Льяловская керамика это сосуды крупного или среднего размеров с обильной примесью дресвы в тесте глины. Гребенчатые элементы орнамента преобладают над ямочными. Под венчиками сосудов часто нанесен горизонтальный зигзагообразный поясок из оттисков гребенчатого штампа, в углах которого располагаются конические ямки. Другие элементы орнамента представлены разреженным ямочным орнаментом, ямки конические в разрезе и сочетаются с короткими, чаще косыми оттисками гребенчатого штампа. Часто в качестве разделительных зон между ямками используются оттиски т. н. «плюсневого штампа». В ряде случаев зафиксирован прием, когда оттиск гребенчатого штампа наносился с нажимом на один конец ( М.Г.Жилин и др., 2002, стр. 43-45). Такая керамика действительно находит аналогии в культуре типа Сярайсниеми-I и Сперрингс. Культура Сярайсниеми-I остается до сих пор практически не изученной. Как отмечала Н.В. Лобанова, совершенно неясны принципы выделения ее в отдельную культуру и доходит до того что одни и те же памятники относят то к культуре Сярайсниеми-I, то к Сперрингс, ряд исследователей рассматривают первую как вариант культуры Сперрингс ( Н.В. Лобанова, 2006, стр.120). Не все понятно и с датировками керамики типа Сярайсниеми-I.
В пользу данной гипотезы говорит еще и тот факт, что ряд специалистов по изучению культур эпохи неолита Северо-Запада отмечают явное сходство керамики позднего этапа Верхневолжской культуры с керамикой культуры Сперрингс ( например Н.В.Лобанова, 2006, стр.122 ).
Рис.8. Керамика культуры Сперрингс.
Рис.9. Керамика культуры Сперрингс.
Но и эта гипотеза имеет свои слабые стороны.
Прежде всего это то, что ее доказательная база в общем то может быть сведена лишь к указанному сходству керамического инвентаря и орнаментации сосудов: если
придерживаться указанной точки зрения о смешении и возникновении новой культуры, то совершенно необъяснимо почему это смешение традиций затронуло только керамику, точнее, в большей степени орнаментацию керамических сосудов финальной Верхневолжской-архаичной Льяловской культур и не отразилось ни на чем больше.
Непонятно также и то, что сильные изменения в керамическом комплексе коснулись в основном Верхневолжской культуры, в результате чего она прекращает свое существование
и дает начало новой культуре — Льяловской. Культура Сперрингс при этом продолжает развиваться и, в дальнейшем, ее носители на территории Северо-Запада контактируют уже с носителями ямочно-гребенчататых керамических традиций ( Н.В. Лобанова, 2006, стр.119, 127,128).
Все-таки нельзя игнорировать и большую разницу между культурой типа Сперрингс и культурами Льяловского круга. Н.В. Лобанова указывает, что в сущности здесь мы видим две глубоко различные традиции, проявляющиеся даже в мелочах. Это касается и выбора сырья для производства каменных орудий и ассортимента каменных изделий и даже способа изготовления глиняных сосудов ( Н.В. Лобанова, 2006, стр.127,128).
И, наконец многие близкие аналогии орнаменту на архаичной Льяловской культуре можно найти не только на севере - в керамики культуры типа Сперрингс, но и в диаметрально противоположных районах, например на Верхнем Дону и т. д. Просто статус такой керамики до сих пор полностью не определен.
В какой-то степени это также справедливо и в обратном направлении т. е. для самой культуры Сперрингс.
На сегодняшний день убедительных ответов на вышепоставленные вопросы мы не имеем.
Дополнительного изучения и осмысления требует не только сама проблема возникновения Льяловской культуры но и вопрос на каких еще территориях ( помимо Волго-Окского междуречья) это могло происходить. Пока, в основном, наблюдается тенденция объяснения ее памятников за пределами региона миграционными процессами. Это самое простое объяснение, но нельзя быть уверенным, что во всем правильное.
Помимо Волго-Окского региона , поселения с архаичной и ранней керамикой Льяловской культуры распространены на огромной территории. Расстояние между окраинами этого ареала составляет никак не меньше 1100-1200 км.
Выше уже рассматривались регионы Сурско-Мокшанского междуречья. В связи с отсутствием материалов Верхневолжской культуры в Примокшанье и Посурье и на основе технологического исследования формовочных масс керамики, авторы, изучающие местный неолит не видят возможности автохтонного происхождения здесь Льяловской культуры и в конечном итоге ее появление связывают с миграционными процессами из Волго-Окского междуречья ( С.А. Кондратьев, 2011, стр.18 и др.).
Но тем не менее по имеющимся радиокарбонным датам получается, что ранние Льяловские памятники региона синхронны аналогичным Волго-Окского междуречья.
В Карелии памятники с ранней ямочно-гребенчатой керамикой в основном локализуются в ее юго-восточной части. Орнамент состоит из круглых конических в разрезе ямок , разделенных горизонтальными поясками, выполненными в отступающей манере оттисками палочки или косточки ( Н.В. Лобанова, 2006, стр.124) (т. н. «плюсневый штамп»-прим.мое) Подобная керамика находит полные аналогии в архаичной и ранней Льяловской посуде Волго-Окского междуречья. Наиболее ранние даты происходят со стоянки Черная Речка-I на восточном побережье Онежского озера : 6200+-110 л.н., 5950+-110 л.н.,5800+-110 л.н. ( С.В. Ошибкина, 1996а, стр.218). А также Черная Речка-II — 5930+-80 л.н. ( И.В. Витнекова, 2011, стр.114).
Абсолютные даты также совпадают с Волго-Окскими, на что также справедливо указывала и Н.В. Лобанова ( Н.В.Лобанова, 2006, стр.131). Происхождение этих ранних Льяловских памятников в Карелии скорее остается невыясненным. Хотя И.В. Витенкова, по ее собственным словам, на основании изучения литературы и приходит к выводу о ее пришлом характере (И.В. Витенкова, 2011, стр.115).
Поселения с архаичной и ранней Льяловской керамикой в т.ч. и с оттисками «плюсневого штампа» известны также на в Похоперье Верхнем и Среднем Дону, на р.Воронеж и т. д. (А.Н. Бессуднов и др., 2008, стр. 130,132 ; В.В. Ставицкий, 2008, стр.119-120).
Прихоперская ямочно-гребенчатая керамика находит аналогии в Льяловской керамике архаичного этапа (В.В. Ставицкий, 2006, стр.13).
Рис.10. Керамика ранней Льяловской культуры с поселений Донского региона.
Наиболее распространенная на сегодняшний день точка зрения о происхождении памятников с ямочно-гребенчатой керамикой на Верхнем и Среднем Дону высказана В.В. Ставицким, который отмечал, что происхождение лесостепных памятников с ямочно-гребенчатой керамикой традиционно связывается с миграциями населения из Волго-Окского междуречья. Данные памятники подразделяются на две культуры: Рязано-Долговскую и Рыбноозерскую. Рыбноозерская керамика практически идентична раннельяловской и ее распространение связано с миграциями Льяловских племен.Весь комплекс ее материалов находит практически полные аналогии в раннельяловской керамике, а все то, что в ней имеется нового, связано с контактами с раннеэнеолитическими культурами лесостепной зоны ( В.В. Ставицкий, 2006, стр.13-15).
Таким образом существование самостоятельной Рыбноозерской культуры ставится под сомнение, что в принципе разделяется и другими авторами (А.Н. Бессуднов и др., 2008, стр.132).
Помимо всего этого, своеобразная культура с ямочно-гребенчатой керамикой формируется на Левобережье Северной Украины.
Рис.11. Ямочно-гребенчатая керамика Северной Украины.
Не касаясь процессов формирования этой культуры, хотелось бы очень кратко рассмотреть мнения исследователей о появления первых носителей ямочно-гребенчатых традиций на этой территории.
Н.В. Неприна придерживалась версии об их автохтонном возникновении (Н.В. Неприна, 1976). В настоящее время ее взгляды разделяются далеко не всеми.
С Н.В. Неприной был несогласен А.Т. Синюк. Истоки культуры с ямочно-гребенчатой керамикой лесостепных регионов он видел на севере, в Волго-Окском междуречье ( А.Т. Синюк, 1986, стр.145-146).
Согласно В.В. Сидорову и А.В.Энговатовой,причиной появления памятников с ямочно-гребенчатой орнаментацией керамики на Дону и на Северной Украине послужили миграционные процессы из Волго-Окского региона (В.В. Сидоров и др., 1996, стр.179). Продвижение носителей Льяловской культуры в Подонье и на Северную Украину предполагается и другими авторами ( например А.Н. Бессуднов и др.,2008 стр.131).
Довольно противоречиво по всем этим вопросам высказался В.В. Ставицкий.
Рассматривая проблему сложения памятников Эсманьского типа (последующее развитие культуры ямочно-гребенчатой керамики на Северной Украине — прим.мое) в интерпретации Н.В. Неприной, В.В. Ставицкий между тем пишет, что одной из древнейших областей зарождения ямчатых традиций орнаментации является Верхнее Поднепровье. Сосуды с ямчатыми вдавлениями появляются здесь уже на ранненеолитических поселениях верхнеднепровской культуры. Для данной керамики характерно использование и жемчужных отпечатков, которые всегда располагаются под венчиком. В раннем неолите Поднепровья можно найти аналоги большинству признаков, которые получают распространение на ямочно-гребенчатой керамике лесостепной зоны, что является дополнительным аргументом в пользу ее автохтонного происхождения ( В.В. Ставицкий,2006, стр.15).
Здесь возникает противоречие не в смысле сказанного — представляется, что все подмеченно очень верно, а в том, что в этой же публикаци В.В. Ставицкий разделяет точку зрения о появлении культуры ямочно-гребенчатой керамики в лесостепной зоне в следствии продвижения ее носителей из Волго-Окского региона ( В.В. Ставицкий, 2006, стр.13-15). Это принципиальное противоречие , даже в том случае, если В.В. Ставицкий имеет ввиду только лесостепную культуру ямочно-гребенчатой культуры Украины.
Вероятно, все эти вопросы пока еще далеки от своего окончательного решения. Но вот объяснение такого широкого распространения Льяловской культуры уже на самых ранних ее этапах лишь миграцией, уже само по себе дает повод для серьезного осмысления, а, возможно и переосмысления проблемы.
Что касается лесостепных регионов в целом, то еще в 1986 г. А.Т. Синюк отмечал, что определенный набор керамических признаков обособляют Верхневолжскую и Среднедонскую неолитические культуры от всех других сопредельных образований и одновременно предполагает их более глубокую этноисторическую связь ( А.Т. Синюк, 1986, стр.140). И тут явно есть над чем задуматься.
В заключении хотелось бы отметить, что культура ямочно-гребенчатой керамики это макрокультура, а, точнее культурно-историческая общность, генетические корни которой, вероятно, восходят к еще более ранним общностям, равно как и к близости так и к возникающим различиям древнего населения от Балтики до Предуралья. И ставить точку в вопросе ее происхождения пока рано.
Литература:
А.Н. Бессуднов, Р.В. Смольянинов. Неолитические материалы с поселения Студеновка 3 на р.Воронеж./ Археология Восточноевропейской лесостепи, вып.2, т.1, Пенза 2008
И.В. Витенкова. Ямочно-гребенчатая керамика среднего неолита на территории Карелии./
Труды III (XIX) Всероссийского Археологического Съезда, Спб.,М.,В.Новгород 2011
А.А. Выборнов, С.А.Кондратьев.Новые радиоуглеродные даты по ямочно-гребенчатой керамике Среднего Поволжья./ Известия Самарского НЦ РАН, т. 11, №6, 2009
А.А. Выборнов, С.А.Кондратьев. К вопросу о соотношении гребенчатого и ямочно-гребенчатого комплексов в Примокшанье./ Известия Самарского НЦ РАН, т.12, №2,2010
М.Г.Жилин.Некоторые итоги раскопок поселения Озерки 5 в 1990-1994 гг. ТАС, вып.2,Тверь 1996
М.Г.Жилин, Е.Л.Костылева, А.В. Уткин, А.В.Энговатова. Мезолитические и неолитические культуры Верхнего Поволжья, М. 2002
С.А. Кондратьев. Культура ямочно-гребенчатой керамики Среднего Поволжья./ Автореферат кандидатской диссертации. Ижевск, 2011
Е.Л.Костылева, А.В.Уткин.Волосовские погребения на стоянке Ивановское-VII в Центральной России./ Историко-археологические изыскания, вып.2, Самара 1997
Е.Л. Костылева, А.В. Уткин. К вопросу о происхождении льяловской культуры./ Юбилейный сборник, посвященный 85-летию со дня рождения профессора Ю.А.Якобсона, Иваново 2000
Е.Л. Костылева, А.В. Уткин.Погребальные комплексы эпохи первобытности на Сахтышском торфянике./ Вестник ИвГУ, вып.4, Иваново 2008
Д.А.Крайнов,Н.А.Хотинский, Ю.Н.Урбан, Е.М.Молодцова. Древнейшая ранненеолитическая культура Верхнего Поволжья./ Вестник АН СССР № 5, М.1973
Д.А.Крайнов.Спорные вопросы неолита Центра Русской равнины./ Проблемы эпохи неолита степной и лесостепной зоны Восточной Европы ( тезисы докладов) ,Оренбург 1986
Д.А.Крайнов.Верхневолжская культура./Археология. Неолит Северной Евразии, М.1996
Н.В.Лобанова.Проблемы этнокультурной истории неолита Карелии./
В.И.Неприна. Неолит ямочно-гребенчатой керамики на Украине, Киев 1976
В.М. Раушенбах.Древнейшая стоянка льяловской культуры./ СА № 2, М.1964
С.В. Ошибкина. Культура сперрингс./Археология. Неолит Северной Евразии, М.1996
С.В. Ошибкина. Карельская культура./Археология. Неолит Северной Евразии, М.1996а
А.Н.Сорокин.Заболотский торфяник: находки и проблемы/ АО 1991-2004 гг.,М.2009
В.В. Сидоров. Раскопки в Московской Мещере./АО 1976 г., М.1977
В.В. Сидоров, А.В. Трусов. Луково Озеро I- стоянка льяловской культуры./ Советская археология № 2, М.1980
В.В Сидоров.Льяловская культура западной части Волго-Окского междуречья./ Автореферат кандидатской диссертации, М.1986
В.В. Сидоров. Многослойные стоянки Верхнего Поволжья./ Волго-Окская экспедиция,
М.1990
В.В. Сидоров.Погребения льяловской культуры в Подмосковье./ АПВКМ, вып.4, Иваново1990
В.В. Сидоров. Рецензия на монографию «Ю.Б. Цетлин.Периодизация неолита Верхнего Поволжья»./ РА № 1, М.1998
В.В.Сидоров, А.В. Эговатова. Протоволосовский этап или культура?/ТАС, вып.2, Тверь1996
А.Т. Синюк. Население бассейна Дона в эпоху неолита. Воронеж 1986
В.В. Ставицкий. Неолит, энеолит и ранний бронзовый век Сурско-Окского междуречья и Верхнего Прихоперья: динамика взаимодействия культур севера и юга в лесостепной зоне./Автореферат докторской диссертации, Ижевск 2006
В.В. Ставицкий. О некоторых дискуссионных проблемах изучения Похоперского неолита./
Археология Восточноевропейской лесостепи, вып.2, т.1, Пенза 2008
А.В. Сурков. Проблемы культурной интерпретации неолитических памятников лесостепного Подонья, Воронеж 2007
Ю.Н.Урбан. К вопросу о ранненеолитических комплексах в Калининском Поволжье. /Восточная Европа в эпоху камня и бронзы, М.1976
Ю.Б. Цетлин.Периодизация неолита Верхнего Поволжья, М.1991
Ю.Б.Цетлин.Неолит Центра Русской равнины. Орнаментация керамики и методика периодизации культур./Автореферат докторской диссертации, М.2007
А.В. Энговатова. Древние охотники и рыболовы Подмосковья, М.1997
А.В.Энговатова.Хронология эпохи неолита Волго-Окского междуречья./Тверской Археологический Сборник, вып.3,Тверь 1998
А.В.Энговатова, М.Г.Жилин, Е.А.Спиридонова. Хронология верхневолжской ранненеолитической культуры ( по материалам многослойных памятников Волго-Окского междуречья)./ РА № 2, М.1998
#15

 Опубликовано 22 Январь 2015 - 14:16
Опубликовано 22 Январь 2015 - 14:16

Спасибо за публикацию. Меня вот в частности очень интересовала история поселений в этом районе. Хочу заметить, что среди местного населения, этот исторический период сильно мифологизирован. Но, с историей угро-финнов, проживавших на этой территории не все ясно. В частности, насколько они ассимилировались, вытесняемые славянами? Была ли вообще ассимиляция или же они просто были вынуждены сняться с места?
#16

 Опубликовано 28 Январь 2015 - 22:38
Опубликовано 28 Январь 2015 - 22:38

Кто такие угро-финны? Я знаю лишь финно-угров. Чи ви Украины?
#17

 Опубликовано 08 Февраль 2015 - 19:25
Опубликовано 08 Февраль 2015 - 19:25

Я ни тех, ни других не знаю, ибо ассимилировались
#18

 Опубликовано 08 Февраль 2015 - 20:50
Опубликовано 08 Февраль 2015 - 20:50

Янин, к примеру, в своих публикациях активно использует термин угро-финны.
#19

 Опубликовано 10 Февраль 2015 - 16:54
Опубликовано 10 Февраль 2015 - 16:54

Таким образом, нет оснований говорить ни о миграциях угро-финнов на запад, ни о миграциях на восток.
#21

 Опубликовано 08 Апрель 2019 - 06:32
Опубликовано 08 Апрель 2019 - 06:32

Собственно в чем я и сейчас не согласен с мнением В. Напольских, так это в том, что он в своей известной публикации (1996 г.) связывал распространение ФУ языков с миграцией с востока сообществ Волосовской культурой. Сейчас совершенно ясно, что восточные (Средневолжские) т.н. Волосовские древности и Волосовская культура Волго-Окского региона это два совершенно различных по происхождению культурных горизонта, причем вторая распространялась с Запада/Северо-Запада на восток. Возможно между ними и были какие-то интеграционные процессы в рамках довольно условной общности культур пористой керамики, но вектор миграционных процессов в это время имел противоположное направление.
КИО Культуры сетчатой керамики эпохи бронзы опять же порождение Волго-Окского региона и Северо-Запада. Причем, здесь прослеживается довольно мощный след того, что раньше называли Фатьяноидными древностями, впоследствии пришло понимание, что в данном случае мы имеем дело с совершенно самостоятельной Чирковской культурой.
Чирковская культура непосредственно предшествует Культурам сетчатой керамики эпохи бронзы. Ее происхождение неясно. Пока предполагается, что в ее формировании принимали участие носители позднефатьяновских/позднебалановских культурных традиций, абашевские сообщества, представители Примокшанских культур и много других. И формировалась она где-то восточнее Волго-Окского региона. Культура распространилась на огромной территории от Прикамья по Прионежья, Приладожья и далее. Если вернуться к вышеуказанной гипотезе В. Напольских о распространении ФУ языков на Запад, то носители Чирковской культуры больше других подходят на эту роль ( в рамках гипотезы В.Напольских, конечно). В процессе своего возникновения и дальнейшего развития, Чирковские сообщества вполне могли стать ФУ-язычными. Интересно, что где-то до начала 90-х гг. 20 века, Чиркрвская культура в Волго-Окском регионе некоторыми исследователями воспринималась как Абашевская ( это помимо расплывчатых "Фатьяноидных древностей"). Во всяком случае такая трактовка возражений не вызывала. Время Чирковской культуры это время СТФ. Могу предположить, что обладателями сейминско-турбинского металла стали не только, а может быть даже не столько абашевцы, но и чирковцы. И кто там был похоронен в могильнике на Сейме тоже большой вопрос.
Что еще можно сказать о близких по времени процессах, которые можно было бы связать с распространением ФУ-языков? На Севере Европейской равнины и далее прослеживается мощное влияние Ананьинской культуры. Как один из примеров: т.н. поздний этап Каргопольской культуры (ее начало связывают с КИО ямочно-гребенчатой керамики) ни к ямочно-гребенчатым ни к волосоидным древностям отношения не имеет. Здесь доминирует Ананьинский импульс. Это что касается явного. Но это РЖВ. А так импульсы из Прикамья на Запад начались несколько раньше
- "Спасибо" сказали: Tora_sama
#22

 Опубликовано 22 Май 2021 - 00:49
Опубликовано 22 Май 2021 - 00:49

К этой теме больше всего подходит. Ну и относительно свежая по времени информация. Мне вот не нравится, что Напольских совершенно не ставит в счёт генетику, хотя широкое генетическое исследование носителей финно-угорских языков, дало бы ответы на многие вопросы.
Сообщение изменено: Tora_sama, 22 Май 2021 - 00:53.
- "Спасибо" сказали: von Koren и parastais
#24

 Опубликовано 02 Январь 2023 - 13:40
Опубликовано 02 Январь 2023 - 13:40

Как можно представить схематично этногенез финно-угорских народов? Тут я не могу похвастаться особенно глубокими знаниями, поэтому интересно мнение тех, кто разбирается лучше.
Если ориентироваться на Напольских, то все восходит к культуре сетчатой керамики (КСК).
1. Для прибалтийско-финнских народов примерно так: взаимодействие локальных вариантов КСК с культурой штрихованной керамики+взаимодействие с культурой каменных курганов с ящиками. Все вместе это образует культуру каменных могильников с оградками , а от нее уже можно вывести эстонцев, финнов, вепсов, ижору, карелов, водь, сету, ливов.
2. Взаимодействие КСК с культурой асбестовой керамики породило саамов.
3. Локальные варианты сетчатой керамики (+бондарихинская?) в Поволжье породили городецкую культуру. От нее уже можно вывести эрзю и мокшу. Примерно такой же путь у мери и марийцев. Возможно и у муромы.
4. Локальные варианты КСК+приказанская(?) = ананьинская культура. От нее восходят пермские народы - коми и удмурты.
Недавние генетические исследования, кажется, позволили довольно наглядно представить историю этих народов. Известно, что большую роль играл компонент эстонской бронзы и компонент, похожий на образец бронзового века из Красноярского края.
В свой калькулятор бронзового века я добавил наиболее типичных EHG.
Что тут видно согласно этим пунктам.
1. Прибалтийско-финские народы более или менее хорошо соответствуют предложенной выше схеме. В основе - эстонская бронза. Влияние красноярской бронзы минимальное. Шведская бронза, вероятно, маркирует германские влияния (каменные курганы с ящиками?). Но если я не ошибаюсь и не путаю, то культура каменных могильников с оградками (тарандов) что-то генетически ближе к балтам и славянам, даже ближе к последним. Нет ли тогда тут противоречий?
Шведская бронза максимально выражена у финнов. У них германское влияние вряд ли можно поставить под сомнение.
2. У саамов максимально выражены EHG. Вероятно, это наследие асбестовой керамики. Тут наверное соответствует.
3. Этногенез мери, мокши, эрзя, вероятно, был более сложным. Определенно, он включил еще что-то южное - похожее толи на славян, толи на иранцев.
4. Для коми наверное еще можно предполагать позднее славянское влияние. По компонентам они выглядят довольно сложным народом. Но если мы будем совмещать эстонскую бронзу и красноярскую бронзу, то что-то комиподобное получим. Думаю, что если к этому коктейлю добавить славян, то коми и получатся.
Венгров, удмуртов и марийцев не берем.
В конечном итоге, всё так или иначе восходит к двум компонентам. Один западный, должен быть как-то связан с эстонской бронзой (не обязательно с ней конкретно, но с регионами западной России, Беларуси, Прибалтики, Украиной). Второй, восточный, так или иначе приходит из-за Урала.
Как можно представить схематично финно-угорский этногенез, приняв во внимание генетику?
Еще наверное важный вопрос с происхождением сетчатой керамики. Участвовали ли в ее генезе фатьяновцы? Генетически их вклад вроде бы не виден. В недавней статье про рязано-окцев, например, вклад фатьяновцев исключили.
- "Спасибо" сказали: профессор Перзеев, parastais и КОВАЛЬ ЛЮДОТА
#25

 Опубликовано 02 Январь 2023 - 15:03
Опубликовано 02 Январь 2023 - 15:03

Еще наверное важный вопрос с происхождением сетчатой керамики. Участвовали ли в ее генезе фатьяновцы?
Непосредственно фатьяновцы / балановцы по всей вероятности нет. Тем не менее, по данным археологии в основе Культуры Сетчатой Керамики ( эпохи бронзы) прослеживается мощный фатьяноидный след и это факт. На сегодняшний день наверное более корректно говорить не о фатьяноидах, а о Чирковской культуре и древностях близких к Чирковской культуре, они прослеживаются вплоть до Эстонии, Финляндии, Онежского озера, возможно и севернее.Хотя есть исследователи по-прежнему называющие эти древности фатьяноидными, либо то фатьяноидными, то чирковскими одним и тем же автором. Любопытно, что само появление сетчатых отпечатков на поверхности сосудов ( в лесной зоне Европейской равнины) связано с культурами Волосовского круга и впервые появляются в позднем неолите Восточной Прибалтики ( Лубанская равнина). И распространение этого орнамента ( часто выполненного отпечатками гребенчатого штампа) по-видимому первоначально идет с северо-запада. Последующее формирование Культуры Сетчатой Керамики грубо схематично можно представить как смешение культур Волосовского круга с носителями чирковских или близких к чирковским древностей, в этот процесс оказываются вовлечены и мелкие локальные группы эпохи бронзы лесной зоны.Сюда же позднее вливается и часть сообществ Поздняковской культуры, испытавших на себе влияние Культуры Сетчатой Керамики. Важно, что там где нет культур Волосовского круга, не происходит и формироваание Культуры Сетчатой Керамики.Ну вот как-то так, если в двух словах.
- "Спасибо" сказали: Краки Нифлунг
#27

 Опубликовано 02 Январь 2023 - 17:33
Опубликовано 02 Январь 2023 - 17:33

2) греки тут видимо за славян отбиваются.
3) уже выше писал каменные курганы это Эстонская бронза, один из моих сюрпризов. След за Напольских я их тоже считал германцами. Но тут то было. Германцы в Прибалтийско-финских вошли где-то к 500 до нашей эры (первые образцы эстонского железа германской генетики не имели, а поздние уже имели).
- "Спасибо" сказали: Краки Нифлунг
#28

 Опубликовано 02 Январь 2023 - 17:50
Опубликовано 02 Январь 2023 - 17:50

Непосредственно фатьяновцы / балановцы по всей вероятности нет. Тем не менее, по данным археологии в основе Культуры Сетчатой Керамики ( эпохи бронзы) прослеживается мощный фатьяноидный след и это факт. На сегодняшний день наверное более корректно говорить не о фатьяноидах, а о Чирковской культуре и древностях близких к Чирковской культуре, они прослеживаются вплоть до Эстонии, Финляндии, Онежского озера, возможно и севернее.Хотя есть исследователи по-прежнему называющие эти древности фатьяноидными, либо то фатьяноидными, то чирковскими одним и тем же автором. Любопытно, что само появление сетчатых отпечатков на поверхности сосудов ( в лесной зоне Европейской равнины) связано с культурами Волосовского круга и впервые появляются в позднем неолите Восточной Прибалтики ( Лубанская равнина). И распространение этого орнамента ( часто выполненного отпечатками гребенчатого штампа) по-видимому первоначально идет с северо-запада. Последующее формирование Культуры Сетчатой Керамики грубо схематично можно представить как смешение культур Волосовского круга с носителями чирковских или близких к чирковским древностей, в этот процесс оказываются вовлечены и мелкие локальные группы эпохи бронзы лесной зоны.Сюда же позднее вливается и часть сообществ Поздняковской культуры, испытавших на себе влияние Культуры Сетчатой Керамики. Важно, что там где нет культур Волосовского круга, не происходит и формироваание Культуры Сетчатой Керамики.Ну вот как-то так, если в двух словах.
Как думаете, возможно, что представители чирковской культуры могли заметно генетически отличаться от фатьяновцев?
“ каменные курганы с ящиками?”
Это же Латвийская и Эстонская бронза. Stone cist graves.
По генетике турбобалты, R1a.
Занятно, я почему-то думал, что это уже попозже. Тогда получается, что каменные могильники с оградками (таранды?) и есть протоприбалто-финны. Каков культурогенез этой культуры? На русском информации мало, да и на английском. У них, кстати, шведская бронза уже есть.
(первые образцы эстонского железа германской генетики не имели, а поздние уже имели).
А, вот это интересно. Прогнал и вроде понятно какие поздние, а какие ранние.
греки тут видимо за славян отбиваются.
Ну да.
1) Может таки добавить либо Фатьяново либо других ранних Индоиранцев (Срубная, Синташта, и прочие), это должно разбавить германских.
Там где было много германцев, особой роли не сыграло. У остальных, думаю, что-то другое заменяет.
- "Спасибо" сказали: parastais
#29

 Опубликовано 02 Январь 2023 - 17:55
Опубликовано 02 Январь 2023 - 17:55

#30

 Опубликовано 02 Январь 2023 - 18:35
Опубликовано 02 Январь 2023 - 18:35

Как думаете, возможно, что представители чирковской культуры могли заметно генетически отличаться от фатьяновцев?
А кто его знает. Иногда кровь ( в смысле гены) тасуется самым причудливым образом. С одной стороны в материальной культуре чирковцев или носителей древностей близким к чирковским прослеживается преемственность с фатьяновско-балановскими сообществами, с другой ощущается влияние Абашесвкой культуры,а также древностей Ивановобугорского типа, и пр. Есть сходство и с Вольско-Лбищенскими памятниками. К тому же их ( в смысле чирковцнв) здорово "тряхнуло" в период СТФ, не меньше, чем абашевцев. И сейминской металлургией они также овладели.Что там было на уровне генетики пока неизвестно. В Волго-Окском регионе есть два чирковских / схожих с чирковскими погребения. Одно детское, по-видимому женского пола, на Сахтыше, второе мужское из Ловцов.По черепу последнего выполнена графическая реконструкция. Внешность у него довольно таки примечательная.

Графическая реконструкция по черепу из погребения на стоянке Ловцы.
- "Спасибо" сказали: Краки Нифлунг
Посетителей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей
 Вход
Вход Зарегистрироваться
Зарегистрироваться


 Наверх
Наверх